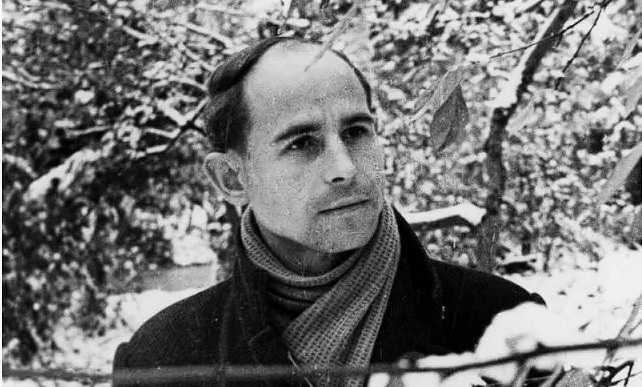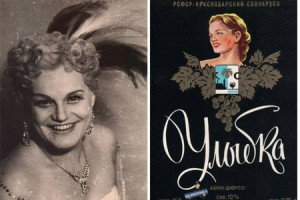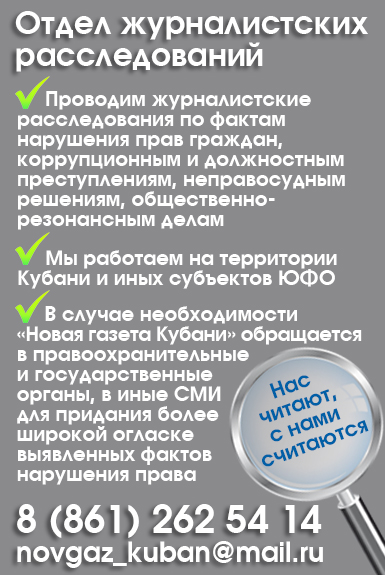Культурный проект «Родная речь»
507
Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли…
Николай Рубцов
При имени Николая Рубцова нас осеняет неотступная мысль о большом русском народном национальном поэте, появление которого по всем признакам было вроде бы невозможно и даже немыслимо после столь жестоких революционных, социальных потрясений и духовно-мировоззренческих насилий в России в двадцатом веке. Казалось, что такое чистое, поистине народное, с абсолютным правосознанием дарование уже не выберется из-под идеологических глыб, всё ещё господствовавших; искажений духовных и эстетических ценностей, нарушений их иерархии, свирепо навязываемого атеизма и искоренения народной православной веры. Поэтому современникам он представлялся поэтом ожидаемым, и в тоже время неожиданным… Видимо, действительно после долгих идеологических бесчинств в общественном сознании люди отвыкли от подлинной поэзии. Многими, даже считавшими себя литераторами, но находившимися в плену расхожих стереотипов, он оказался просмотренным. Причём, людьми, хорошо знавшими поэта и слышавшими к тому времени уже созданные им шедевры русской лирики. Это дало полное право Глебу Горбовскому честно заметить, что «многие, даже из общавшихся с Николаем, узнали о нём, как о большом поэте уже после смерти…».
Понятна причина неразличения, неузнавания современниками поэта, а значит и своего природного мира. Если обществу десятилетиями навязываются атеистические «революционные ценности», а не народные ценности, если всё народное жестоко подавлялось, как самая опасная крамола, всё еще не прекращающееся, то передовым и прогрессивным почитается всякий маргинал, бунтарь, диссидент, разрушитель, а не созидатель, не сын гармонии, к чему истинный поэт призван по самой своей природе. В таких условиях для того, чтобы стать «прогрессивным», достаточно уверовать в какие-то идеологические догмы, случайные и далёкие от народной культуры и народного самосознания. Отсюда – целые поколения писателей, в принципе не мыслящих образами и категориями литературными, словно перед ними не стоит непреходящим уроком и примером великая русская литература второй половины девятнадцатого века. Точно выразил это странное и печальное положение Юрий Кузнецов: «Три поколенья после Блока серы, соперника не родилось ему». Отсюда же – какое-то обывательское, позитивистское понимание явлений духовных, как, к примеру, в суждении Сергея Викулова о Николае Рубцове. Логика тут более чем проста – коль поэт ушёл из жизни рано, значит, он чего-то не успел: «К сожалению, поэт ушёл от нас слишком рано, и Талант его не успел раскрыться полностью». (Николай Рубцов, «Последний пароход», М., «Современник», 1973 г.). На самом деле всё обстоит как раз наоборот. Поэт потому столь рано и ушёл, что совершил всё, предназначенное ему судьбой, что талант его полностью раскрылся, и ему собственно ничего больше не оставалось здесь делать. И не его вина и беда в том, что созданное им, не стало достоянием общественного сознания вовремя. Если, конечно, судить о его судьбе по самой природе поэтического творчества, а не исходить из каких бы то ни было отвлечённых соображений. По такой логике у большинства русских поэтов талант (даже написанный с прописной буквы), «не успел раскрыться», ведь они почти все уходили рано… Но поэт обыкновенно свершает всё, ему предназначенное и вовсе не количеством прожитых лет определяется его творческий путь и подвиг. За таким расхожим суждением о поэте угадывается даже не естественное сожаление, а просто непонимание, нечувствование того, что он совершил…
Такое неразличение того, что сделано поэтом, особенно обидно и потому, что исходило и исходит оно от людей, которые, казалось, должны были постичь масштаб его дарования, так как было, кроме того, ещё одно нечувствование поэта – идейно-мировоззренческое, зачастую преднамеренное, выходящее из той ситуации в литературе, которая к тому времени сложилась и в которой Николаю Рубцову довелось жить и творить.
То же самое представление, но проявленное в иной форме, постоянно встречаемое в воспоминаниях о Николае Рубцове. Это – удивление якобы несоответствием стихов и его человеческого облика. Причём, в этом не стесняются признаваться даже литераторы. Приведу одно из многочисленных таких признаний, как наиболее характерное. Как видно по всему, одной из тех «экзальтированных девиц или дамочек», которые бегали в общежитие Литинститута «посмотреть на Рубцова», что раздражало поэта. Валентина Коростелёва все ещё воспроизводит своё давнее удивление: «Как, вот этот угрюмый, в серой, видавшей виды одежде… почти без волос… непонятный какой-то – и есть Рубцов?». («Российский колокол», № 1, 2006 г.). На это, какое-то и вовсе обывательское представление так и хочется возразить: а собственно, каким вы представляли поэта? Румяным, добрым молодцем, при галстуке и с визитными карточками? Так вы бегали «посмотреть на Рубцова» или послушать его стихи? И почему вообще столь назойливо возникает вопрос о таком «несоответствии»? Ясно, что за таким удивлением угадывается то, что поэт оценивался по второстепенным, а то и вовсе случайным признакам, но не по своему главному доводу – поэтическому слову. О, как понятно нам это «несоответствие» человеческого облика писателя и его духовной мощи, скажем, в судьбе Михаила Шолохова. Оказывается, оно не такое безобидное, так как десятилетиями позволяло мордовать доверчивую читательскую публику сомнениями в «авторстве» «Тихого Дона».
Закономерно, что, впадая в такое обывательское представление, поэтесса В. Коростелёва выдвигает абсолютно несуществующие с точки зрения литературы «проблемы»: «Николай Рубцов ушёл и оставил в наследство, кроме щемящих душу стихов, – две проблемы. Одна: устарела ли такая поэзия в век компьютеров и виртуальной реальности? И вторая: прощать ли убийцу поэта, за что ратуют и некоторые видные писатели?» Характерно это выведение поэзии из круга обсуждения: кроме стихов…
Что касается «прощения» убийцы, то юридическая оценка случившемуся дана и не подлежит сомнению. Ставить же этот вопрос в моральном плане можно было бы при условии, если бы происшедшую трагедию можно было бы поправить. Но, коль это невозможно, нравственная оценка её остаётся неизменной на все времена. Всякие же ссылки на наше время, как якобы отменяющее духовные и нравственные понятия являются или лукавством или следствием идеологической ангажированности и несамостоятельности мышления. И потом, как собственно представляется поэтессе это «прощение» убийцы «по-христиански»? Кто должен её прощать: дочь, общественность, церковь или «видные писатели», почему-то оказавшиеся заодно с убийцей, а не с поэтом?…
К сожалению, это сомнение в существовании поэзии «в век компьютеров и виртуальной реальности» нисколько не является новым. Так же точно в своё время сомневались в существовании поэзии в век паровозов, при этом непременно с придыханием произносимым: «В наше время, когда…». Как видим, эти обывательские суждения о поэте и абсолютизация своего времени, в конечном счёте, проистекает от недопонимания что ли, самого существа поэзии. Поэзия, как выражение живой души, всегда противостояла бездушному прогрессу, являющегося всего лишь средством, но не целью бытия человеческого. При этом, не отменяя и не покушаясь на него, но указывая ему истинное место в человеческой цивилизации. Вспомним Евгения Боратынского:
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья
Промышленным заботам преданы...
Как это перекликается с рубцовским пониманием в стихотворении «Поэзия»:
Теперь она, как в дымке, островками
Глядит на нас, покорная судьбе, –
Мелькнёт порой лугами, ветряками –
И вновь закрыта дымными веками…
Но тем сильней влечёт она к себе!
В начале миновавшего железного века эта проблема со всей остротой предстала перед Александром Блоком, как «цивилизация и культура». Но даже тогда А. Блок нисколько не усомнился в том, что дело поэта не устаревает, что сущность поэзии неизменна даже тогда, когда устаревает её язык…
Неужто, лишь степень сложности технических приспособлений является основанием для того, чтобы вновь усомниться в поэзии, не проявляя духовного стоицизма, истинному поэту свойственного и изменяя своему призванию?.. Ведь сами по себе сомнения в том, что «такая», то есть истинная поэзия устарела, уже являются её отрицанием.
Вот, что стоит за этим удивлением «несоответствия» стихов и человеческого облика поэта. Что уж говорить об обывателях от литературы, довольствующихся расхожими, стереотипными понятиями, если даже в стихах Станислава Куняева проявилось это противопоставление внешнего облика поэта и его духовной мощи:
Он выглядел
Как захудалый сын
Своих отцов –
Как самый младший,
Третий
Но всё-таки звучал высокий
смысл
В наборе слов его
И междометий.
О многом говорит это снисходительное «все-таки…»! Ведь за ним просматривается убеждение многих современных Николаю Рубцову поэтов, в том числе и его московских друзей, что он – один из них, такой же, как и они, а не единственный, с только ему предназначенной в русской поэзии миссией. Теперь, по прошествии лет, неловко читать какие-то и вовсе школярские признания того же Станислава Куняева о «недостатках» в стихах Николая Рубцова: «Немало несовершенного можно найти в книгах Рубцова. Иногда, он бывал наивен, иногда высокопарен, порой банален. Но чего невозможно найти в его поэзии – так это недуга, может быть, самого разрушительного для искусства: вируса неправды», («Воспоминания о Николае Рубцове», КИФ «Вестник», Вологда, 1994 г.). И ещё более определённей: «Трудно сказать, какое место занимает Николай Рубцов в современной поэзии?» И немногие, совсем немногие из современных ему поэтов, смирив гордыню и преодолев самолюбие, смогли оценить значение его в русской поэзии объективно, как, к примеру, Глеб Горбовский: «Николай Рубцов – поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией – не придуманной, органической».
То есть, одарённые стихотворцы в этот долгий период русской истории были, но поэзии, не придуманной и органической, по сути, не было, ибо духовная преемственность в русском народе была прервана. И многие стихотворцы, сами того не вполне осознавая, не преодолевали этот трагический, зияющий перерыв в русской культуре, а только усугубляли его. Как писал сам Николай Рубцов, цветы поэзии «как подснежники, ещё бывают занесены холодным снегом декларативного рационализма, юродства разной масти». Конечно, отдельные прорывы к подлинной поэзии были, особенно у поэтов фронтового поколения и у некоторых современников Рубцова, но цельного миропонимания, выходящего из русского мира, до него со времён Блока и Есенина не было…
Очень точно определил место Николая Рубцова в русской поэзии и самосознании Александр Романов, замечательный поэт и его вологодский товарищ: «А в стихах его забелели обезглавленные храмы, словно вытаяли они из-под страшных сугробов забвения. Сама природа русского духа давно нуждалась в появлении именно такого поэта, чтобы связать полувековой трагический разрыв отечественной поэзии вновь с христианским мироощущением. И жребий этот пал на Николая Рубцова. И зажёгся в нём свет величавого распева и молитвенной исповеди».
Как видим, Александр Романов оценивает Николая Рубцова не как одного из них, но как единственного, отмеченного редким Божиим даром, в творчестве которого наиболее полно и глубоко сказалось возвращение русского народа к правосознанию, к своей исконной православной вере. Видимо, поэтому ни один поэт во второй половине минувшего двадцатого века не привлекал к себе такого всеобщего, именно народного внимания, как Николай Рубцов. Такая участь позже выпадает разве только Юрию Кузнецову уже на закате русской литературы в наши дни, устроенного вполне рукотворно.
Петр ТКАЧЕНКО
Продолжение следует