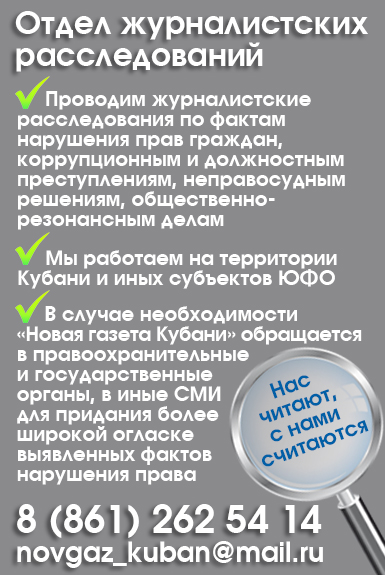Осмысление пути дореволюционного казачества
1986
Набирающий скорость год перелистнул одну из первых календарных дат в наших попытках выстроить логичную систему исторической памяти – 24 января, знаменующее собой начало репрессий советской власти против казачества.
Предчувствую разноголосый хор от «Опять о печальном»; «Сколько можно»; «Да, помним, мы, помним» до «Не забудем, не простим». Но… Сложное историко-социальное явление порождает сложное восприятие.
Речь идет о пресловутой «директиве Свердлова». 24 января 1919 года на Оргбюро ЦК РКП(б) было принято циркулярное письмо, которое впоследствии определило политику новой власти по отношению к казакам, и стоило жизни многим тысячам казаков.
В воздаяние памяти безвинно репрессированных казаков 25 и 26 января 2025 года Центр кубанской казачьей культуры «Казачья воля» при поддержке Фонда промышленника и мецената Олега Дерипаски «Вольное Дело» провели в городе Усть-Лабинске Краснодарского края мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий против казачества «Казачий крест».
25 января 2025 года в рамках круглого стола «Казачество на сломе эпох: мифы и масштаб трагедии» выступили ведущие специалисты по вопросам изучения казачества из Москвы, Краснодара, Волгограда, Минеральных Вод.
Выносимые на обсуждение вопросы вызвали оживленную дискуссию, что в очередной раз подчеркнуло актуальность для современного общества вопросов сохранения исторической памяти о скорбных страницах истории российского казачества.
Тем не менее, на некоторых озвученных мыслях хотелось бы остановиться.

Губенко Олег Вячеславович, директор фонда «Терское общество любителей казачьей старины» (г. Минеральные Воды) справедливо обратил наше внимание на то, что репрессии против казачества начались, но не с 24 января 1919 года, а раньше, еще в рамках радикализации своей политики со стороны партии большевиков. Изначально казачество не настроено было принимать участие в разгорающемся пожаре новой российской Смуты. Эта позиция проявилась и в холодно-нейтральном приёме Добровольческой армии, совершавшей свой Первый Кубанский поход. Однако, гражданское противостояние, особенно в традициях российского исторического процесса, не терпит наличие третьего лагеря – «ты или с нами, или против нас». К тому же, российское казачество несло на себе слишком явные социальные маркеры – «нагаечники и душители революции», которые связывали его с царским режимом и уходящей эпохой. И «девятый вал» революционной энергии обрушился на казаков.
Беспощадность и неумолимость этого нам демонстрирует судьба последнего наказного атамана Кубанского казачьего войска Михаила Павловича Бабыча, о чем поведала заслуженный работник культуры Кубани Наталья Александровна Корсакова (Краснодар). Трагедия, которая завершала славное служение Кубани и казачеству Михаила Павловича Бабыча случилась задолго до «директивы Свердлова», показывая нам роль стереотипов и живучесть мифов в конструировании исторической памяти.
Тот реализованный в истории сценарий завершения гражданской войны определил и последующие испытания для российского казачества в 1920-1930-е гг. Но вот были ли альтернативные варианты? Такой вопрос ставит Василий Жанович Цветков, д.и.н., профессор Московского государственного педагогического университета (Москва) в своем докладе «Были ли шансы к «согласию и примирению»? Особенности политики в отношении казачества советских и белых правительств 1920-м году». На примере документов доказательно показана жёсткость и ультимативность позиции советской власти, не предусматривающая «согласительный и примирительный» формат взаимоотношений с казачеством ни на момент окончания Гражданской войны, ни в последующие десятилетия.
В завершении круглого стола прозвучал вопрос, на который участники не смогли дать однозначного ответа – «Почему так жестоко и бескомпромиссно советская власть отнеслась к казачеству?».
Предложим свой вариант ответа? Потому что, казачество являлось наиболее сплоченной, имеющей мобилизационный ресурс и навык этносоциальной группой, опирающейся на сложную систему самосознания, ментальности и культурного кода. Всё это в совокупности угрожало как программе-минимуму, так и программе-максимуму демиургов новой эпохи.
26 января 2025 года в рамках программных мероприятий работали культурно-просветительская выставка «Мои корни Убеженская» и лаборатория по исследованию казачьей генеалогии. Глава станицы Убеженской Сергей Гайдук и президент АНО генеалогического туризма «Места и лица» Евгения Хворостянова, а также историк-генеалог, соучредитель проекта «Ростовское генеалогическое общество» Галина Лысенко провели экскурсию по выставке «Мои корни - Убеженская», поделившись своим опытом сохранения исторической памяти. Бережно сохраняя старые фотографии и восстанавливая родословные своих станичников, они являют нам пример как реализации гражданской инициативы, так и раскрытия потенциала провинциального краеведения.
А в рамках лаборатории по исследованию казачьей генеалогии модераторы Андрей Дюкарев, к.и.н., (г. Краснодар) и Галина Лысенко, историк-генеалог (г. Ростов-на-Дону) раскрыли практические основы реконструкции семейной истории кубанского казачества. Учитывая тематическое звучание мероприятий, аудитории была показана специфика поиска информации о безвинно репрессированных представителях кубанского казачества.
На наш взгляд, именно семейная история, как инструмент сохранения памяти о предках, места и роли казачьего рода в историческом процессе и самого себя персонально как целостной личности, не даёт стихнуть набату о наших репрессированных предках. Своеобразие наших родословных определяется своеобразием истории нашей страны. У многих из нас в наших семейных летописях смешались и красные и белые, репрессированные, отважные герои и скромные труженики.
По итогам второго дня просветительских мероприятий тоже звучали непростые вопросы. Самый хлёсткий, и наверно болезненный вопрос – « Как нам не допустить повторения? Повторения стирания из жизни и памяти безвинно репрессированных?»
Прочувствовали звучание? Безвинно… Ни за что… Просто потому, что…
Есть ли ответ на этот вопрос? Наверно есть. Вот если и когда, мы будем помнить и о трагичных событиях, и о наших предках, несмотря на то, что - «неудобно об этом вспоминать», «не надо об этом говорить» - то возможно повторения и не будет. А если стыдливо или трусливо «забудем», то завтра нам скажут что и не было ничего. Не было репрессий против казачества, и миллионов других безвинно смолотых в «труху истории». А значит и жизни, любви и страданий наших предков не было. Как и нас получается…
Поэтому до сих пор для нас всех, для всего нашего общества необходимо определиться – «Скорбеть и помнить, или простить и забыть?»…
Андрей Дюкарев

Свежее из рубрики