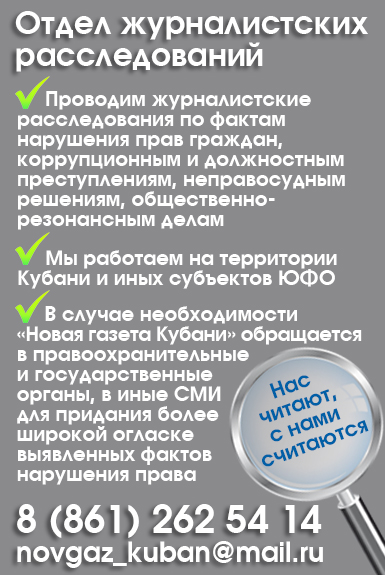Народно-поэтический образ Казака-Мамая воплощает в себе народное воззрение на мир и на себя в этом мире
3715
В Сети появилась примечательная карикатура, которая и могла появиться только теперь, когда идёт военная спецоперация на Украине и в Донбассе. Вне зависимости от того, представитель какой из противоборствующих сторон эту карикатуру сделал. Это – шарж на народно-поэтическую картину Казак-Мамай (Казак-бандурист). Но вместо бандуры у Казака в руках автомат. Он играет на автомате. Сменил бандуру на оружие. На всё это можно было бы сказать расхожим: когда гремят пушки, музы молчат, если бы не охватывало сомнение – а когда отгремит оружие, заговорят ли вновь музы, оживёт ли легендарная бандура? Ведь украинский народно-поэтический образ Казака-Мамая воплощает в себе народное воззрение на мир и на себя в этом мире.

Народная картина «Казак-Мамай» издавна и широко бытует на Украине. Её происхождение исследователи относят к ХVII веку. Под картиной обязательно наносился текст песни. Это исповедь бывалого, старого казака о самом главном – как устроен этот мир, и что в нём человек. Узнай моё имя, в смысле мою сущность, «видкиль я родом и як зовуть». Любопытно, что имя казака в песне не называется, но картину повсеместно называют Казак-Мамай. Имя его не имеет отношения к историческому Мамаю, известному нам по Мамаевому побоищу. Об этом свидетельствует и российская топонимика: Мамаев курган, речка Мамайка и т. д. Глубокий исследователь народного творчества Юрий Шилов отмечал, что «появление канонического Казака-Мамая совпало с народно-освободительной войной на Украине, мощным движением на воссоединение Руси, появлении таких замечательных личностей как Богдан Хмельницкий и Иван Сирко». Исследователи даже считают, что на картине Казак-Мамай воплощён образ замечательного человека, характерника Ивана Сирко. Казалось, что теперь, в годину новых испытаний вновь оживёт его образ и заговорит его бандура. Но вместо бандуры Казак-Мамай является к нам с оружием. Зловещее «переосмысление» незыблемого образа…
Но не только на Украине бытовал и бытует этот подлинно народный образ, но и на юге России. Особенно на Кубани. Здесь он приобретает свои особенности, становясь частью локальной культуры. Так русская культура принимает в себя культуры близких и братских народов. Исследовательница Ирина Чмырева отмечала, что кубанские картины «приобрели иконографическую определённость и ясность»: «Кубанские картины представляют собой собственные переработки, осмысленные толкования древних образов. Прижившись на Кубани, Мамай-бандурист приобрёл и новые черты. К примеру, игральные карты появляются уже только на кубанских картинах. Деталь очень значительная и неслучайная, ибо в ней проявилась некая всеобщая особенность, приобретённая временем, символизирующая саму судьбу и её превратности».
Одну из таких замечательных, можно сказать, классических картин я встретил в восьмидесятые годы прошлого века в станице Ивановской. Текст под картиной был доведён до совершенства. Как рассказывали мне старожилы, во время войны, оккупации немецкие офицеры выискивали такие картины, чтобы вывезти их в Германию. Вывезти вечный символ души народной. Не получилось, многие картины остались в народе. Эта же картина осталась теперь, только на фотографии, так как во время «перестройки» и либеральной революции её всё-таки вывезли в Германию. Теперь уже без всякой оккупации…
Думал, что теперь таких картин уже не осталось. Но на хуторе Ангелинском я встретил такую величественную картину у Александра Аврамовича Буряка (1937 г. р.). Правда, эта картина, как и другие реликвии, после его кончины куда-то пропали…
Но, несмотря ни на что, народный образ Казака-Мамая и до сих пор живёт на Кубани. Его снова воплощают талантливые художники. Уроженец станицы Гривенской В. А. Фисенко, проживающий в г. Омске, привёз мне современный образ Казака-Мамая. Это, по сути, копия картины ХIХ века, хранящейся в Днепропетровском историческом музее имени Д. И. Яворницкого. Мне попала в руки картина 2006 года Валентины Чиреевой из Абинска. А известный скульптор Константин Чернявский, автор монумента М. И. Платову в Москве и монументов благоверным Петру и Февронии в двадцати восьми городах России, воплотил Казака-Мамая в бронзе.
Не хочется верить в то, что его такой притягательный образ теперь затеряется, становясь предметом только злой иронии. Может быть, это напоминание о чудном, подлинно народном образе теперь достойном разве что карикатуры, обнажит степень нашего человеческого падения и духовной глухоты, покажет то, откуда мы ниспали. Отсюда – от пренебрежения своей народной культуры.
Предлагаю читателям своё давнее исследование о Казаке-Мамае, опубликованное в третьем выпуске моего авторского альманаха «Солёная Подкова», (М., ООСТ, 2007 г.), а также в книге «Кубанский лад. Традиционная культура: вчера, сегодня, завтра» (Краснодар, «Традиция», 2014).

Откуда он, Казак Мамай
Обычай держать в хате народную картину «Казак-Мамай» был некогда для кубанского казака таким же обыкновением и необходимостью, как и православная икона. Уже забылось, что это за Мамай, почему собственно – Мамай, да и самой картине порой давались другие названия – «Запорожец за Дунаем», а её непременно заказывали богомазам. И водружали на видное, почётное место в хате, как символ казацкого достоинства, чести и не тускнеющей со временем казацкой славы. Символ непрерывающегося в веках казацкого духа.
Уже не особенно и вчитывались в текст песни, непременно наносимой маслом под картиной, но картина всё равно безмолвно рассказывала столь о многом, что не пропадает как малая порошинка и не выветривается из душ вселенскими ветрами. Она и до сих пор рассказывает нам не только о наших предках, но и о нас, вне зависимости от того, слышим ли мы её или нет…
Память о нём уже, казалось, совсем погасла на Кубани. Уже вроде бы ничто не могло о нём напомнить. Не передавались более в поколениях таинственные предания о нём, и сам его загадочный облик, запечатлённый на старых, потускневших от времени картинах, уже не украшал хат и домов по хуторам и станицам. Но вот, что-то незримо переменилось в нашей жизни, и он всё чаще стал выникать из своего, как думалось, уже окончательного небытия, то вдруг в музее привлечёт внимание картина с его изображением, то дотошный исследователь с неподдельной заинтересованностью вдруг произнесёт его туманное, полузабытое имя, пытаясь разгадать его тайну, то неожиданно привидится, что это он промелькнул по полям и пропал в камышах плавней, а то и вовсе вдруг явственно проступит его облик в каком-нибудь станичном балагуре…
Наконец, эти нечаянные встречи с ним стали столь частыми, что их уже никак нельзя было считать случайными. По всем признакам, он действительно начал возвращаться из своего вынужденного небытия, преодолевая людское беспамятство, удивляя и поражая своей таинственностью, неизменностью и постоянством облика. Речь – о народно-поэтическом образе, о народной картине «Казак-Мамай», теперь уже на Кубани чрезвычайно редкой по причине тех разорений и бед, которые довелось пережить кубанцам в миновавшем жестоком веке, в которых, уничтожалось прежде всего всё, выражающее народ, – его характер, его дух, его обычай и его облик.
Картина эта была принесена на Кубань первопереселенцами, запорожскими казаками с Украины. Конечно, писана она в традициях украинского народного творчества. Но здесь она получила свою новую жизнь, приобретя даже некоторые новые черты. Этот народный образ казака, певца, мыслителя со временем стал поистине кубанским.
Старинная картина «Казак-Мамай» или как она ещё называлась «Казак-Бандурист», была обыкновенно с текстом старинной песни, точнее монологом, характер образов которого говорил о том, что восходит она к глубокой древности. Вполне возможно, что такие картины знаменовали собой переход от устной песенной традиции к литературе письменной. Ведь написанная под картиной песня по своему стилю и характеру не предназначалась для исполнения. Это, по сути, не песня, а скорее стихотворение, дума, поэма. Это памятник уже письменный, воспринимаемый вместе с изображением казака.
Картина «Казак-Мамай» является наиболее ярким проявлением именно казачьего творчества, так как в иных традициях нигде более не встречается. Можно сказать, что она являет изначальный казачий образ, характер, казачеству наиболее свойственный.
В силу особенностей уклада и быта казачества, поэзия его издавна имела свои характерные формы. Кочевая жизнь, переполненная походами и лишениями, неустроенность быта, точнее такое его устройство, при котором казак каждую минуту должен быть готовым к походу, военная добыча, как один из источников дохода – всё это формировало своеобразный облик военного человека. Такие условия мало способствовали развитию письменной литературы. Зато в казачьей среде во всю полноту народного духа цветут предания и песни. Всё самое сокровенное, переживаемое людьми, хранилось изустно. Потому столь и развито в казачьей среде песенное народное творчество. Даже кажется порой, что песни и предания заменяли и саму литературу.
Кроме того, жило в казачестве какое-то традиционное и давнее пренебрежение и даже презрение, нет, не к грамотности, а, как говорили казаки, к «бумажному человеку», не понимающему жизни, утратившему с ней природную связь. Причём, как ни странно, это соседствовало порой с довольно высокой образованностью…
Но была у казаков издавна и профессиональная поэзия. Кобзари и лирники хранили казачий эпос, заветы старины, представление о человеческом идеале, о добре и зле. Их не вытеснила, не заменила развившаяся позже литература, и они дошли почти до наших дней.
О чём были думы и баллады кобзарей и лирников? О трудной судьбе казачества, на которое многие покушались, о переполненной лишениями жизни простого человека. Не случайно одной из самых распространённых тем их дум была «бида», беда. Собственно, об этом же и монолог на картине «Казак-Мамай».
Одну из таких старинных картин мне довелось однажды увидеть в музее станицы Ивановской. На ней, писанной маслом на холсте, был изображён казак с грустным взглядом, седыми усами и чубом-осэлэдцэм, закрученным за ухо. Сидел он под дубом, в руках у него была бандура. Дуб, безусловно, символизировал мироздание, мировое древо, ибо «представление о мировом древе славяне по преимуществу относят к дубу» (А. Афанасьев).

На дубе висел котелок и какой-то герб – знак родовитости. Перед казаком стоял штоф с горилкой и стакан. Тут же шапка, шашка, пистоли, пороховница и колода карт. За спиной – конь, привязанный к воткнутому в землю копью. Словом – все атрибуты казацкой воинской чести и славы. Под картиной написан маслом текст, орфография которого говорила о давности картины, а смешение русского и украинского языков свидетельствовало о том, что писалась она уже на Кубани.
В этой песне, думе казак задавался извечным вопросом о смысле жизни, о своём предназначении в этом мире. Но не только о доле, точнее недоле казака была эта песня, но и о назначении своём, как поэта и певца. Кто есть я в этом мире и зачем, с какой такой целью только единожды дано мне сюда прийти? – вот о чём эта печальная дума. То есть, её грусть определялась самой избранной темой, а не какими-то социальными, что ли, соображениями. Кроме того, в этой песне как бы подводился итог всей его жизни. Знать была то прощальная, лебединая песня, которой он как бы подводил итог своему земному пути. Обращаясь к своим слушателям и зрителям, он вместе с тем обращался и к нам, своим далёким потомкам. Ведь песня эта была его единственной возможностью сказать о себе, о том, как он жил, чем болела, о чём томилась, во что веровала его душа.
Приведу текст этой песни, думы в современном написании.
Хочь дывыся на мэнэ, таба нэ вгадаешь –
Видкиль я родом и як зовуть.
Начычырк нэ скажэшь, видкиль я родом
И як зовуть, начычырк нэ скажэшь.
Колысь трапылось в стыпах буваты
И с товарищом встричатысь.
Той, можеть, мое имя и прозвище угадаты,
А у мэнэ имя нэ одно, а есть их доката,
Так зовуть, як налучуть на якого свата:
Жыд за ридного батька почетае,
Лях мылостывым добродием называе,
А ты, як хочь назовы, на всэ позволямо,
Абы, лышь, нэ крамаром – за цэ то полаю.
Тэпэр, бачь, на свити бида,
Що од мэнэ рид отцурався,
А я з горя в парчовый кужух убрався.
Ны бийсь, як був богат, то тоди б казалы:
«Иван-брат»!
Як рожывусь грошый, та й загуляю,
То тоди дочёрта роду
И всяк хоче знать, як мэнэ звать.
Хиба скажуть з Крыму родом, видкиль мий дид плодом.
Мэнэ тилькэ ляхва угадала, як коня вороного дарувала.
Глянь на гэрб знамэнытый, що на дуби высэ.
Правда, як кинь стэпный, воли,
Так и той казак нэ биз доли,
Куды хочэ, туды й скачэ, нихто за казаком нэ плаче.
Гей, гей як я молод був, шо то була за сыла,
Було борючи ляхив и рука нэ млила,
А тэпэр и вошь одулила.
Та ще журы стало, що горилкэ нэ стало.
Гей, бандура моя золотая,
Колы б до тэбэ жинка молодая,
Ты б скакала и плясала до лыха,
Нэ одын бы чумак оцурався солы и миха…
Песня Казака-Мамая несёт в себе все приметы эпической поэзии, с такой полнотой, сказавшиеся в «Слове о полку Игореве» и позже сохранившимися в украинских народных песнях. Это, прежде всего, любимое в нашей поэзии уподобление битвы пиршеству и шире – свадебному обряду. «Так зовуть, як налычуть на якого свата… Як рожывусь грошый, та й загуляю…» О сходстве и преемственности эпических образов «Слова о полку Игореве» и украинских песен убедительно писал в своё время Ф. Буслаев в статье «Об эпических выражениях украинской поэзии». («Исторические очерки русской народной словесности и искусства», т. 1, СПб, 1861). Можно с уверенностью сказать, многочисленные песни Казака-Мамая находятся в хронологическом порядке между «Словом о полку Игореве» и украинскими народными песнями.
Это был поистине народный образ певца, философа, насмешника и чародея – вечного героя, как говорили о нём раньше, – характерника, знающего тайну бытия человеческого, тайну превращений, который мог обернуться волком или хортом (псом), сотворить какое-то чудо и возвратиться в своё обычное состояние. Словом, это был человек незаурядный. В казачестве всегда ведь особенно ценилось своеобразие человека. Неслучайно имена казакам при вступлении в Сечь давались по какой-то характерной внешней примете. Казачество ведь во все времена, несмотря на свою воинскую организацию, и позже – государственную организацию и зависимость, представляло человеку ту необходимую меру свободы, при которой раскрывается и реализовывается его личность.
Народная картина являла собой мир, в центре которого находится человек с его трепетной и чуткой душой. Своим слушателям и зрителям герой картины предлагал разгадать загадку своего имени, то есть смысл и значение человеческого бытия. Он рассказывал о своей судьбе, в которой угадывалась судьба каждого человека, приходящего в этот мир. Он говорил о самом главном – о причинах утраты между людьми духовного родства и путях его обретения, говорил о том, как сохранить человеку живую душу на перепутьях недобрых времен.
Народных героев принято изображать торжественно – на коне и при оружии, тем самым, как бы демонстрируя их силу и непобедимость. Совсем иной образ Казака-Мамая. Он спешен, не с оружием, а с бандурой, с песней, родным словом. То есть в его облике угадывается приоритет духовного подвижничества над собственно героическим началом в его традиционном понимании. А это – признак его неиссякаемой силы. А потому, как бы его не разлучали с народом, как бы не вытаптывали в сознании и душах память о нём, сколько бы он не пребывал в забвении, он всё равно возвращается в свой народ. Ведь среди многих его таинственных особенностей есть и такая – он временами исчезает, пропадает, чтобы потом вдруг появиться вновь…
Какая чистая человеческая душа открывается в этом облике, исполненном самых высоких помыслов: «Как ни смотри на меня, не угадаешь, откуда я родом и как зовут меня». Боевой товарищ, односум, единомышленник, родственная душа, только он знает истинное имя героя картины. Речь, как понятно, не только об имени – автор называет его в тексте: Иван, но о самой сущности человека, каков он есть, как он живёт, во что верует – вот в чём заключается его истинное имя…
«А ты как хочь назови» – обращается он к слушателям, – лишь бы не «крамаром», то есть лишь бы не торговцем, ибо быть мытарем считалось в казачестве постыдным. В песне удивительно полно раскрыта личность певца, его представление о мнимых и подлинных ценностях, об идеале… Самым постыдным для него являлось то, что его могут посчитать человеком мелочным, меркантильным, занятым лишь собой, а не высоким стремлением дум…
Сам сюжет картины далеко не случаен. Он продиктован теми идеалами и поведенческими стереотипами, которые вырабатывались в казачестве веками. Уходя из жизни, казак обращался к миру со своим последним, прощальным словом, в чём ясно угадывается обычай гласного исповедника: «В старости, когда по обычаю, предчувствуя свою скорую кончину, старый казак, отстояв службу в церкви, обращался к миру с гласной, не тайной исповедью, прося прощения у всех представших поимённо и оставляя потомкам свое последнее слово» (Отец Сергий Овчинников).
Но почему народный герой, образ, выражающий саму душу народную, в такой сокровенной исповеди носит столь странное имя – Мамай? К имени исторического персонажа, татарского хана он, конечно, не имеет отношения. Нас теперь смущает и озадачивает это имя, так как соотносится с именем исторического персонажа. И если мы теперь удивляемся самому его имени, то это лишь свидетельствует о том, как мы уклонились от своих исконных природных и народных представлений.
«Мамаями» издавна называли каменных «баб» на курганах – казацких могилах. Об имени народного героя и до сих пор остаются свидетельства в топонимике: село Мамайка (ранее называлось Мамай) близ Сочи, хутор Мамай на Дону, речка на Ставрополье – Мамайка. Да и место русской воинской славы Мамаев курган говорит, конечно же, о народном образе, подлинно народном герое, оказавшемся теперь полузабытым.
Не так уж много сохранилось в кубанской культуре таких образов, как Казак-Мамай, таких символов, которые выражали бы живой дух человеческий и тип кубанца… Неужто этот таинственный, веселый и грустный образ не вернётся уже к своему народу, к тому, кто его выдумал, кто восхищался им, кто печалился над ним, кто хранил его веками?..
Кроме того, выпестованный в глубинах народного художественного опыта, этот образ является хотя и редким, но характерным примером, свидетельствующим о славяно-тюркском единстве, возникшем как бы на пограничье этих миров, соединяющих, а не отчуждающих их в себе. Чего стоит сама восточная поза народного героя… Такой образ, видимо, только и мог сформироваться в этом географическом ареале, на стыке Востока и Запада, где славянская и тюркская культуры являются неотъемлемыми составляющими единой государственности.
И всё же остаётся загадкой само название картины, несмотря на все предложенные объяснения. Таинственно имя народного героя, если, конечно, это имя, а не синоним слова «казак», как считают некоторые исследователи.
Тема узнавания героя, постижения его истинной сути, есть задача художническая, сказавшаяся потом и в литературной традиции. А потому и установление значения имени героя лежит, как правило, не на пути установления исторических прототипов. Думается, что название картины, имя её героя имеет более глубокие мировоззренческие истоки. Маловероятно здесь случайное происхождение. Это подтверждают тексты, исполненные глубокой образности, уходящей в древность. Причём, образности эпической. Выскажу свою догадку, требующую, конечно, дополнительных доказательств. Известно, что ещё до принятия христианства в Константинополе по указанию Византийских императоров, прибывавшим туда русским купцам и служилым людям велено было селиться у церкви Святого Маманта или Мамонта. Об этом сохранились свидетельства в «Повести временных лет». К примеру, под 907 годом: «Прибывающие сюда русские люди обитают у церкви Святого Мамонта».
Таким образом, это был один из первых святых, через которого русские люди обретали благодать новой веры. Как знать, не трансформировалось ли это имя святого в России в имя народного героя? Во всяком случае, часто встречаемая фамилия Мамонтов, конечно же, происходит не от названия экзотического животного, которое в обозримой истории здесь не водилось, а от имени мученика Мамонта, почитавшегося в святцах, память о котором отмечается 2 сентября. Имя Мамонт в прошлом веке было в России довольно распространённым. И не только Мамонт, но и имя Мамай довольно часто встречалось на Кубани. К примеру, в материалах к летописи «Екатеринодар-Краснодар» на исторической фотографии конца прошлого века изображён казак по фамилии «Мамай из станицы Ключевой».
Предположение о такой трансформации имени допустимо и потому, что существовала удивительная закономерность при принятии христианства на Руси: имена героев эпоса совпадали с именами святых. Об этом пишет, к примеру, Вадим Кожинов: «Главная церковь в древнейшем Киеве воздвигнутая не позднее 944 года, была церковью Ильи – самого «воинствующего» из христианских пророков… именно богатырь по имени Илья оказался главным героем русского эпоса. Едва ли это случайное совпадение… Микула (то есть Николай) Селянинович, носит имя святого, которому был посвящён древнейший из известных нам русских храмов, воздвигнутых еще при Аскольде».
Несмотря на то, что самым устойчивым элементом этой картины является сама тюркская поза героя, образ этот, как считал ещё П. Белецкий, не является заёмным, но стал своеобразным результатом органического взаимодействия разных культур. Видимо, можно сказать, что этот образ является как бы результатом взаимопроникновения тюркской и славянской культур. Ведь в определённом смысле таковым является и феномен казачества…
Вместе с тем, мне представляется, что народная картина «Казак-Мамай» как бы воссоединяла церковную иконописную традицию со светской, народной живописью. Да ведь «Мамаи» и писались цеховыми иконописцами в монастырских «малярнях» и народными художниками-самоучками.
Для уподобления этих имён – Мамонт-Мамай, есть и более веские основания, чем только их фонетическая, звуковая перекличка.

Мне попалась кипрская икона святого Мамонта (Мамаса), на которой он изображён верхом на льве. Кипр же, как известно, занимает в христианском мире особое место. Ещё в памятнике начала XII века «Хождение игумена Даниила» говорилось, что «святых на нём лежит без числа». Каково же было мое удивление, когда я увидел открытку со средневековой грузинской чеканкой ХI века, на которой был изображён уже не святой Мамонт, а святой Мамай. Именно святой Мамай… Это единственное пока встретившееся мне свидетельство, где Мамай прямо назван святым.

Примечательно, что изображение святого Мамая на чеканке было идентичным изображением святого Мамонта на иконе. Он тоже изображался верхом на льве… Образы святого Мамонта и святого Мамая здесь как бы совпали…
Символ же льва по ветхозаветным представлениям есть испытание на истинность веры. В «Книге Пророка Даниила» рассказывается о том, что при дворе Дария, среди князей был некто Даниил, у которого «был высокий дух». Прочие сатрапы и князья, завидуя ему, донесли Дарию, что Даниил якобы верит не в живого бога: «Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львиный; при этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасёт тебя!» (6,16).
Немало удивился Дарий, когда, подойдя ко рву, он увидел живого Даниила. И ответил ему тот: «Бог мой послал Ангела Своего, и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». И поверил Дарий в истинность бога Даниилова и повелел племенам и языкам трепетать и благоговеть пред богом Данииловым, «потому, что он есть Бог живой и присносущий, а царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно» (6,25). Итак, лев – есть символ испытания на веру, присутствующий в равной мере, как на иконе святого Мамонта, так и на чеканке святого Мамая. Но удивительно, что основным, главным мотивом картины «Казак-Мамай» тоже ведь является, по сути испытание на веру, узнавание сути человека, кто он есть в этом мире и во что верует. Это и является тем поразительным совпадением, которое даёт нам право предполагать именно о таком происхождении народного героя Казак-Мамай.
Образ мученика Маманта был хорошо известен на Руси. У Василия Великого есть целое Слово, произнесённое на день этого мученика. Св. Василий называет его пастырем (пастухом), который не от других заимствовал знаменитость, но сам возжег светильник и пастушескою бедностью, и обличением богатства: «От Маманта – прочие, а не от других Мамант». Примечательно, что в слове св. Василия основным свойством Маманта выставляется то, что он «не знаком с торговлею, не знает богатства». («Творения иже во святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийския». М., 1846). Но именно эта благодетель является основной и для Казака-Мамая: «А ты як хочь назовы… абы, лышь, нэ крамаром…» Эта основная черта Маманта и Мамая – даже не просто нестяжательство, но отрицание торговли как дела неблагого, – конечно же, свидетельствует о родственности их образов. В картине «Казак-Мамай» в характере героя на ней изображённого, явно угадываются христианские традиции и христианское представление о мире и человеке. Видимо, можно сказать, что эта картина является как бы примиряющей между церковными представлениями и народно-поэтическими, которые традиционно находятся в некотором противоречии и даже конфликте. Не здесь ли уже закладывалась та приверженность казачества к христианству, которая во все времена составляла основную особенность его?
Но почему, – могут спросить, – такой удивительный образ оказался забытым? Но в том бесовском разгуле безбожия, которое было возбуждено в России, не устояли и святые, куда уж было устоять героям… Всё самое дорогое и сокровенное, выражающее дух народа, оказалось низвергнутым и втоптанным в грязь. И это недоброе попущение пока ведь не прекратилось. Оно может быть остановлено лишь тогда, когда большинство людей уяснит, что периодически устраиваемые нам революции, причём совершенно на одних и тех же мировоззренческих основах, лишь чуть-чуть подновляемых, имеют вовсе не социальную природу, но мировоззренческую и духовную, даже духовно-психологическую… Это вовсе не «саморазвал» страны и вовсе не «самоубийственное поведение этноса», как считает в своей новой книге «Россия в обвале» в очередной раз «прозревший» А. Солженицын.
Забвению народного образа Казака-Мамая на Кубани способствовало и то, что он корнями уходит в украинскую культуру. В связи с тем, что Россия и Украина теперь самостоятельные государства, благотворную роль в поддержании братских отношений между нашими народами и могло бы сыграть русско-украинское пограничье, регионы «двуязычья», где и живёт «Казак-Мамай». Прежде всего это, конечно, Кубань. Словно предвидя наше нынешнее положение, известный русский философ Г. Федотов писал, что «эта задача – приютить малороссийские традиции в общерусскую культуру – прежде всего, выпадает на долю южнорусских уроженцев, сохранивших верность России и любовь к Украине». Положение – ясное до предела: поддерживать всячески русскую культуру на Украине и украинскую – в России…
Теперь уже на Кубани осталось мало таких картин. Особенно много их было вывезено во время Великой Отечественной войны. Как свидетельствуют очевидцы, немецкие офицеры устраивали прямо-таки охоту за ними. Захватчики увидели в чужой для них культуре ценность, а мы всё ещё никак не можем распознать своё достояние, своё духовное выражение, имя и облик своего подлинно народного героя…
На следы такой картины я напал и в своей родной станице Старонижестеблиевской. Причём она ускользала от меня каким-то таинственным образом. Многие видели её, свидетельствовали о ней, но самой картины найти так и не удалось. Этот поразительный факт я соотносил уже с самим характером образа Казака, на ней изображенного, который по самой природе своей обладал свойством то пропадать, то появляться, по каким-то нам совершенно неведомым законам.
Помнил эту картину и самодеятельный художник Пётр Васильевич Корниенко, который даже снимал с неё копию. Он и направил меня к своей матери Фёкле Андреевне Перетицкой (1902 года рождения). Долгие годы картина была в их хате, пока в тридцатые годы не была конфискована. Не видела этой картины Фёкла Андреевна лет пятьдесят. И вот я, желая удостовериться какая картина была в их доме, прочитал ей по памяти текст песни с картины, найденной в станице Ивановской. Старушка внимательно слушала, оживая при каждом слове, потом сказала: «Цэ нэ всэ…» Оказалось, что второпях я пропустил две строчки. И она, не видевшая этой картины полвека, это сразу же обнаружила. Вот до какой степени глубины и естественности жил в памяти и душах кубанцев образ народного героя.
В связи с этим не могу не сказать, что ныне наметившееся возвращение народного героя Казака-Мамая не является таким уж безоблачным и беспрепятственным. В своё время мне довелось увидеть, видимо, одну из лучших на Кубани картин в станице Ивановской. Находилась она в колхозном, а, по сути, этнографическом музее станицы. И вот спустя годы вновь захотелось увидеть эту картину, но это мне не удалось. Дело в том, что музей находился в перестроенном храме. Храм восстановили и обнесли надежным металлическим забором. Экспонаты же музея теперь ютятся в каком-то чулане. Во всяком случае, мне не могли их показать. Ютится в этом чулане, словно в новой неволе, и Казак-Мамай… Понятно, что храмы восстанавливать необходимо, но не ценой же подавления иных, не менее драгоценных сторон культуры и жизни народа… Тем более, что сам образ народного героя не давал никакого повода для такого отношения к себе, ибо во всем его облике явно просматривается православное строение мира…
И вот узнаю, что картина эта всё-таки пропала… Кто-то её стащил-таки под шумок нашего культурного и религиозного «возрождения». Весь смысл с нами ныне происходящего предстаёт в этом факте…
Примечательно, что в последнее время к образу Казака-Мамая стали обращаться многие исследователи. Причём, как правило, люди молодые. Художник Юрий Шилов ищет древние, праславянские корни этого народного образа. Искусствовед Виктория Анисимова рассматривает эту картину в общем контексте народного изобразительного творчества на Кубани. Искусствовед Ирина Чмырева, хранитель Московского Дома фотографии ищет место этого образа в стихии народного творчества, устанавливает своеобразие кубанского образа в отличие от украинского. Кстати, она и разыскала свидетельство живой жизни Мамая на Кубани – постановочную фотографию 1910 года по мотивам картины, сделанную в станице Павловской. Скульптор Константин Чернявский выполнил эскиз композиции «Казак-Мамай с конём» и мечтает установить памятник или хотя бы парковую скульптуру в Краснодаре…
Любопытны выводы и наблюдения над образом Казака-Мамая, к которым приходят современные исследователи. Истоки этого народного образа, – как считает Юрий Шилов, – уходят в глубочайшую древность, а его историческое бытие периодически подтверждается в событиях и личностях. К примеру, в августе 1399 года некий Казак-Мамай спас жизнь Витовту, владыке Великого княжества Литовского. Произошло это во время неудачного сражения с золотоордынскими ставленниками непобедимого Тимура. Войско Витовта было разгромлено, а смекалистый казак – то ли сын, то ли внук разбитого на поле Куликовом ордынского темника Мамая – трое суток водил князя по непролазным чащобам, пока тот не догадался одарить его княжеским титулом и даровать урочище Глину во владение. После такой милости тут же открылась дорога из непроходимого леса. Новоявленный князь Глинский – бывший Казак-Мамай, стал предком, по материнской линии царя Ивана Грозного… Так излагали эту историю А. А. Шенников и Л. Н. Гумилев.
На Украине, на Дону и в Причерноморье мамаями называли каменных идолов, «баб» на курганах, а также сами мумии в захоронениях. По большей части это были изваяния половецкие, монголоидных пращуров в виде беременных женщин и воинов. Встречались среди них и скифские и даже арийские – древнейшие, однако зачастую скрытые в насыпях. Бытовала легенда о том, что мамаи – это люди, окаменевшие то ли от долгого стояния во время потопа на рукотворных холмах, то ли за грехи свои…

В парсунах и на лубках с изображениями Казака-Мамая придерживались тех же правил, какие проглядывали в изображении курганных идолов. Поза, выражение лица, чуб-осэлэдэць появились не в тюркско-татарской среде, а в арийской, они и доныне сохраняются брахманами Индии. Плошка с горилкой-водкой, как непременный элемент изваяний, татарской традиции никак не присуща и восходит к арийскому напитку соме. И, конечно же – оружие. Но если на изображениях ХYII и последующих веков наряду с пикой изображались стрелы и лук, причём, над плечами героя, то эту деталь можно рассматривать как традицию брасмана: магического орудия для прокалывания пространства и времени. Эта же традиция просматривается и в оформлении каменных крестов над могилами запорожцев и задунайцев, кладбища которых сохранились у сёл: Капулочка, Усатово, Нерубайское. Большинство крестов – явно дохристианского периода.
Изображение коня на картине, – как считает Юрий Шилов, – тоже неслучайно. Его изображение у дерева или рядом с курганом указывает на ашватху – конское дерево ариев. Чисто жанровыми можно считать разве только изображения турчина или ляха, подстерегающего казака где-то на заднем плане картины, а также довольно редкое изображение матери или иного женского образа.
Конечно, предстоит ещё выяснить, как сложился канон Казака-Мамая – исходит ли он от средневековых картин и портретов, от православных икон, буддийских танков и действительно ли в нём арийская древность или же отмеченные признаки просто обыденные совпадения, принадлежащие представлению о казаках вообще, – красноречивое свидетельство совмещения тюркской и славянской культурных традиций.
Появление изображений канонического Казака-Мамая совпало с народно-освободительной войной на Украине, мощным движением за воссоединение Руси, появлением таких замечательных личностей из казачьей среды, как Богдан Хмельницкий и Иван Сирко. Примечательно, что народное восприятие этих и других исторических героев в народном сознании происходит в свете эпического облика Казака-Мамая. Непобедимый атаман Сирко снискал поистине всенародное уважение. Его можно считать восприемником Казака-Мамая. Был он выдающимся характерником. И народ как бы в обход церковных правил канонизировал его. Сирко – от серый, сирый, иносказательное прозвище волка. Есть легенда о превращении кошевого перед вражеским войском, что отвечает древним, уходящим в индоевропейское прошлое поверьям славян. Народ же возвеличил атамана как Серентия Иоановича Праворучника. Согласно легендам, не брали его ни пули, ни сабли. А, умирая, завещал отрубить свою правую руку, семь лет носить её пред войском, а затем вернуть обратно в курган, в могилу: «Не бойтесь, что я не православный. Я есть православный христианин!» Как видим, народ канонизировал любимейшего из атаманов по православному канону. Такой же канон следует искать и в изображениях Казака-Мамая.
Были прототипы эпического образа. В ХVII веке известен некий разбойник по имени Мамай, правдолюбец, защитник униженных, вешавший врагов своих на дубу. Тот Мамаев дуб и до сих пор есть на юге Украины…

Имя Мамая было в народе распространённым. Так назывался и идеальный персонаж народного кукольного театра-вертепа, где он произносил длинные монологи. Мамай обличал несправедливость, неправду, отстаивал честность, помогал бедным. При всём своём шутовстве имел благородный облик. Этот разудалый герой вызывает в памяти древнерусских былинных богатырей. Видимо его богатырская и магическая сила стала причиной того, что рисовали его повсюду – на стенах хат, на дверях, скрынях-сундуках с приданным для невест, на ульях. Его изображение было защитой, оберегом от нечистой силы.
У Д. Яворницкого в описании устройства Сечи есть упоминание о неких правилах жизни запорожцев, которые висели в куренях. Никаких текстовых правил, конечно, не сохранилось, может быть, их как таковых и не было. Но висел идеальный портрет казака, в котором отражены все черты, присущие запорожцу. В нём были и добродетели православного воина, и грехи, явные для художника.
Среди картин, хранящихся в кубанских коллекциях, есть очень древние, писанные профессиональными художниками. Кубанские картины представляют собой собственные переработки, осмысленные толкования древних образов. Прижившись на Кубани, Казак-Мамай приобрёл и новые черты. К примеру, игральные карты появляются уже только на кубанских вариантах картин. Деталь очень значительная и неслучайная, ибо в ней проявилась некая всеобщая особенность, приобретённая временем, символизирующая саму судьбу и её превратности.
Вместе с тем кубанские картины приобрели иконографическую определённость и ясность. Все кубанские картины как бы писаны с одного лица, с одного подлинника. Это, конечно, уже иной Мамай, кубанский. Вроде бы тот же, но иной. И по-прежнему – ясный, неуловимый, живой и таинственный…
Но если даже не углубляться в далёкую древность и не усматривать в этом образе арийские проявления, то и тогда облик Казака-Мамая представляется удивительным, можно сказать, всемирно-цивилизованным, культурным явлением. В этом образе, и это очевидно, произошло совмещение тюркских и славянских культурных традиций. Этот образ является наглядным свидетельством той редкой межкультурной традиции, о которой пишет, к примеру, А. Панарин: «Именно на территории России произошёл факт всемирно-исторического значения: появление цивилизационной и геополитической системы, являющейся продуктом совместного творчества христиан и мусульман. Нигде в мире столь устойчивых синтезов подобного типа не было достигнуто!» «Русский узел», «Москва, 1999».
Понятно, что такой драгоценный образ, воплощающий в себе истинное духовное и культурное единство народов, не должен быть забыт на Северном Кавказе, где соседство разных народов является неотвратимой реальностью. Он как бы указывает на тот единственный путь взаимодействия народов и культур, исключающий конфронтацию, ведущий к единству через их многообразие. И если бы в Краснодаре, столице казачьего края, был бы установлен памятник Казаку-Мамаю, он стал бы напоминанием не только об изначальном образе казака, но и о принципах жизни разных народов в таком пёстром по составу жителей регионе, каким является Северный Кавказ.
Кстати, другие народы не забывают своих основных базовых образов и символов. Грузины и сегодня чеканят монеты, на которых изображён особо ими почитаемый святой Мамай. И никаких ассоциаций с историческим Мамаем у них не возникает… Всё дело у нас, как понятно, в упрощённом представлении о своей духовной сути и утилитарном, примитивном понимании культуры вообще, когда, то ли секретарь обкома, то ли губернатор определяет каковым и где памятникам быть…
В силу самого своего геополитического положения, с древнейших времён Кубань оказывалась на стремнине тех социальных и духовных катаклизмов, которые терзали Россию. Среди других областей и краёв она отличается наиболее ярко выраженными особенностями культуры. Связано это с тем, что культура её складывалась из русской и украинской языковых стихий. В результате здесь сложилась единая и своеобразная этническая общность с оригинальной и своеобразной культурой. Но именно это, как ни странно, и определило её сложное положение. Учёных и политиков, как видно, пугал сам факт «двуязычия». И вместо того, чтобы объективно и трезво оценивать культурную ситуацию такой, какой она есть, предпринимались постоянные попытки силового подавления культурного своеобразия края. Естественно, что это сказалось и на судьбе действительно народного героя Казака-Мамая. Он, выразитель и народный заступник, оказался, по сути, забытым…
Теперь уже совершенно ясно, что Кубани необходим некий символ, некий образ, который свидетельствовал бы о стремлении преодолеть этот духовный перерыв в её культуре. И таким символом, безусловно, является народно-поэтический образ Казака-Мамая, Казака-Бандуриста, народного сказителя, певца и заступника…
Как-то в художественном салоне «Талант» в Краснодаре, что на улице Красной, была выставлена для продажи старая картина «Казак-Мамай». Имя владельца, естественно, не разглашалось, а потому мне и не удалось узнать, что подвигло, что побудило его расстаться с кубанским раритетом. Просил он за картину недорого. Но картину так никто и не купил. Приценивались музеи, но почему-то не взяли. Пришлось хозяину забрать свою реликвию из салона.
Этот вроде бы обычный случай, представляется мне чрезвычайно символичным. Из него напрашивается несколько выводов. Или кубанцы окончательно уже забыли своего истинного народного героя, выражающего их представления о мире, оглохли и ослепли к той тревоге, печали, боли, радости и красоте, которую картина являет. Или же тот, кому эта картина действительно необходима, не имеет возможности её приобрести. Но есть и иной смысл этого факта. Основной чертой народного героя картины было пренебрежение ко всякого рода меркантилизму, торгашеству, христианское радение прежде всего о духовном: «А ты як хочь назовы, абы лышь нэ крамаром – за цэ то полаю…», то есть, не торговцем…
Так хотелось верить в то, что дело здесь не только в картине как таковой, но именно в характере её героя, который по самой своей сути проданным быть не может, ибо это, по его понятиям, есть высшая степень унижения и человеческого падения. Так хотелось поверить в то, что именно потому и не нашлось покупателя, что среди кубанцев всё же живёт чистая, светлая широкая душа народного героя и что они, может быть, и сами не вполне осознавая эту связь с древним образом, исповедуют его ценности и идеалы, согласно которым не всё продается и не всё покупается на этом неустроенном свете…