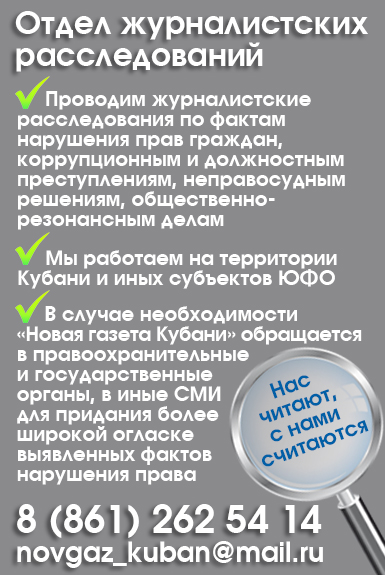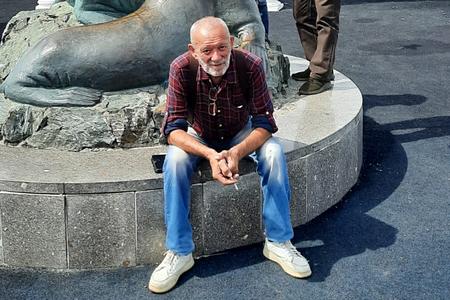
Культурный проект «Родная речь»
2275
Рок-н-рольное время ушло безвозвратно,
Охладили седины твоей юности пыл.
Но я верю, и верить мне в это приятно,
Что в душе ты остался таким же, как был.
В. Цой
В начале был «Битлз». В школьную юность неразборчивая музыка на бобинах раздолбанной магнитофонной приставки «Нота» ворвалась через частокол бодрых комсомольских песен, «Голубых огоньков» с Магомаевым и Зыкиной, сатиры журнала «Крокодил», романтичных бригадиров из журнала «Юность», всеобщего осуждения американской военщины во Вьетнаме, громких застольных песен соседей по коммуналке.
Все одноклассники поголовно взялись обучаться на гитаре и, познав «барэ» и «большую и маленькую звездочку», тут же создавали свои многочисленные ВИА. Электрогитары делали сами по схемам из «Юного техника».
Одновременно началась неравная битва за длинные волосы. Борьба за каждый сантиметр шла с родителями, учителями и самым тяжелым калибром - военруком. Познания отставников ограничивались двумя стильными прическами: «бокс» и «полубокс». Любой пушок на затылке именовался «патлы».
Человек в джинсах становился небожителем. Если у него были еще и длинные волосы, то это стопроцентно был музыкант. Девушки складывались перед таким в штабеля.
«Цветы», «Веселые ребята», «Самоцветы», «Ариэль», «Песняры» — наш ответ на происки ливерпульских родоначальников аргументировался доступностью их официальных пластинок. Или звукошуршаших песен их «отцов», записанных в студиях звукозаписи «на костях», или, более дорогих, фирменных, на «чёрном» рынке.
Но чуть-чуть вернёмся к истокам. Последствия оттепели родили интерес к поэзии и альтернативной музыке. Так, кроме бардов, родились еще и ВИА. Электронные инструменты на уровне оркестров «голубых огоньков» воспринимались, как альтернатива одинаковости гладко выглаженных солистов-любимцев. Поэтому и ставили их в «голубые огоньки» последними.
А началось всё с бардов. В шестидесятых гитара перестала быть олицетворением мещанства. С ее грифа исчез бант, но на деке еще встречались немецкие девушки на «переводилках». Кроме многочисленных студенческих театров, первых команд КВН, первых Клубов самодеятельной песни, первых танцевальных вечеров под школьное ВИА, появилось глобальное туристическое братство. В штормовку и рюкзак влезали не только в отпуска, но и каждую пятницу. Профессия «геолог» стояла в мечтах школьников на втором месте после «космонавта». Хотя…нет… космонавты уже уступали. Физиков побеждала лирика. Появилась общедоступная гитара. «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой»…
Между бардами и остальной культурой тогдашних ВИА лежала пропасть, которая внятно делила молодежь на русских поэтов и музыкантов, старающихся быть современными. Те ВИА (простите за аббревиатуру, называю тогдашним языком), кто сидели в подполье, пели на английском. Сам грешен.
У бардов появилась своя элита авторов и они, отнюдь, не пели на английском. Исключительно на языке соотечественников. Простота, искренность, интимность и откровенность стала альтернативой существующих всенародных песен для молодёжи. (Хотя, признаться, некоторые те песни я до сих пор люблю, как и свою пионерскую юность). Барды не жили в вакууме и многие из них любили западный рок, джаз.
Барды были первыми. У костров (только среди близких друзей) пели и подозрительно погибшего в эмиграции Галича, и ехидные песни опального Юлия Кима (которому пришлось стать для кинематографа и театра Юлием Михайловым), двусмысленного Дулова, Агроновича, Окуджавы. Правда, Владимира Высоцкого у костров не пели. То ли от уважения к личности, то ли от слабости попытки воспроизведения его индивидуальной мощи.
Весь этот поэтическо-музыкально-альтернативный протест каким-то образом переменил и наших рок-н-рольщиков. Они на электронных инструментах вдруг запели на русском, но уже так, что захотелось слушать их тексты! Двусмысленности «Машины времени», какая-то новая тоска «Аквариума», внятные и без красивости тексты песен «Воскресенья». Потом ворвался яростно – жизнелюбивый «АукцЫон» и «Звуки Му» со своим мамоновским, не всеми адекватно воспринимаемым сарказмом. Стало много лидеров и не только на Рубинштейна в Ленинграде и в необъятной Москве, но и на Урале.
В Ленинградском клубе на ул. Рубинштейна - «роддоме» российского андеграунда, мне повезло бывать на самых первых концертах «ДДТ» и «Наутилуса». Все это было не просто альтернативой, а каким-то особым, присущим только России, продолжением жанра внутреннего протеста. А потому и воспринималось властью с циничным противодействием. И хотя барды и рок-н-рольщики протестовали тогда одновременно, воевали со всеми дубово одинаково. Фестивали бардов закрывали по причине заражения местности «ящуром». где они собирались на свои фестивали. Оговорюсь ещё раз, бардовская песня была интеллигентно тихим протестом. Без усилителя громкости. Но, в отличие от рок-н-рольщиков (на мой взгляд) – более сокрушительным для существующего строя.
И все же добили - «рокеры».
Рок-н-рольщики делали концерты в пригородных Домах культуры колхозных свиноферм, концерты начинались уже в битком набитых молодежью электричках. Это был более громкий протест. Для власти – протест, навязанный с Запада. Так о них и писала (ударение над этим глаголом ставьте, где хотите) советская пресса.
В Краснодаре рулил «Арбат». На уличной тусовке смешались художники и музыканты. Вместе с разрешением на продажу картин прямо на улице, где даже на моих глазах свою первую работу удивленно продал прохожему сегодняшний мэтр живописи Валерий Блохин, на улице появились и гитары. Повылезали «из подвалов» рокеры и стали собираться в стайки. Первыми были «Герои Союза», «Доктор Крупов», «Стальная птица», чуть позже - «Нет» и «Дрынки». Небожителями стали «Василич», Женя Греков, Эбергард. В восьмидесятых и начале девяностых проявились Маша Макарова, Женя Куземин, Женя Кастрыгин и, конечно же – Рубен Казарьянц!
На краснодарских экранах ТВ появился революционный ТМК (Телевизионный Молодежный Канал). На котором кроме рокеров и молодых художников и поэтов, была рубрика даже для «металлистов», во главе с титановым Хаером. Блистал вездесущий Костя Омельчак. Везде, где только можно. В еще работающем, но умирающем «Комсомольце Кубани» родилась «Партия Любителей Пива».Театр Юного Зрителя перерождался в Молодежный театр.
Л. Гатов ковал «Премьеру». Заблестали на сцене братья Чижаи, Игорь Шишов, подъехала Алена Стихарева (Андреева). На ГТРК В.Рунов разрешил юморить (в порядке эксперимента и духа перестройки) Юре Архангельскому, Сергею Кожанову. Там же умничали Эдуард Гончаров, Анатолий Васильев.
У бардов Кубани тоже был «серебряный век». Авторы тихой песни, попахивая дымком костра, вышли на сцену городских ДК к микрофонам. Появились районные, городские, региональные клубы и новые авторы. Хотя славы и мощи Руслана Шмакова и всесоюзно - тихотворящего в поселке возле Туапсе Владимира Ланцберга на «большой земле» с кубанской стороны никто не проявился. Впрочем, песни отца и сына Эдуарда и Андрея Гончаровых часто и сейчас слышу в разных уголках России.
Таким нелегким для граждан, но прекрасным для творчества было время наших надежд и разочарований середины «восьмидесятых» и начала «девяностых» на Кубани и в России. В то время я жил в разных городах одновременно. Поэтому заметил…
Что в России появился… Цой!
Вначале он показался мне позером. Этаким… псевдо-глубокомысленным не поэтом с задатками молодежного лидера нового поколения.
«…Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка…»
Я пытался въехать в смысловой код, но надеть эту рубашку на себя не получалось. Помогла дружба с параллельным движением андеграунда, но в живописи. Нечаянные друзья «Митьки», закусывая вермут плавлеными сырками, писали свои опусы-картины исключительно для себя и друзей, нисколько не задумываясь о мнении критиков и зрителей. Это и делало их искусство личным, ехидным ко времени, государственному устройству, признанным авторитетам. Они стали продолжателями стеба Козьмы Пруткова, Даниила Хармса, Венечки Ерофеева.
Музыканты стебались не все. Гребенщиков, Курехин, да, пожалуй, Мамонов. Цой был абсолютно серьезен. Но писал свои стихи для трех – пяти друзей, которые понимали каждое его слово, полунамек.
Только то и может стать выдающимся, что не делается на продажу. Настоящий эксклюзив делается как бы исключительно для личного употребления, но становится понятным и дорогим всем. Всем, кто настроен на эту же волну, на эту же высоту мироощущения, философского поиска. Срабатывает радость понимания и, как следствие, чувство сопричастности.
Цой стал знаменит, еще работая по ночам кочегаром. Но, по-мальчишески стал ходить по Питеру в кожаном длинном плаще с двумя громилами телохранителями.
Картины «Митьков» неожиданно для них самих стали скупать иностранцы за сотни тысяч долларов. Сырки «Дружба» сменил сыр «Рокфор». Рок-н-рольщики повылезали из подвалов и чердаков и вышли на стадионы.
Наверное, трудно протестовать два концерта в день.
«…Я ждал это время, и вот это время пришло, те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло, их не догнать, уже не догнать. Тем, кто ложится спать — спокойного сна…»
Тогда-то Гребенщиков и заявил, что «рок-н-ролл мертв». И отчасти был, увы, прав.
Конец восьмидесятых стал концом не только рок-н-ролла. Умерло и таинство фестивалей самодеятельной песни. «В Аркашиной квартире живут другие люди». Нынешние абстракционисты в живописи воспринимаются как вторичность, снобизм, и вообще — как амбициозные люди, просто не умеющие рисовать и от того надуманно выделывающиеся. Революционеры семидесятых - восьмидесятых стали вести телепередачи и поселились в пентхаусах.
Думая об ушедших Великих, трудно представить себе, а что бы было, если бы они дожили до наших дней? Что бы делал сегодня Высоцкий? О чем пел Тальков? Как бы, наверняка, стал похож на правильного Державина старик Пушкин! Каким занудой стал бы в старости Лермонтов! Наверное, Евгению Леонову было бы больно, если бы он дожил до обрушения финансовых пирамид, в телерекламе одной из которых он рискнул принять участие. Улыбался бы в девяностых Гагарин? А не осточертел бы со своей «правдой-матушкой» Шукшин? К каким переменам призывал бы сегодня Цой? И что сказал бы, если б узнал, что его именем назовут одну из улиц любимого города?
Ставя его имя в одном абзаце с Кумирами, делаю это сознательно. Точнее – осознанно. Время проверило Цоя на состоятельность. Не только мои современники ностальгируют под его песни. И для армии нынешних тинэйджеров он остаётся кумиром. Сердца требуют перемен во все времена, как и удачи в бою…
Великие уходят удивительно вовремя. На взлете. И именно в той точке, после которой наступает падение. Уход Героев Нашего Времени — это напоминание живущим о том, что нужно успеть сделать в этой жизни что-то самое главное. Не нужно только откладывать это «на потом».
«Закрой за мной дверь. Я ухожу. И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, Тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся — там, за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь. Я ухожу. Закрой за мной дверь. Я ухожу...»
Сергей КАЩЕЕВ
Свежее из рубрики