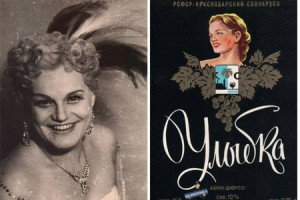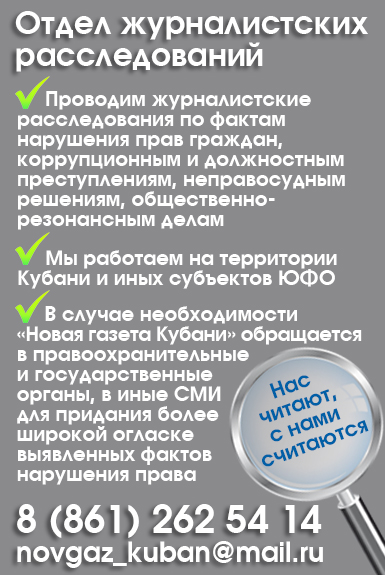«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, как памятник русского народного самосознания
2427
Берегитесь, чтобы не обольстилось
сердце ваше, и вы не уклонились,
и не стали служить иным богам.
Второзаконие, (11;16).
Если бы я писал привычное, стереотипное литературоведение, какое преобладает у нас издавна, я назвал бы эти размышления, скажем, так: «Образ коня в русском самосознании» и, в частности, в литературе. При этом по непременным условиям и этикету такого литературоведения обязательно постарался бы охватить, так сказать, всю полноту вопроса, аккуратно сославшись на каждого автора, когда-либо этой темы касавшегося, ибо полнота охвата темы по канонам такого литературоведения и является зачастую, кажется, основным признаком научности. При этом новизна взгляда, вроде бы, и необязательна…
Но, уважительно относясь к традиционным филологическим изысканиям, так как они действительно многое дают и на многие мысли наводят, я тем не менее пишу литературоведение нетрадиционное, непривычное, не то, где демонстративная полнота охвата темы составляет единственную цель предпринимаемого труда и где образной природе литературы и духовной природе человека, которые собственно и призваны объяснять литературоведение и критика, переводя их на язык обыденной логики, по сути, не находится места… Более того, именно образная природа литературы по условиям такого социального, преобладающего у нас литературоведения, выставляется не непременным её условием, а недостатком, мешающим её объяснению. А потому классики русской литературы, по такой логике вечно «ошибаются», вечно чего-то «недопонимают» не в пример их «прогрессивным» толкователям. На самом деле, классики «ошибаются» лишь потому, что полнотой постижения жизни и многомерностью художественной мысли не вмещаются в те куцые стереотипы, в которые уверовали их идеологизированные толкователи.
Так происходит, видимо, и потому, что приверженцы традиционного литературоведения заранее знают ответы на задаваемые ими вопросы. Я же и сам пока не знаю, в какие сферы народного самосознания заведёт меня избранная тема, так как цель моего писания – прежде всего самому разобраться в тех понятиях, которые не соответствуют истине, не смотря ни на какую их расхожесть.
Будем помнить о том, что «чем злободневнее (то есть «безыскусственнее») произведение художника, тем более оно поддаётся толкованию. И наоборот: чем больше в нём элементов искусства, тем в более смешное положение попадает критик, его толкующий» (А. Блок, «Об искусстве и критике»). А потому сразу отмечу, что простых и лёгких толкований вершинных творений великой русской литературы просто не бывает.
У нас ведь ещё со времён неистового Белинского повелось, что критика должна быть непременно и обязательно обзорной и публицистической, а ещё более – социальной. То есть якобы разрешающей некие злободневные вопросы жизни, к чему литература не призвана в принципе по самой своей природе, как выразительница души человеческой и народного самосознания. Такого утилитарного предназначения литература просто не имеет. Во всяком случае – это далеко не основное её свойство. И этот, внешне вроде бы самый кратчайший и эффективный по воздействию на читателя путь, оказывается на деле самым длинным, самым окольным, заводящим человека в глухие тупики позитивизма и материализма, вульгарного социологизма и бездуховности. Поистине, всё тут свершается по евангельской мудрости: «Многие же будут первые последними, а последние первыми» (Евангелие от Матфея, 19-30).
Тут кроется основная подмена понятий, происшедшая в русской литературе, что позволяло Александру Блоку с полным правом судить столь строго Белинского в статьях об Аполлоне Григорьеве, который, безусловно, представлял альтернативу в русской литературе и общественной мысли тому социальному направлению, которое было навязано довольно бесцеремонно под водительством Белинского. Разумеется, из самых лучших побуждений. Это давало право Блоку столь резко отозваться о Белинском в дневнике: «Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли»… Отсюда – начало порчи русского сознания – языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве, вплоть до мелочи – полного убийства вкуса» (11 февраля 1913 г.) Почему такая порча всё-таки произошла, в результате каких соблазнов, и к каким трагическим для народа последствиям неизбежно привела – тема отдельного, более обстоятельного разбирательства. Теперь же важно отметить то, что она имеет давнюю историю и вовсе не была явлением только двадцатого века, советского периода истории.
И хотя такая предвзятая социальная установка в литературе, опрометчиво запущенная в общественное сознание, никогда не приводила к разрешению этих самых вопросов жизни, а наоборот заводила литературу в дебри позитивизма, материализма и вульгарного социологизма, отрицая образную природу её, а стало быть, оскопляя всё многообразие жизни, пример и стереотип такой критики стал удивительно заразительным. И даже теперь, когда литературно-художественный процесс оказался разрушенным, а литература сведена на уровень пресловутого шоу-бизнеса, по старой привычке всё ещё пишутся литературно-критические обзоры, несмотря на то, что почти ничего, из обозреваемых книг и произведений, до читателя не доходит. То есть, такие обзоры пишутся в пустоту, хотя, безусловно, и имеют какое-то информационное значение. Но мы-то говорим о понимании и толковании литературы, а не информации о ней, так как сам факт публикации в наше время зачастую не имеет никакого культурного значения.
Казалось бы, что, пережив такой страшный лукавый идеологический двадцатый век, трагедии которого в иной, конечно, форме, но имеющие всё ту же природу, продолжились и в нашем веке, литературоведение и критика займутся, наконец, самосознанием народа и духовной природой человека, то есть собственно предметом самой литературы. Увы, этого не произошло.
Между тем, как обращение к образу, как наиболее полному и общему постижению вещей этого мира, свойственно человеку изначально. Не благозвучия слога ради и украшательства текста, как были поняты образность и художественность в наше «цивилизованное» время, а именно для постижения сути вещей этого мира и тайны человеческого бытия. Вспомним евангельскую мудрость: «И приступив, ученики сказали Ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано… Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют» (Евангелие от Матфея, 30, 10-13). Или в «Молении Даниила Заточника»: «Да раскрою в притчах загадки мои». То есть к образности люди изначально прибегали потому, что с помощью неё можно было достичь того, чего невозможно было достичь другими формами сознания, – из-за её, так сказать, универсальности и ничем незаменимости. Но, к сожалению, наше позитивистское сознание и самой притче придаёт значение не иносказательное и образное, а поучительное и дидактическое (см. «Притчи». М., «Мирос», 1994 г.) Образный – это, прежде всего, сущностный, вбирающий в себя главное содержание. Ведь само слово образ происходит от – резать (М. Фасмер), обрезать, и надо полагать, удаляя всё лишнее, оставляя лишь основное. Образ – значит вещь подлинная, истинная, достойная подражания. Отсюда – образец, служащий эталоном и мерилом.
Отсюда так же происходит и – образованный, образование. То есть, первоначальное значение слова образованный значило мыслящий образами. Подозреваю, что слово безобразный, как некрасивый, неприглядный, уродливый происходит от – без образный… Ну, и главным подтверждением огромного значения образного мышления в русском самосознании является то, что иконы у нас называются образами.
Можно сказать, что образное мышление является вершинным проявлением самопознания человека. И свойственно оно человеку искони, так как ни одна из философий не в силах объяснить ход истории до конца и тайну человеческого бытия. А потому уклонение от образности, вытеснение её из общественного сознания, является верным признаком общего упадка жизни, сопровождаемого риторикой о прогрессе, предполагающем конечное познание жизни, то есть её обессмысливание и катастрофический перерыв в её постепенности. И, действительно, в последующем это основное значение понятия и слова подвергается подмене. Образ уже понимается всего лишь как внешний вид, очертание. То есть, слово искажается на прямо противоположное значение – вместо главного, сущностного, оно понимается как внешнее.
Этот малый экскурс в этимологию слова образ совершенно необходим для понимания дальнейшего повествования. Тем более, что у нас сложилось, довольно странное соотношение искусства и жизни. И хотя понятно, что «где нет жизни, там не может быть художества» (Н. Страхов), издавна и последовательно жизнь противопоставляется искусству, то есть образному мышлению, без которого постижение человеческого бытия немыслимо, и которое, просто подавляется и вытесняется «самой жизнью», что сопровождается демагогией об «искусстве для искусства», понятием абсолютно невразумительным, не имеющем предмета обозначения, то есть, говоря современным языком, – виртуальным…
Образная природа литературы с её стремлением к идеалу, а значит, и «несоответствие» её самой жизни, попадает в поле спекуляций. Мол, по причине именно своей образной природы литература не постигает жизнь, а стало быть, зачем нужна такая литература, нужна другая – нигилистическая, обличительная, социальная, выливающая на читателей ушаты помоев. Это якобы и есть «правда». Вот нехитрая логика вытеснения подлинной литературы из общественного сознания. Помимо финансового, «рыночного» механизма.
Александр Блок писал о том, что дело поэта – совершенно «несоизмеримо с порядком внешнего мира» и что возникают вопросы о проклятии искусства, о «возвращении к жизни». Но как понятно, только в такой «противопоставленности» жизни и поэзии, а не в безоговорочном их «слиянии», поэзия и может существовать и выполнять своё предназначение духовного просветления людей. Других же каких-то утилитарных или социальных задач, вопреки всем настойчивым и бесконечным утверждениям, у неё просто нет. Если же ей всё-таки навязываются «практические вопросы», ей не свойственные, она просто уходит из этого мира, оставляя человека теперь уже не терзаться над неизбежными вопросами бытия, а, погружая его в болезненное духовно-мировоззренческое состояние, которое, как правило, заводит человека в духовное и мировоззренческое сектантство, в светскую ересь, под которой я понимаю отступление от правосознания вообще и которая, мало чем отличается от ереси церковной.
В статье «О назначении поэта» А. Блок так же писал о том, что «поэт – величина неизменная», что «сущность его дела не устаревает», что он «сын гармонии» и что дело его вовсе не в том, чтобы «достучаться непременно до всех олухов». Велик соблазн «новой» литературы в каждую новую эпоху. На это тоже можно сказать словами Блока, что «несовременного искусства не бывает». Приходится отвлекаться, чтобы уточнять основные смыслы, так как они в нашем современном языке и сознании подвержены искажению. Тем более, что это имеет прямое отношение к теме моих размышлений – прочтению баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
Итак – образ коня в русском самосознании и в частности в литературе. Изначальная жизнь человека с конём выработали в его душе и сознании многогранный образ, далеко не сводящийся к бытовым реалиям и соответствиям. Да и не только в русском самосознании. В традиционных эпосах, пожалуй, всех народов есть этот образ (к примеру, см. Р.С. Липец, «Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе», М., «Наука», 1984 г.) Но мы всё-таки говорим о русском самосознании. И здесь есть свои особенности этого традиционного для многих народов образа.
Надо сказать, что эпические образы в народном самосознании и культуре обладают таким загадочным свойством, что, созданное на определённом этапе народного развития, не отмирает в последующие времена, не является чем-то архаическим, но остаётся живой реальностью. Прошлое здесь не отменяется и не заслоняется последующим. Это относится к былинам, народным сказкам, пословицам, многим эпическим песням, которые, так сказать, не воспроизводятся, вновь не пишутся, а создаются однажды и на все времена… В дальнейшем они могут или сохраняться, тем самым оберегая культурный код народа, или – искажаться. А потому мы можем вослед за Ф. Буслаевым сказать о том, что следует выставлять «народную поэзию в её настоящем свете, как постоянное, ни от каких случайностей независящее выражение мышления, впечатлений и чувствований народа». («Исторические очерки русской народной словесности и искусства», Санкт-Петербург, 1861 г.) Именно по этой причине на людях культуры лежит огромная ответственность за благополучие народа, так как всякая иная жизнь народа – (хозяйственная, социальная и т. д.), напрямую зависит от его духовно-мировоззренческого состояния, ибо в начале было слово… Но, к сожалению, русская народная культура и народное самосознание искажаются постоянно и методически, – неосознанно и злонамеренно, что сути дела не меняет. Всё народное зачастую представляется как нечто архаическое, отжившее, лубочное, что не только не может пробудить к нему любовь в новых поколениях, а разве что вызвать отвращение.
Наглядным примером такого искажения эпического образа является, к примеру, известная пословица украинского происхождения, вошедшая в русское самосознание, к сожалению, в искажённом виде: «На Тоби, Боже, шо мини нэ гожэ». То есть на Тебе, Боже, то, что мне не нужно. Странное всё-таки действо, отдающее душком откровенного атеизма. На самом деле в пословице говорится не о Боге, а о небоге, то есть нищем: «На тоби нэбожэ, шо мини нэ гожэ»…
Такой природой эпических образов объясняется тот, на первый взгляд необъяснимый и поразительный факт, что образ коня присутствует в поэзии даже тогда, когда люди перестали с ним общаться так, как в былые времена, когда и лошадей-то почти не осталось, разве что в спортивных секциях и клубах, да на ипподромах…
Реально-бытовая сторона здесь имеет отношение к образной отдалённое, хотя и связана с ней. Есть же у Николая Рубцова, в творчестве которого так часто встречается образ коня, такое стихотворение: «Я забыл, как лошадь запрягают…». А у Юрия Кузнецова стихотворение «Последние кони»: «Се – последние кони!/ Я вижу последних коней./ Что увидите вы?» То есть реально-бытовое в стихах важно и неизбежно, но не оно всё-таки определяет образное восприятие мира, его духовную основу.
Конь – самое близкое воину существо, даже, кажется, ближе, чем товарищ-односум, с которым он делит все тяготы службы и войны. Раненый, умирающий на поле брани воин в народных песнях обращается именно к коню, именно ему поверяет свою последнюю волю, то есть завещание. Причём это обращение исполнено глубокой эпичности – сравнения битвы со свадьбой, уходящей в немыслимые дали народного самосознания и имеющего свои причины и объяснения. Вот только один пример такого обращения умирающего воина к своему коню:
Ты беги, мой конёк, к отцу-матери,
Молодой жене скажи, что женился на другой.
А женила меня шашка вострая,
Ой, как невестой была пуля быстрая.
А в зятья приняла мать сыра-земля.
В связи с этим традиционным поэтическим образом, можно с большой долей достоверности предположить, что известная и популярная, в особенности на Дону, песня «Чёрный ворон», является вариантом более ранних эпических песен. В самом деле, ворон – зловещий образ в народной поэзии, выклёвывающий очи, павшему воину. Нет никакой логики и поэтической последовательности в том, что, умирающий воин поверяет свою последнюю волю именно ему:
Отнеси платок кровавый
Милой любушке моей.
Ты скажи: она свободна,
Я женился на другой.
Взял невесту тиху-скромну
В чистом поле под кустом.
Обвенчальна была сваха –
Сабля вострая моя.
Есть все основания предполагать, что традиционное обращение к коню в этой песне подменено обращением к ворону. Ведь ворон со времён давних обозначает не только цвет, но непременно имеет значение зловещее и отрицательное для человека. К примеру: «Яко ночные вранове не обретаемся, сдавляемы грехом смертным» (Словарь древнерусского языка, т.I., М., «Русский язык», 1988 г.). А потому вполне допустимо сблизить слово ворон, вран со словом вороп – налёт, нападение, грабёж, добыча. (М. Фасмер). В любом случае умирающему воину доверять свою последнюю волю такому образу нет никакого смысла и значения. Зачем же доверять её тому, кем она по враждебности к воину не будет исполнена?.. Это никак не вяжется с той любовью к коню и ненавистью к ворону, которые проходят через всё народное поэтическое творчество.
А. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу» приводит многие верования и приметы, связанные с конем: «Следы древнего обожания лошадей замечаются в тех целебных и охранительных свойствах, которые приписаны им наравне с весенним дождём и наговорной ключевой водою (т. е. водою, в которую брошен горячий угль – эмблема молнии). Так, в наших деревнях больных умывают водою, которую не допила из ведра лошадь; в Пензенской губ. собирают обсекаемые в кузнях лошадиные копыта, пережигают на огне и дают нюхать больным лихорадкою; в других местах под изголовье страдающего лихорадкою кладут конский череп…».
И что примечательно, верования эти связаны уже не только собственно с конем, но и памятью о нём: «Германцы, желая отвратить от дома опустошительное действие грозы и другие несчастия, ставили на шестах и на верху изб конские головы с разинутыми пастями, обращёнными в ту сторону, откуда ожидали беду… Известен также обычай прибивать на порогах подкову, как средство, предохраняющее границы дома от вторжения нечистой силы…».
Можно сказать, что, как в Индии священною почитается корова, так в народах славянских священной почитается лошадь.
Свой мир, своё жилище человек не мыслил без коня. Именно поэтому верхний брус на кровле избы называется коньком, который даже венчался резной лошадиной головой, как верование в охранительную силу коня. Сергей Есенин в своей известной фольклорной статье «Ключи Марии» увидел в этом, не вечно живущее верование, а некую устремлённость русского человека, склонность к путешествиям: «Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице».
Удивительно, что, несмотря на все искажения и уклонения, обычаи и поверья, связанные с конём и подковой, сохраняются очень стойко вплоть до сегодняшнего дня. Так человек, прибивающий подкову на борт своего грузовика «на счастье» не думает и не должен думать в тех понятиях, которыми оперируем мы в целях эмпирических. Он «угадывает» эту взаимосвязь интуитивно. Так и должно быть, и никак не иначе. Преемственность и традиция осуществляется именно на этом интуитивном, подсознательном уровне, а не на рефлективном, мыслительном, способном завести человека куда угодно.
Поверья и обычаи, связанные с подковой, сохранялись не только на бытовом уровне, в среде народа, но и в верховной власти. В связи с этим поразительным был обычай во время коронации русских царей. Во всяком случае, сохранилось описание коронации Павла I в 1797 году с таким обычаем. Лошадь царя, красавица Помона для коронационного торжества была подкована серебряными подковами из одного самородка серебра. При этом каждая подкова прикреплялась всего несколькими гвоздями с таким расчётом, чтобы при подъезде царя к Спасским воротам Кремля лошадь теряла одну подкову за другой на счастье народное. Счастливцы, кому это удавалось, поднимали эти царские подковы. Говорят, что одна из таких подков до революции прошлого века хранилась в музее Конюшенного ведомства… Стойкость этих поверий и обычаев, безусловно, свидетельствовала о том, что конь присутствовал в народном самосознании как некий символический и магический образ. Именно в таком значении образ коня и присутствует в русской литературе вплоть до сегодняшнего дня.
В стихах Александра Блока и, в частности, в его цикле «На поле Куликовом», имеющем, как понятно, далеко не только историческое значение, кони символизируют ту народную творческую стихию, ничем не управляемую, живущую по своим незримым законам, вне которой благополучной народной жизни не бывает:
Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
…Объятый тоскою могучей
Я рыщу на белом коне…
Примечательно, что, обращаясь к образу коня, Блок исходил из народного самосознания – поверий и легенд. В частности, известный рефрен – «Летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль», – происходит от поверья, услышанного поэтом в менделеевском Боблово: «Она, мчащаяся по ржи». В народном поверии имя было табуировано, то есть не произносилось, но в стихах поэта обрело конкретный образ – кобылиц…
В стихах Сергея Есенина конь соотносится с самой судьбой, с жизнью вообще:
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней, гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Но удивительно, что при всей неожиданности образа С. Есенина – «проскакал на розовом коне» – он имеет своего довольно дальнего предшественника. У К. Батюшкова в «Элегии из Тибулла»:
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях в блистанье принесёт,
И Делию Тибулл в восторге обоймёт?
Кроме того, конь символизирует родину со всей её многотрудной судьбой, как в «Тихом Доне» Михаила Шолохова, в лирическом и пронзительном авторском монологе: «Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-солёный запах, жуёт шелковистыми губами и ржёт, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красно-глинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!»
Кажется, это же значение имеет образ коня и в стихах Николая Рубцова. Но не только это. У него этот образ всё-таки более многогранен и многозначен. Он символизирует уже и некую спасительную таинственную силу, уберегающую от коварного разорения родины, как в известном стихотворении «Видение на холме»:
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях
России.
Кресты, кресты…
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они – и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной –
бессмертных звёзд Руси,
Спокойных звёзд безбрежное мерцанье.
Через образ коня поэт представляет вечность и незыблемость родины, несмотря ни на что. Но не только такое значение имеет образ коня в стихах Николая Рубцова. Он удивительным образом соотносится у него с возможностью (или утратой такой возможности) познания всей сложности мира, с самосознанием человека, ибо именно это является самой надёжной броней от всех влияний и покушений на человеческий и народный дух:
Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!..
…Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё, понимая, без грусти пойду до могилы…
Отчизна и воля – останься моё божество!
Как видим, само наличие и сохранение этой «таинственной силы» является непременным условием существования России, Отчизны…
Попутно отмечу, что публикации этого стихотворения встречаются в двух вариантах: «таинственной силы» и «возвышенной силы». И всё же речь тут идёт именно о «таинственной силе», так как это в большей мере связано с поэтической и духовной традицией вообще. Это подтверждается и сохранившимися записями этого стихотворения в рукописи поэта.
Безусловно, что это одно из самых глубоких и совершенных творений в русской поэзии второй половины двадцатого века, вбирающее в себя и духовные, и созидательные, и многие иные аспекты своего времени. Тем удивительнее теперь, когда у великого поэта появилось столь много друзей, читать, к примеру, такое признание Льва Котюкова в его небрежной, стилистически какой-то расхристанной книге, само название которой двусмысленно и уничижительно по отношению к Рубцову – «Демоны и бесы Николая Рубцова» (Издательский дом «Юпитер», М., 2004 г.): «Не буду лукавить: сами стихи не произвели на меня сначала особого впечатления. Между тем, как поэт читал «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». Сами стихи, видите ли, не произвели впечатления. А чем же поэт должен производить впечатление, если не стихами? Внешним видом, осанкой? А когда произвели впечатление? Когда произвели на всех? Странное признание, которому не придаёт значимости даже вроде бы безоглядная искренность автора. В таком случае ничего не значат его грозные обличения популярных эстрадных поэтов, так называемых «шестидесятников», впавших в «антирусское шарлатанство», на которых стихи Николая Рубцова тоже «не производили» впечатления, но уже по иным причинам и соображениям. Главное состоит в том, что в обоих случаях столь значимые стихи впечатления «не произвели». Мотивация при этом уже не столь важна. Своих поэтов надо различать вовремя, иначе складывается впечатление, что причина тут во всеобщем признании поэта, за которым следует автор, а не прозорливость его как первого читателя и слушателя великого поэта…
В том же русле самоосмысления, хотя и по-иному, присутствует образ коня и в стихах Юрия Кузнецова. Примечательно, что, в такого рода поэтических размышлениях конь, по обыденной, не образной логике вроде бы совсем не обязателен. И, тем не менее, этот образ в его стихах постоянно появляется. Как, к примеру, в этом стихотворении, представляющем собой переосмысление известного убеждения Ф. Достоевского о терпимости и восприимчивости русского человека к иным культурам:
Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напоил лошадей.
Мы поскачем во Францию-город
На руины великих идей.
… Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие священные камни
Кроме нас, не оплачет никто.
Но есть в стихах Юрия Кузнецова и особенность этого образа, кажется, мало у кого встречаемая из современных поэтов. Образ коня оказывается у него на том месте, где должна быть икона:
На тёмном склоне медлю, засыпая,
Открыт всему, не помня ничего
Я как бы сплю – и лошадь голубая
Встаёт у изголовья моего.
И уже более определённо и однозначно в стихотворении «Кубанка» образ коня соотносится с верой. Точнее – с утратой «Молитвы родины святой», молитвы «позабытой».
Клубится пыль через долину
Скачи, скачи мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину
Летя из полымя в огонь.
Гроза гремела спозаранку,
А пули били наповал.
Я обронил свою кубанку,
Когда Кубань переплывал.
Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы в ней зашитой
Рукою матери родной.
Кубань кубанку заломила,
Через подкладку протекла,
Нашла молитву и размыла,
И в сине море повлекла
Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы позабытой,
Молитвы родины святой…
Следует сказать, что соотношение коня с верой выходит из народного самосознания, что проявилось, к примеру, в пословицах: «Конь везёт, Бог несёт», «Конь под нами, а Бог над нами». По народному поверью из всех животных только лошадь умеет молиться. А потому в некоторых губерниях соблюдался обычай вешать в конюшнях, с правой стороны над яслями, образ Флора и Лавра. Для «конной мольбы» в некоторых местностях устраивались особые деревянные часовни, предназначенные для чествования этих мучеников, покровителей лошадей в их заветный день. В переводном памятнике Древней Руси «Беседе трёх святителей» Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова – есть прямое уподобление коня правой вере: «Иоанн рече: «Конь есть правая вера христианская…». Это уподобление, выходящее из глубин народного самосознания, многое объясняет в творчестве русских поэтов, как прошлого, так и нынешнего времени.
И всё же соотнося образ коня с верой, с утратой её, убеждаешься в том, что Юрий Кузнецов остаётся здесь наиболее близок пушкинской традиции. Как, впрочем, и Николай Рубцов в стихотворении «Видение на холме». Конечно, я имею в виду, прежде всего «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина, понимание и толкование которой, как мне представляется, не вполне соответствует авторскому тексту. Собственно говоря, рассказать о том, что же в действительности изобразил А.С. Пушкин в балладе «Песнь о вещем Олеге», основанной на летописном предании, почему князь принимает смерть «от коня своего» и составляет цель моей мировоззренческой повести. Согласимся с тем, что конь символизирует правую веру, что принять смерть от него, а значит и от веры – ситуация необычная, если не сказать более – из ряда вон выходящая, за которой кроется некая драма, требующая своего объяснения.
Но тут оказывается, что для уяснения изображённого поэтом в балладе «Песнь о вещем Олеге», образ коня, сам по себе как бы не столь уж и важен, так как он является лишь поводом обратиться к главному для человека и народа в целом – его вере, самосознанию и образу мира. В этом стихотворении А.С. Пушкина конь собственно и символизирует веру.
Этот сюжет смерти от коня своего распространён во всей европейской средневековой литературе, но зародился он именно на русской почве, отсюда перешёл и в Скандинавию: «В Древней Руси это повествование связано с именем киевского князя Олега и изложено как в «Повести временных лет», так и в Новгородской I летописи; в Скандинавии – с именем легендарного викинга Одда Стрелы, о котором рассказывается в «Саге об Одде Стреле», а так же в ряде преданий. («Древняя Русь в свете зарубежных источников», М., «Логос», 2000 г.).
Для нас важно понять то, почему именно такой сюжет зародился в русском самосознании, так как, судя по всему, он здесь вовсе не случаен и отражает какую-то важную особенность духовно-мировоззренческого состояния человека на Руси. Важно отметить и то, что он имеет мифологическую, а не чисто историческую основу, даже если в его основе и лежит некий исторический факт. То есть, он в большей мере выражает образ мыслей, нежели исторические события. Это хорошо понимали исследователи прошлых времён, в отличие от нынешних, соблазнённых позитивизмом и материализмом, для которых факты духовные, мировоззренческие ничто в сравнении, скажем, с фактами историческими, самими по себе молчащими… К примеру, М. О. Коялович писал в «Истории русского самосознания»: «У нас, как и у других народов, первейшее сознание своей исторической жизни выразилось в народных легендах. Легенды эти заметны на первых страницах нашей летописи. Таковы – о смерти Олега, о мести древлянам Ольги за смерть Игоря, о посольстве к Владимиру по делу о перемене веры и много других» (Минск, 1997 г.)
Это уже исследователи более поздних идеологических времён, что называется, цепенея перед каждым летописным сообщением, пытались непременно распознать в нём исторический документ, объясняющий прошлое, и мысли не допускающие, что то или иное сообщение в летописи, как правило, легендарное, более значимо и драгоценно как свидетельство самосознания и образа мысли, образа мира людей давней эпохи. Это стало следствием того, что по причине мировоззренческого соблазна, духовный, то есть, основной смысл событий стал терять для людей значение. Он уже подчас даже перестал ими различаться… Отказ от образности обернулся, по сути, отказом от духовной природы человека, то есть, обернулся трагедией трудно поправимой. Я вовсе не противопоставляю историческое и образное, художественное, но всего лишь хочу отметить несомненный и очевидный факт: да, литература выходит из жизни, но не в меньшей мере – из литературной традиции, из народного самосознания.
Такой позитивистский, безобразный подход к творениям духа, по сути, исключает понимание явлений этого мира. Примечательно, что он выдаёт себя за исторический подход, таковым не являясь. К примеру, если в летописи сообщается о смерти князя Олега от укуса змии, то непременно ищется порода рептилии, которая якобы и откроет смысл происходившего. Или – если в «Слове о полку Игореве», в «мутном сне» Святослава говорится, что «синее вино с трудом смешено», то ищут не образный и символический смысл сообщения в контексте поэмы, и не евангельский, как в данном случае, а состав микстуры, словно художественная творческая стихия не свидетельствует о ложности и даже примитивности такого подхода к творениям духа. Это подтверждается, скажем, в песне уже более позднего времени: «И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам…» В этом неразличении образности обнаруживается не то, что историческая или эстетическая, но и просто человеческая глухота.
К историческому осмыслению такое упрощение не имеет отношения. Если же говорить о соотношении исторического и художественного в литературе, представляющего проблему первостепенную, то там, где историк заканчивает свое необходимое дело, художник его только начинает… В этом мы и убедимся на примере анализа пушкинской «Песни о вещем Олеге», написанной в абсолютном согласии с летописной легендой о смерти князя Вещего Олега «от коня своего», в согласии с её объяснением в Летописи и в то же время не повторяющей исторического сообщения, а представляющего собой многомерное и многозначное творение духа, смысл которого, как мне представляется, до сих пор не вполне уяснён.
А потому, прежде чем приступить к анализу пушкинской баллады, к рассказу о том, что же в ней в действительности постигнуто и изображено великим поэтом, приведу её полностью, чтобы читатель, не припоминая её текст, а имея его перед глазами, мог убедиться в истинности моих доводов.
Песнь о вещем Олеге
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их сёлы и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
Из тёмного леса навстречу ему
Идёт вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.
«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землёю?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмёшь ты коня».
«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.
Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава – отрада;
Победой прославлено имя твое:
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.
И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы…
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могущему дан.
Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод и сеча ему ничего.
Но примешь ты смерть от коня своего».
Олег усмехнулся – однако чело
И взор омрачилися думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.
«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время:
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твоё позлащённое стремя.
Прощай, утешайся – да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня!
Покройте попоной, мохнатым ковром;
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте, кормите отборным зерном;
Водой ключевою поите».
И отроки тотчас с конём отошли,
А князю другого коня подвели.
Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне весёлом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана…
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они…
«А где мой товарищ? – промолвил Олег, –
Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? всё так же ль легок его бег?
Всё тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.
Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.
Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят: на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.
Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!
Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змия,
Шипя, между тем выползала;
Как чёрная лента, вкруг ног обвилась:
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
Итак, пушкинская баллада «Песнь о вещем Олеге» создана в соответствии с летописным рассказом о судьбе князя Олега Вещего и даже в абсолютном соответствии с мировоззренческим объяснением происшедшего, помещенном в летописи сразу же за легендой, которое по давней и недоброй «традиции» принято считать написанным «ортодоксальными» летописцами ради защиты христианского догмата, а не истины ради. В «Изборнике» под редакцией Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачёва (М., «Художественная литература», 1969 г.) это объяснение гибели князя Олега просто опущено, как мало что значащее… Мы ещё вернёмся к этому объяснению, дабы убедиться в его не случайности в летописи.
Но пушкинская баллада вместе с тем, не повторяет летописную легенду, а придаёт ей высокий духовный смысл. И здесь мы снова сталкиваемся с соотношением художественного, образного мышления и исторического, убеждаясь в том, что художественное, образное не тускнеет даже тогда, когда устаревает сам язык…
Нельзя не заметить и того, что пушкинская баллада, несмотря на её совершенство, переполнена, казалось бы, противоречиями и нелогичностями. Но эти противоречия и нелогичности представляются нам таковыми по обыденной логике, по которой мы и привыкли судить произведение художественное, на самом же деле они являются неизбежным свойством мышления образного в постижении истинного смысла происходящего. Эти противоречия и нелогичности с точки зрения образной, предстают перед нами не как недосмотр или просчёт художника, а достоинством произведения художественного, обладающего ничем не заменимым свойством – дать обобщённую и в то же время конкретную картину человеческого бытия, обнажая его потаённый смысл.
«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина начинается с упоминания о хазарах, которые в дальнейшем не упоминаются и вроде бы, и вовсе «забываются» поэтом. На первый взгляд кажется, что отмщение «неразумным хазарам» в пушкинской балладе не имеет никакой связи с последующим рассказом. Но, по художественной, да и по исторической, но сокрытой от читателя логике стихотворения, выходит, что всё, происшедшее с князем потом, и является прямым следствием этого его отмщения хазарам. Иначе, зачем А. С. Пушкин упоминает о них в начале стихотворения, а потом «забывает»…
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам.
«Как ныне сбирается» надо понимать – словно сейчас, снова, опять, как и всегда. То есть, Вещий Олег снова идёт на хазар, которых он ранее уже наказывал «за буйный набег». При этом он вооружён не только оружием железным, но и духовным, верой, причём, верой именно христианской – «в цареградской броне»:
С дружиной своей в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
Как понятно, «цареградская броня» имеет здесь смысл не буквальный, а значение правой веры. «Цареградская броня» значит вера из Цареграда, то есть из Византии, откуда и пришла к нам христианская вера.
И вот «из тёмного леса» навстречу ему идёт кудесник, гадатель. «Из тёмного леса», поскольку всё происходило, по летописи, осенью, тоже нельзя понимать буквально. Конечно, это «тёмный лес» верований и представлений. Так же, как у Данте Алигьери нельзя понимать буквально «сумрачный лес»: «Земную жизнь, пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу». Важно отметить, что в пушкинском стихотворении «заветов грядущего вестник», вышедший из тёмного леса, автором называется именно кудесником и гадателем. И только в прямой речи этот гадатель сам себя называет волхвом: «Волхвы не боятся могучих владык, А княжеский дар им не нужен». Примечательно и то, что искушаемый естественным желанием узнать свою грядущую судьбу, князь Олег в награду этому гадателю предлагает именно коня, от которого кудесник отказывается, хотя в результате своего предсказания он и лишает князя его верного коня…
Далее «любимец богов», дружный «с волей небесною», якобы увидевший «жребий на светлом челе», то есть, разгадавший дальнейшую судьбу князя, явно славословит ему и говорит довольно странные вещи, как видно по всему, мало соответствующие действительности. В самом деле, Олег, уже наказавший ранее хазар «за буйный набег», и вышедший в поход для нового им отмщения, то есть, воюющий против хазар и одерживающий победы над ними, слышит от кудесника нечто прямо противоположное. Главные победы Олега, по кудеснику, связаны, оказывается, не в борьбе с хазарами, а с Цареградом: «Победой прославится имя твое; Твой щит – на вратах Цареграда». То есть, с победой над Византией. Как видим, кудесник, славословя Олегу, говорит ему явную неправду. Иначе, как это согласуется с тем, что князь Олег находится «в цареградской броне» и с тем, что он – христианин, человек верующий, о чём кудесник говорит прямо: «Под грозной броней ты не ведаешь ран; Незримый хранитель могущему дан». «Незримый хранитель», – то есть Бог. И Бог не языческий, а именно христианский, ибо защищён князь Олег цареградской броней. То есть, Олега хранит именно христианский Бог. Никакой логики в этом славословии кудесника Олегу, конечно, нет. Скорее её можно назвать преднамеренным обманом князя. Если на это нам скажут о том, что благодать Христовой веры утвердилась на Руси позже, и Олег не мог быть «в цареградской броне», то есть в лоне христианства, на это мы должны напомнить о том, что пишем не историю, а пытаемся малыми силами своими прочитать то, что изображено великим А.С. Пушкиным в балладе «Песнь о вещем Олеге». Да и христианская вера утверждалась на Руси задолго до её официального принятия великим князем Владимиром.
К тому же такое славословие кудесника никак не согласуется с историческими, летописными фактами. Исследователи уже заметили, что войны Руси против Византии носили довольно странный характер, судя по русским летописным сообщениям о них и зарубежным источникам. Во всяком случае, они имеют не ту мотивацию, какая утвердилась в нашей исторической науке. Лев Гумилёв даже считал, что Руси вообще не из-за чего было воевать с Византией. И это подтверждает сам факт принятия нами христианства именно оттуда. («Древняя Русь и Великая степь», М., «Мысль», 1989).
Кстати, это подтверждается и стихотворением А.С. Пушкина «Олегов щит», написанным уже позже создания «Песни о вещем Олеге», в 1829 году, когда «настали дни вражды кровавой» и когда «мы вновь со славой/ К Стамбулу грозно притекли»:
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.
А в более позднем стихотворении 1830 года «Стамбул гяуры нынче славят…», говоря уже об иной эпохе, А. С. Пушкин даже обличает Стамбул, за отступление от своей веры:
Стамбул отрёкся от пророка;
В нём правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил –
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьёт вино в часы молитвы.
То есть, ни о какой славе Олега в связи с покорением Цареграда, о чём говорил ему кудесник в своём предсказании, не могло быть речи. В высшей мере примечательно, что в договоре Руси с Византией говорится о недопущении обмана. Ведь именно обман запечатлён в летописной легенде, что и стало главной темой пушкинской баллады. В таком случае, хазары здесь при чём, в поход на которых сбирался Олег, на пути которого оказался кудесник, вышедший из «тёмного леса» и переменивший судьбу вещего князя?
Но если в летописи поминается о щите на вратах Цареграда, то есть о его покорении, значит, договорённости с Византией нарушались именно Русью. Кем и почему? – этот вопрос не такой простой. Его не заслонить кочующим, как штамп, даже по историческим работам утверждением, что это-де было свидетельством могущества Олега. Но из такого славословия выпадает историческая, нравственная, да и просто логическая оценка факта, который всё-таки имел место быть.
Далее «грядущего вестник» говорит странное и поразительное для князя: «Но примешь ты смерть от коня своего». Это предсказание поразило князя, как и всякое предсказание, поражает человека, так как истинно оно или ложно, станет ясно лишь тогда, когда оно сбудется или не сбудется. А пока, вне зависимости от того, ложно оно или истинно, оно обладает магичностью и не может не наводить страх на человека. Найдёт человек в себе достаточно духовных сил и воли, чтобы противостоять предсказанию, он устоит, а не найдёт, то, так или иначе, окажется под его бременем. Может быть, потом это предсказание только потому и свершается, что человек не проявляет достаточно стоицизма против него.
Такое же воздействие и на князя Олега произвело это странное предсказание, на которое он вначале, было, усмехнулся, но взор и чело его «омрачилися думой». Он поступает так, как только и мог поступить человек, услышавший столь жестокий приговор себе и не нашедший сил противостоять предсказанию. Он оставляет верного товарища, коня, «верного друга», и к нему подводят «другого коня». Будем помнить, что по народному воззрению конь символизирует правую веру. Обман, предпринятый кудесником, происходит. Князь переменяет не только коня, но и свою веру. Предсказание кудесника всё-таки сбывается, князь умирает «от коня своего». Но уже не в прямом смысле слова, а от «змии», таившейся в черепе коня. Но предсказание кудесника сбывается именно потому, что князь оказался подвержен магической власти гадателя.
Но духовная смерть человека от змия имеет и иное, изначальное, библейское значение. Змий, который «был хитрее всех зверей, которых создал Господь Бог» (Бытие, 3:1), искушает сначала жену, а потом и род человеческий. Искушает и обольщает тем, что посулил невозможное для человеческой природы: «Сказал змий жене: нет, не умрете» (3:4); «вы будете как боги» (3:5). И был проклят змий за это «пред всеми скотами». Такое значение этой драмы присутствует и в «Песне о вещем Олеге»…
Теперь припомним о сближении в пушкинской балладе коня и веры, причём веры именно христианской («в цареградской броне»). Таким образом, основной сюжет пушкинского стихотворения состоит в смене веры князем Олегом. В смене «верного коня» на «другого», веры цареградской на какую-то иную, которую исповедовал кудесник и под влиянием предсказания которого оказался князь Олег. Библейская заповедь, представляющая собой непременное условие духовного бытия человека, оказалась нарушенной: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам и не поклонялись им». (Второзаконие, 11-16). Но смена веры не является для человека каким-то проходящим фактом. Это губительный акт для его духовного естества. Можно сказать, что как по летописной легенде, так и по пушкинской балладе князь Олег, по сути, стал жертвой обмана. Предсказание побудило князя «верного друга» поменять на «другого»; христианскую веру на некую иную. На какую именно, ни в летописи, ни в пушкинском стихотворении не говорится. Но это можно установить окольным путём логического анализа.
Попутно скажу, что это непременное условие духовного бытия, как отдельного человека, так и народа в целом – отстаивание своей веры, её незыблемости, если народ рассчитывает сохраниться (ведь та или иная вера, в том или ином народе вовсе не является случайной) – в нашем общественном сознании издавна и до сего дня подменено прямо противоположными понятиями: «свобода совести», «выбор веры». То есть то, что является губительным для духовного здоровья человека выставляется якобы спасительным… Ведь «выбора веры» для каждого, отдельно взятого человека не может быть по определению, так как вера даётся человеку по праву рождения, как правило, ещё в бессознательном состоянии. Тем самым осуществляется преемственность веры от предшествующих поколений и исключается всякий произвол и случайность. То, что по обыденной, утилитарной логике допустимо, когда вера понимается как нечто вроде одёжки, которую можно надеть, но которую можно и сбросить, по понятиям духовным невозможно. Да бывают случаи перемены человеком веры, но эти аномальные случаи, обычно, заканчиваются трагически. Я не говорю о летописном «Выборе веры» всем народом, известным не только на Руси, но и, скажем, в Хазарии.
Таким образом, лукавое идеологизированное время «цивилизации» выработало двойные стандарты: для одних народов – незыблемость веры и не поклонение иным богам, для других – разрушительный «выбор веры», при котором жизнь народа не может быть продолжена, и он рано или поздно окажется размытым и поглощённым другими этносами, которые не соблазнились столь упрощённым и опасным представлением о духовной природе человеческой.
Совершенно очевидно, что со второй половины девятнадцатого века, весь двадцатый век и в начале двадцать первого века Россия идёт по этому опасному и губительному пути… Гений А. С. Пушкина прозрел это, обратившись к летописной легенде о Вещем Олеге, легенде, вроде бы, не имеющей прямого отношения к его времени, но, как оказалось, она имела прямое отношение и к его эпохе, и к последующим временам, и к нашим дням…
Это и есть главное в жизни каждого народа – через веру сохранять свой этнос, а вовсе не «экономические проблемы», в чём нас пытаются убедить безрелигиозные люди, то есть, потерявшие связь со своим народом. Без этого духовного сохранения народа никакие и «экономические проблемы» не идут впрок. Нельзя сказать, что такая подмена понятий всецело исходит из злого умысла, хотя, как понятно, не обходится и без него, но и – «по убеждению». Но как мы видим из пушкинской баллады, и как знаем из нашего «информационного» общества и убеждения могут быть управляемыми…
Но в какую же веру вознамерился обратить Вещего Олега кудесник и гадатель своим предсказанием? Точнее, чем соблазнился князь, против чего не устоял и от чего, и почему его не защитила даже «цареградская броня», то есть правая вера? Чтобы ответить на этот вопрос непредвзято, надо честно сказать о том, кем же в действительности были эти волхвы, кудесники и гадатели. Это тем более необходимо определить, так как здесь, в области сознания человеческого и народного самосознания, вопреки очевидности, издавна и до сего дня совершается подмена и искажение действительных смыслов. И особенно в понимании того, кем же на самом деле были волхвы. Кстати, в пушкинской балладе эти слова – волхвы и гадатели – употреблены как синонимы, что при абсолютной чуткости А.С. Пушкина к явлениям историческим и народным не было случайностью. Но прежде – о волхвах.
Оговорюсь, что я рассматриваю в связи с волхвами не исторический факт сам по себе, отражённый в летописи, но – историю самосознания народа в его едином, сквозном временном развитии. Ведь сам по себе исторический факт мало о чём говорит без объяснения причин, его вызвавших, без объяснения его мировоззренческих мотиваций. А причины эти кроются в сознании и душе человеческой. То есть исторический факт, ещё раз подчеркну это, уже только следствие состояния сознания, ибо вначале было слово…
Что даёт мне право и основание рассматривать народное сознание в таком единстве и целостности? Конечно же, неизменность духовной природы человека и в определённой мере его сознания, несмотря на технический и всякий иной прогресс, то, что Василий Розанов определил столь лаконично: «Природа человека вечна». Именно это и даёт основание сближать одни и те же проявления духовной сущности человека или уклонения от неё в разные эпохи, отстоящие друг от друга на достаточно большом временном удалении. По сути же это одни и те же явления, но которые, к сожалению, в разные времена понимаются по-разному, а то и прямо противоположно своему значению. Так сложилось потому, что характер упоминания о волхвах был всецело отнесён на счёт якобы ортодоксальных христианских летописцев, которые в своих догматических целях будто бы преднамеренно исказили суть, смысл и значение волховства. Таким образом, представление о волхвах, основано на антихристианских воззрениях.
Принято считать, что волхвы – это язычники. Более того – языческие жрецы. Такое убеждение столь распространено и столь устойчиво, что переубедить кого-либо в нём, а историков в особенности, практически невозможно. Вопреки очевидности. И главным образом потому, что история наша занимается в основном социальностью, накоплением фактов вне общей духовной картины жизни народа, занимается чем угодно, но только не верой людей и не их сознанием, без чего объективного понимания бытия народа быть не может, так как при этом не берётся в расчёт мотивация событий. Иными словами историки за редким исключением не занимаются историософией – взаимосвязью и духовно-мировоззренческой мотивацией фактов в их временном развитии. Но стереотип восприятия волхвов в общественном сознании и в исторической науке оказался настолько устойчивым, что даже такой глубокий исследователь Древней Руси, как И.Я. Фроянов, нисколько не сомневаясь, как о само собой разумеющемся писал о том, что «волхвы – служители старого языческого культа» («Древняя Русь», М., СПб, «Златоуст», 1995 г.)
Между тем, многое, происходящее в жизни человеческой и народной, казалось бы, не имеет утилитарного, социального, да и просто логического объяснения и совершается как бы «беспричинно», точнее имеет иную, чем принято считать, природу и логику. Здесь опять-таки нельзя не сказать об общепринятой модели развития, в основе которой находится представление о прогрессе, предполагающем сменяющие друг друга стадии и формации развития человечества. Модели, не берущей в расчёт духовную природу человека, занятой не целью и смыслом человеческого бытия, а лишь его средством, а потому постоянно воспроизводящей перерыв в постепенности развития. Справедливо писал А.В. Юдин, что «именно невозможность рационального, разумно истолковать существование и широкое практическое использование всевозможных магических воззрений… заставила ряд исследователей ХХ века считать первобытное мышление не только «неразвитым», «примитивным», но и принципиально особенным, осуществляемым иным, нежели современное, не связанным законами логики способом». («Русская традиционная народная духовность» (М., «Интерпракс, 1994 г.)
Нельзя не заметить того, что волхвы, согласно летописям, появляются именно в смутные времена, в периоды каких-то несчастий (чаще голода) и потрясений. Результатом ли смуты становится их появление или наоборот – их появление вызывает смуту в народе, беззаконие и хаос в обществе? – Этот вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Но предпосылки для ответа на него содержатся в самих летописных сообщениях. Все без исключения сообщения о волхвах в летописи приходятся только на периоды самой жестокой крамолы и междоусобицы между князьями на Руси. Волховство и крамола, междоусобица понимались в прямой причинно-следственной связи и зависимости, о чём говорится в «Повести временных лет»: «Междоусобная же война бывает от дьявольского соблазна». Уже только один этот факт не даёт историкам никакого права рассматривать волхвов самих по себе, как некое социальное явление, вне общего духовного, мировоззренческого и психологического состояния общества, и главное – вне верований того времени. Ведь это вовсе не является простым совпадением. Не является оно и бесстрастной страницей истории, но имеет прямое отношение и к нынешней жизни. Но в том-то и дело, что верования, самосознание, миропонимание для исследователей позитивистского и материалистического толка более поздних времён не представляются тем основным, вокруг чего и из-за чего в обществе и шла борьба, хотя именно это, а не пресловутые «экономические интересы» являются главным в осмыслении как прошлой, так и нынешней жизни.
Трудно сказать, была ли какая крамола во времена долгого и славного правления выдающегося князя Олега Вещего, так как из тридцати трёх лет его княжения двадцать один год оказался в летописи просто пропущенным, словно тогда ничего значимого и не происходило. Пропуски в летописи оказались столь обширными, что по уцелевшим сообщениям нельзя было даже определить смену княжений. И только окольным путём анализа и сопоставлений, с привлечением всех возможных исторических источников исследователям, уже в более поздние времена, по сути, в наше время удалось установить хотя бы хронологию смены князей – Олега Вещего, Игоря, Олега «второго»…
Первое упоминание в летописи о волхвах и кудесниках встречается в летописях под 912 годом и связано именно с предсказанием смерти Олега Вещего. О какой-либо крамоле летопись умалчивает, из чего можно сделать вывод, что причиной этой трагедии стало единственно обращение князя к волхвам и кудесникам с вопросом: «Отчего я умру?» Можно лишь предполагать, что такие значительные пропуски в летописи стали результатом какой-то ожесточённой борьбы. Но какой именно? На этот вопрос у наших исследователей есть простой, не подлежащий никакому сомнению, я бы сказал дежурный, но не думаю, что верный ответ: борьба шла между дохристианским язычеством и христианством…
Появление волхвов в Суздале, упомянутое в летописи под 1024 годом, связано с жесточайшей междоусобной борьбой после смерти князя Владимира-Крестителя в 1015 году. Ну и основной блок, что ли, сообщений о появлении волхвов приходится на период распри между братьями-князьями после смерти великого князя Ярослава Мудрого в 1054 году и в связи с волхвом-князем Полоцким Всеславом Брячиславовичем, который, как сказано в летописи, и начал междоусобицу: «Воздвиг дьявол распрю между братьями Ярославичами». Совершенно очевидно, что безвестный автор «Слова о полку Игореве» потому столь много места и уделяет в своей поэме князю-волхву Всеславу, чтобы вскрыть причины и характер крамолы, междоусобицы между братьями-князьями.
Далее в летописи сообщения о волхвах, как сказали бы сегодня, плавно перетекают в сообщения о еретиках, как в летописном рассказе о «злодее и еретике», о «злом и пронырливом и гордом обманщике лживом владыке Федорце» из Владимира, помянутом в летописи под 1169 годом. И только автор «Слова о полку Игореве» вспоминает князя-волхва Всеслава в связи с новой распрей и крамолой между князьями и бесславным походом князя Новгород-Северского Игоря на половцев весной 1185 года. Из этого следует, что волхвы и еретики представляют собой нечто равнозначное, явления одного порядка, но в разные временные периоды по-разному называемые. В летописях же говорится, что волхв – это человек, «одержимый бесом», что «волхвуют по внушению бесов». И что особенно важно для уяснения природы волховства в последующие времена, которое естественно, в разные эпохи называлось по-иному – это то, что бесов вызывают. Как сказано в летописи об одном из волхвов: «По обыкновению начал вызывать бесов в свой дом».
Церковная лексика не может скрыть и заслонить существа того духовно-мировоззренческого явления, о котором сообщается в летописи в связи с волхвами. Они ведь не просто предсказывали будущее, но отрицали христианское понимание мира, говоря, что «мы знаем, как сотворен человек». Но выдвигаемая ими модель мира и сотворения человека была просто примитивной. Ну, скажем, от ветошки, которой Бог мылся в бане и бросил потом с неба на землю… Как понятно, это «знание» устройства мира и сотворения человека волхвами никакого отношения к дохристианскому язычеству не имеет… Эта «версия», сотворения человека, кажется, для того только и выдвигалась, чтобы отрицать христианское верование. Именно этим «знанием» происхождения человека, а не какими-то декларативными призывами, волховство носило антихристанский характер, было направлено на разрушение христианского миропонимания и веры. Никаких призывов со стороны волхвов, как пишет И.Я. Фроянов, «вернуться в лоно язычества», а тем более «восстановить общественное благополучие», конечно же, не было. Всё было как раз наоборот – своим появлением волхвы не восстанавливали общественное благополучие, а нарушали его… Неслучайно же их появление происходит в периоды бедствий, крамолы и междоусобицы, то есть в периоды духовной нетвёрдости и мировоззренческой растерянности, что периодически бывает в человеческом обществе вне зависимости от уровня его развития и тем более вне зависимости от технического и всякого иного прогресса. И стоит лишь удивляться тому, что это явно предвзятое представление о волхвах как о язычниках, и более того, как о «служителях языческого культа» оказалось в общественном сознании столь стойким вплоть до сегодняшнего дня. Тем более, что это объявление волхвов язычниками носит абсолютно декларативный характер и не наполнено в трудах исследователей содержанием, фактами, доказательствами и подробностями, подтверждающими это. Просто предлагается принять это на веру, как некий стереотип, не подлежащий сомнению.
В связи с этим представляется более чем странным выставление выдающегося князя Олега Вещего не мудрецом, а именно волхвом, автоматически что ли, относя эти, якобы присущие ему способности на счёт дохристианского язычества. Более того – выставление его языческим жрецом, хотя, как известно, дохристианское язычество не знало жречества, как впрочем, и храмов… Пресловутые же истуканы, которых волокли по Боричеву взвозу, не были, так сказать, атрибутами дохристианского язычества, но были нововведением князя Владимира, как следствие поиска им веры и духовно-мировоззренческого обоснования существования Руси. Попытка князя оказалась неудачной, что, вероятно и ускорило официальное принятие христианства.
Вот типичное представление об Олеге Вещем, как о князе-язычнике и волхве стереотипное, ни на чём не обоснованное, в чём автор его Валерий Демин не прямо, но косвенно, в конце концов и сознаётся, не находя каких-либо убедительных логических мотиваций: «Олег же вещий был язычником, более того верховным волхвом и магом. Как установили специалисты-филологи, прозвище Олега «вещий» – во времена Нестора отнюдь не означало «мудрый», а относилось исключительно к его склонности к волхованию. Другими словами, князь Олег был не только верховным правителем и предводителем дружины, но одновременно выполнял функции жреца, волхва, кудесника, чародея. За то, с точки зрения христианского летописца и постигла его Божия кара – смерть «от змии». («Литературная Россия», 22.09.2000 г., «Милениум», № 10,2001 г.)
Вполне понятно, почему выдающийся князь Олег Вещий, великий государственник, соединивший Северную Ладожскую Русь с Южной Киевской, начавший борьбу с засильем хазарского иудаизма, наконец, князь, при котором была введена письменность, славянская азбука, которая распространялась только на основе перевода на русский язык христианских богослужебных книг, неизменно выставляется волхвом, чародеем, кудесником, магом… Потому что, по какой-то немыслимой логике и недоброй «традиции» всё, связанное с волхованиями, чародейством и гаданием относится у нас к дохристианскому язычеству, выставляется как его содержание. Но ведь тем самым говорится, что Олег Вещий был не только организатором и участником столь великих свершений, но и одновременно и их разрушителем… По какой логике неведомо, хотя вполне различимо почему и с какой целью в нашей истории и самосознании оказалась дискредитированной столь мощная историческая личность. И если исследователи девятнадцатого века точно определяли природу волхования, как, к примеру, в «Поэтических воззрениях славян на природу» А. Афанасьева: «Волхв – колдун, угадчик, прорицатель», без всякого приписывания им свойств дохристианского язычества, то современные исследователи поразительно единодушны и единообразны во мнении, что всё это как раз и есть дохристианское язычество. Перед нами – обыкновенные, говоря словами Льва Тихомирова, «спекуляции язычествующего разума». Если даже не умышленные и не преднамеренные, что не меняет их сути.
Вот характерное суждение на сей счёт современного исследователя Льва Прозорова в статье «Размышления о волхвах из русских летописей»: «Обряд, выполнявшийся волхвами, имеет глубокие индоевропейские корни. Сохранение его структуры в дошедшем до ХIХ века предании говорит, насколько глубоко эти корни укрепились в душе русского народа, лишь слегка прикрывшего языческого «волка» овечьей шкурой христианской терминологии. И это ещё раз свидетельствует о силе, цельности, самостоятельности и удивительной жизнеспособности восточнославянского язычества». («Русская традиция», выпуск 4, 2006 г.) Автор, безусловно, прав, говоря об устойчивости в народе духовно-мировоззренческих, психологических понятий и поведенческих стереотипов, но абсолютно не прав в определении их содержания. Это, конечно же, свидетельствует о смутном представлении о дохристианском язычестве, как цельном веровании и стройном миропонимании, несмотря на многочисленные исследования на эту тему. Примечательно, что в полном согласии с таким стереотипным представлением, автор не обращает внимания на те смыслы, о которых сам же пишет и мимо которых никак нельзя пройти в подобного рода исследовании. К примеру: «Целый ряд выступлений волхвов против христианской веры и княжеской власти». Во-первых, никаких выступлений волхвов в духе антифеодальной борьбы за социальную справедливость никогда не было. Это представление уже более позднего «классового» мышления. Тут совершенно прав И.Я. Фроянов, говоря о появлении, а не о выступлении волхвов. Неточный перевод только одного этого слова искажает суть волховства до неузнаваемости, придавая ему, по сути, прямо противоположный смысл. Во-вторых, если волхвы выступали против христианской веры, это понятно, ибо вполне укладывается в их сущность. Но вот почему наравне с христианством они выступали против существующей княжеской власти, причём, всякой власти по определению, вне зависимости от того справедлива она или нет – это повод для очень серьёзного размышления. Этот факт сам по себе не проходной, не из тех, которых можно не заметить. Ведь из этого следует, что волхвы по самой природе своей представляли собой, говоря современным языком, некую деструктивную силу, выступающую против всякой власти, всякой организации общества, что естественно приводит к хаосу и психозу. И тут совершенно не при чём христианская догматика, на которую столь привычно ссылаются.
Как это ни странно, мне встретилось лишь одно неидеологизированное суждение о волхвах – не с точки зрения классовой или социальной, но, как и должно – с точки зрения духовно-мировоззренческой и психологической. Имею в виду примечания В. Петрухина к книге Нормана Голба и Омельяна Прицака «Хазарско-еврейские документы Х века»: «Вообще языческие жрецы (в том числе древнерусские «волхвы») становились, как правило, главными противниками обращения к мировым религиям». (Москва, 1997, Иерусалим, 5757). Ведь это же о многом говорит. Значит волхвы, выступая против всех мировых религий, представляли собой некое сектантство. Мы не имеем данных, но вполне возможно, что волхвы также покушались на стройную систему и языческих верований, как позднее покушались на веру христианскую. Это могло бы стать удивительной темой для внимательного и честного исследователя. Но как видим, и в исторической науке, и в общественном сознании волхвы всё ещё являются выразителями народных воззрений, а не разрушителями их, каковыми они в действительности являются. Удивительное, ничем не извинительное попущение… Видеть же в волхвах, кудесниках, гадателях и чародеях, как и позже в еретиках – некие народные основы жизни, значит совершать ничем не оправданные искажения и подмены и тем самым принижать суть народных воззрений, основанных на вере. Более того, тем самым – вольно или невольно поддерживать в обществе тот массовый психоз, который является непременным спутником крамолы и междоусобицы и от которого, увы, не уберегает уровень его «цивилизованности». Даже само слово волхв настолько уклонилось от его первоначального смысла, что современные словари русского языка придают ему прямо противоположные значения, уже как бы не различая нюансов семантики: мудрый, прорицательный, обладающий даром предвидения, колдун, волшебник, гадатель, ведьмак…
Поскольку у нас теперь сложилась беспрецедентная духовно-мировоззренческая ситуация в обществе, вызванная тем, что под знаком преодоления революционного беззакония начала миновавшего века, совершено новое беззаконие девяностых годов, но уже в иной форме, разум человеческий ищет наипростейшие уловки, не объясняющие ему суть происходящего, но усыпляющие его. Одной из самых распространённых таких уловок и является «возврат к природе», «язычеству», что, конечно же, невозможно и немыслимо. На это, довольно распространённое поветрие, подогреваемое идеологическими лукавцами, можно сказать разве что словами Александра Блока из его рецензии на книгу Н.М. Минского «Религия будущего» (СПб, 1905 г.): «Возврат от метафизического познания к наивному чувствованию невозможен, так как раз открывшаяся бездна не может исчезнуть. Расколотость сознания может быть примирена только шествием сквозь все провалы метафизического разума, может быть только открытием в самих условиях опыта возможности сблизить берега бездны».
Возвращаясь же к летописному рассказу о смерти Олега Вещего и к пушкинской балладе «Песнь о Вещем Олеге», обратим внимание на одну очень важную несообразность, не получившую объяснения, и зададимся вопросом: а был ли вообще Олег Вещий волхвом? Если Олег – волхв, причём не в смысле мудрец, а именно кудесник и чародей, на чём исследователи всё ещё настаивают, то с какой стати он обращался к волхву же за предсказанием свой судьбы? Так не бывает. К волхву обращаются миряне, не наделённые силой предвидения, но никак не волхвы же… В таком случае, по какой причине и в силу каких обстоятельств разыгралась эта драма, завершившаяся гибелью Олега? Значит, Олег волхвом не был, а ему действительно встретился волхв, напророчивший смерть от коня своего, но волхв не в расхожем понимании народного мудреца, а именно – кудесника и гадателя. Да ведь и «вещим» Олег не был, о чём есть прямое указание в летописи. Так его назвали люди лишь по своей неосведомлённости. По «Изборнику»: «И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвещёнными». По другому переводу Лаврентьевской летописи: «И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и не знавшими грамоты» («Се повести временных лет», Арзамас, 1993 г.). По оригиналу Лаврентьевской летописи: «И прозваша Олега вещим бя бо люде погани и невеигла». По Радзивиловской летописи: невеигласи. По рукописи Московской Духовной Академии: невеголоси. Словарь древнерусского языка даёт, по всей видимости, точный перевод слова невеголос: невежественный, необразованный человек, нехристианин… Таким образом Олега называли вещим не христиане.
Но это прямое летописное свидетельство исследователями упорно не замечается, так как оно рушит стереотипное представление об Олеге Вещем как о язычнике и волхве. Представление, кстати сказать, противоречащее пушкинскому пониманию и той эпохи, и личности Вещего Олега, который виделся А.С. Пушкину «в цареградской броне», то есть в православной христианской вере. Дата официального принятия христианства здесь, повторимся, и не столь важна, так как по верному замечанию Льва Гумилёва, «православие было этнической доминантой задолго до Владимира».
Да, власть столь могущественного князя обладала естественно сакральностью, магичностью и таинственностью. Но этими свойствами обладает всякая подлинная, не марионеточная власть, во все времена, в том числе и в наши дни. Люди всегда придавали власти высшее происхождение, как, скажем, в премудростях Соломона: «От Бога вам держава и сила от Вышнего». Но это извечное свойство подлинной власти вообще не даёт никаких оснований считать князя Олега Вещего волхвом, кудесником и чародеем. Более того, пристрастие к чародейству и гаданию несовместимо с природной сакральностью власти, если её носитель не хочет её потерять…
Но так как волховство и язычество Олега Вещего без всяких на то оснований приписываемое ему, никак не согласуется с его поистине грандиозной деятельностью и, в частности, – введением славянской письменности на основе христианских богослужебных книг, то Валерий Демин придумывает наипростейшее обоснование величия и мудрости князя, смысл которого состоит в том, что, мол, оставаясь непреклонным язычником, он сумел разглядеть в славянской письменности пути дальнейшего развития Руси, так сказать, «сумел подняться над религиозно-идеологической ограниченностью во имя культуры, просвещения и великого будущего народов России…». То есть действовал вопреки себе, вопреки своим верованиям. Но так ведь не бывает по самой природе человеческой. Обычно человек так просто не расстаётся со своими верованиями, ибо жизнь его имеет смысл и продолжается лишь до тех пор, пока она имеет свою систему ценностей и мотиваций…
Христианская Церковь в период своего становления, безусловно, внесла свою лепту в дискредитацию язычества. Иначе, видимо, и быть не могло. Но при этом, что самое печальное, в общественном сознании остались неразличимыми язычество, как стройная система дохристианских верований и язычество, обличаемое церковью как бесовство, постоянно воспроизводящаяся в поколениях брань невидимая и ничем неустранимая, сопровождающая человеческое сообщество во всю его историю, борьба за сохранение духовной природы человека, ибо уклонение от неё и всевозможные соблазны довлеют над ним во всё земное бытие. Это тем более печально, что такое неразличение этих разных язычеств даёт повод противопоставлять дохристианские верования и христианство вплоть до сегодняшнего дня. И в этом сказывается вовсе не приверженность дохристианским верованиям и его якобы непорочным основам, «испорченным» христианством. Это одна из форм иноверия, как, к примеру, в «Заметках о поэзии» О. Мандельштама: «Борьба русской, то есть мирской бесписьменной речи, домашнего корнесловия, языка мирян, с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой – сказывается до сих пор. Первые интеллигенты – византийские монахи – навязали языку чужой дух и чужое обличье». (О. Мандельштам. «Слово и культура», М., «Советский писатель», 1987). Нисколько не сомневаясь в искренности автора, следует сказать, что в такого рода суждениях сказывается какая-то глухота к духовной природе человека, к его выделенности душой и разумом из окружающей природы, нечувствование того, о чём писал Александр Блок в статье «Поэзия заговоров и заклинаний»: «Для нас – самая глубокая бездна лежит между человеком и природой». А потому всякое «возвращение» к прошлым формам жизни, как, якобы, безусловно, непорочным, есть или лукавство или бессилие постигать духовную природу человека в постоянно изменяющихся исторических условиях.
Не была письменная византийская грамота враждебной бесписьменной речи и языку мирян, иначе христианство не было бы принято так естественно и, по сути, бесконфликтно. Как и не были византийские монахи «первыми интеллигентами» при всей условности этого понятия отнесённого к столь давней эпохе. «Традиция» сложилась так, что «интеллигентами» в последующем почитались бунтари, а не просветители. А потому, принимая предложенную поэтом О. Мандельштамом терминологию, «первыми интеллигентами» скорее следует считать волхвов, позже – еретиков, и уже гораздо позже – революционеров…
Не через отрицание христианства – возвращение к язычеству, словно это возможно, а через признание и дохристианского язычества, и христианства – вот естественный и единственно возможный путь постижения непостижимой тайны человеческого бытия. Ведь, как справедливо писал Лев Тихомиров, «свои духовные свойства человек не может помещать в среду явлений физических». Он-то и физические явления постигает только благодаря своей духовной природе, и никак не иначе.
В связи же с дохристианскими верованиями, скажу и далее его словами: «Язычество есть явление всечеловеческое, всемирное и представляет область огромной и сложной работы ума и чувств», язычество «нельзя рассматривать только как нечто первобытное, грубое, невежественное, некультурное». (Лев Тихомиров. «Религиозно-философские основы истории», М., 1997 г.). Добавлю, что в равной мере дохристианское язычество нельзя представлять как нечто идеальное, к которому якобы можно вернуться… Такое «возвращение» ничем не лучше спекулятивного порывания в «светлое будущее».
К этому можно добавить разве что суждение выдающегося лингвиста академика Олега Трубачёва: «Не на месте пустом и диком был выстроен величественный христианский храм… Историю русской культуры нельзя начинать с крещения Руси, как и выводить её из Византии. Это можно делать лишь не видя (или не желая видеть) её собственных корней… Новая вера не только искоренила и истребила всё нехристианское, она умела проявлять гибкость, искать и быстро находить, на что опереться в старом сознании, в старом языке народа». («В поисках единства». М., «Наука», 1992 г.).
В высшей мере примечательно, что понимание личности Олега Вещего в исторической, публицистической и популярной литературе, формирующими общественное сознание, является принципиально антипушкинским, прямо противоположным тому, как его постиг великий поэт в балладе «Песнь о вещем Олеге». Но что гений А.С. Пушкина с его абсолютной исторической чуткостью нынешнему самонадеянному идеологизированному, а потому – маргинальному сознанию, не признающему всей сложности человеческого бытия, вечно перестраивающему мир по своему упрощённому подобию и, тем самым, творящему всё новые и новые социальные катаклизмы…
В пушкинской балладе Олег Вещий, – вовсе не волхв и не кудесник, как в один голос твердят современные исследователи… И потом, будем помнить, что в церковном уставе современника Олега византийского императора Льва VI указана русская митрополия, что, конечно же, говорит о довольно обширном распространении христианства уже при Олеге Вещем. Попутно скажу, что неразличение в общественном сознании образного, художественного мышления и, обыденного, безусловно, является признаком кризиса человеческой цивилизации, свидетельством того, что она всё ещё не находит универсальную парадигму развития, из которой не исключалась бы духовная природа человека. Является свидетельством такого положения, когда блага прогресса оборачиваются не меньшими, а, может быть, ещё большими потерями для человека.
Ведь русская литература, уже на своих первых страницах, знает изображение волхвов, причём, именно князя-волхва. Имею в виду, конечно же, Всеслава в «Слове о полку Игореве», которому в древнерусской поэме уделяется столь много внимания.
Ну ладно, допустим, как считают современные исследователи, летопись подвергалась цензуре и редактированию со стороны «ортодоксальных» летописцев в угоду христианской догматике. В определённой мере, видимо, так и было. Но ведь «Слово о полку Игореве» такой цензуре не подвергалось. Перед нами – столь совершенное и глубокое по силе духа творение, какого ни одна литература мира того времени не знала. Между тем, князь-волхв Всеслав и в летописи, и в «Слове о полку Игореве» изображается по сути идентично, с точки зрения христианского миропонимания волховства как бесовства. Это первый и верный признак того, что всё, не укладывающееся в наше уже позднее позитивистское сознание сваливать на «ортодоксальных» христианских летописцев нет никаких оснований.
Автор «Слова о полку Игореве» даёт однозначно осуждающую характеристику Всеславу-волхву, причины крамолы и междоусобицы между братьями-князьями видит в его волховании. Собственно говоря, для того, чтобы вскрыть причины междоусобицы он и вспоминает Всеслава восемьдесят пять лет спустя после его смерти (умер Всеслав в 1101 году). Противопоставляет волхованию Суд Божий, который занимает в поэме центральное место, так как крамола и междоусобицы понимались им прямым следствием волхования. Упоминание же в поэме языческих богов с непременным добавлением «внуки» («Стрибожьи – внуци», «Даждьбожьи внуци») говорит о преемственности и непрерывности духовной жизни, что постиг и выразил безвестный автор поэмы. Такое опосредованное упоминание языческих богов не даёт абсолютно никаких причин усматривать в поэме языческую основу, как это делают многие современные исследователи, одержимые «спекуляцией язычествующего разума», ибо поэма насквозь пронизана христианским верованием и миропониманием. Даже заканчивается как молитва – «Аминь». Цель изображаемой в поэме борьбы – «побарая за христианы». Да и Суд Божий в поэме говорит сам за себя.
Суд же Божий по христианскому представлению состоял вовсе не в непременном наказании неправедного, но в выявлении праведности или греховности человека: «Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Евангелие от Иоанна, 3-19). И мы видим, что и с волхвами, и позже с еретиками ведётся полемика за их переубеждение, за торжество правого мироустройства и сущности человека. То есть борьба велась, прежде всего, исключительно словом. Не христианские исповедники, но власть применяла к ним силу, когда всё заходило слишком далеко, и над обществом нависала угроза духовного разложения и сползания в хаос. Иначе, прямо противоположно действовали волхвы. Они выдвигали такие идеи, согласно которым определённая категория людей должна быть непременно умерщвлена, иначе, по их понятиям, мир никак не устроится… Никакое это, конечно, не язычество в смысле дохристианских верований, но тот духовно мировоззренческий комплекс, который направлен против всякой веры, – не только против христианства, но и против язычества. Но так как этот комплекс не получал, и до сих пор не получает чёткого объяснения, противостоять его разрушительной силе сложно. Не случайно по какому-то странному попущению или умыслу всякая естественная попытка защиты своей веры у нас лукаво выставляется в общественном сознании как нетерпимость к иным вероучениям…
В чём упрекает автор «Слова» Всеслава? Как сказали бы сегодня, в двойных стандартах: «Всеслав князь людям судяше, князем грады рядяше, а сам волком в ночь рыскаше…». Иными словами, автор упрекает Всеслава в том, что для людей, для мира – он один, а на самом деле иной. Упрекает его за то, что тот поступает точно так же, как еретики более поздних времён, которые на людях, формально соблюдали христианские обряды, а тайно, в узком кругу, богохульствовали. И это было принципиальной позицией еретиков – не открыто, но тайно выступать против христианской веры. Как видим, это сказалось уже и в волхве Всеславе.
Автор «Слова о полку Игореве» приводит слова своего предшественника Бояна, из которых видно, что уже Боян, хотя и пел припевку Всеславу, понимал его волховскую натуру: «Ни хитру ни горазду, ни птицю горазду Суда Божия не минути». О как это перекликается со словами князя Ярослава, который, расправившись с появившимися в Суздале волхвами, согласно летописи, якобы сказал: «Бог посылает за грехи на любую землю голод или мор, или засуху, или иную казнь, а человек ничего не знает о том».
Летопись, безусловно, правили, о чём свидетельствуют столь значительные пропуски в ней, о которых мы уже говорили. Но вот кто именно и из каких соображений правил – на это нет пока ясного ответа. Сваливать же вину за пропуски в летописи только на «ортодоксальных» христианских летописцев выглядит неубедительно.
Князь Всеслав и по летописи, и по «Слову» не является никаким язычником, а волхвом и безбожником. Согласно летописи, таким он уродился, что и отмечено в летописи под 1044 годом его рождения: «Мать же родила его от волхования. Когда мать родила его, на голове его оказалась сорочка, и сказали волхвы матери его: «Эту сорочку навяжи на него, пусть носит её до смерти». И носит её Всеслав и до сего дня: оттого и не милостив на кровопролитие». Кстати эта запись сделана летописцем, как видно по всему, при жизни Всеслава, о чём свидетельствует ремарка «до сего дня». И летописец не прибегнул ни к велеречивости, ни к умолчанию, не убоясь княжеского гнева…
Об антихристианстве же Всеслава и безбожии вообще свидетельствует и то, что он снял колокола с собора святой Софии в Новгороде и пограбил убранство храма. Никакого отношения этот акт вандализма и безбожия к дохристианскому язычеству не имеет. Скорее тут Всеслав был движим тем специфическим состоянием сознания и души, которое было направлено против всех мировых религий.
Призвание и традиция русской литературы постигать духовную, а не только социальную суть явлений от «Слова о полку Игореве» продолжилась и в дальнейшем. Пророческие стихи наших великих поэтов А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова («Пророк» – «Духовной жаждою томим…» и «Пророк» – «С тех пор как вечный Судия…») имеют не гадательную основу, но христианскую. Пушкинский «Пророк» вообще, кажется, стихотворным переложением шестой главы «Книги пророка Исайи…».
Таким образом, можно уверенно говорить о том, что нет никаких оснований считать, что кудесничество, гадание, чародейство, магия, оккультизм – это и есть язычество… Нет хотя бы потому, что язычество, как дохристианское верование, оказалось поглощённым христианством, а эти явления существовали как в языческие времена, так и во всю историю христианства вплоть до нашего времени. Но, уподобляя их язычеству, искажают как язычество, так и их антихристианскую направленность. Это скорее – вечный искус окончательного познания и овладения миром, вне веры. Причём, наиболее простым, кратчайшим путём, который оказывается самым длинным и самым окольным. Но окончательного познания мира быть не может. Непостижимость мира – данность, с которой надо считаться.
Поскольку все летописные сообщения о волхвах приходятся на периоды междоусобиц, крамол и несчастий, нельзя не задаться вопросом не только об их взаимосвязи, но и о том – почему летописец вдруг вспоминает о волхвах, появление которых было давно? Значит, он видел в сообщении о них столь важный аспект жизни, без которого летописный рассказ об определённых событиях будет неполон или неверно понят. Кстати, вставками в летописи выглядят и другие сообщения о появлении волхвов в описании междоусобиц. Вставка о волхвах в Суздале не может быть случайной. Что-то хотел сообщить автор летописи этим… Определить эту запись как вставка и посчитать свою задачу выполненной, что и делали многие исследователи, не может быть принятой всерьёз. Между тем, смысл этого летописного сообщения кроется не столько в нём самом по себе, сколько в том летописном контексте о междоусобице, в котором оно приводится.
На примере летописного сообщения о появлении волхвов в Суздале под 1024 годом наглядно видна не самоцельность рассказа о них. Сообщение это является явной вставкой о междоусобице, после смерти Владимира-Крестителя, когда Святополк окаянный уже убил братьев Бориса, Глеба и Святослава, а Мстислав, до того отсиживавшийся в отдалённой Тмутаракани и не вступавшийся за братьев, вдруг пошёл на Киев, на брата Ярослава вместе с хазарами и касогами, до того, как известно, покорив касожского князя Редедю, о чём подробно сообщается в летописи и помянуто в «Слове о полку Игореве»: «Иже зареза Редедю пред полкы касожскими».
Но вернусь к сообщению о появлении волхвов в Суздале в 1024 году: «Ярослав находился в Новгороде, Мстислав же пришёл из Тмутаракани к Киеву, и не приняли его киевляне. Он же пошёл и сел на столе в Чернигове, Ярослав же был тогда в Новгороде. В то же лето поднялись (появились – П.Т.) волхвы в Суздале, избивали зажиточных людей, по дьявольскому научению и бесовскому действию, говоря, что они держат обилие. Был мятеж великий и голод по всей стране, и пошли по Волге все люди в Болгарскую землю, и привезли хлеба и ожили. Услышав о волхвах, Ярослав пришёл в Суздаль. Захватив волхвов, одних он изгнал, а других казнил, говоря: «Бог посылает за грехи на любую землю голод или мор, или засуху, или иную казнь, а человек ничего не знает о том». («Се повести временных лет», Арзамас, 1993 г.)
Упоминая о волхвах, автор летописи, надо полагать, тем самым стремился охарактеризовать духовно-мировоззренческое состояние общества и вытекающую из него политическую ситуацию, а вовсе не только для того, чтобы рассказать о том, кем были волхвы. Эта запись о волхвах оказалась ему необходимой для того, чтобы определить положение, сложившееся в связи с походом на Киев, на брата Ярослава Тмутараканского князя Мстислава. И, видимо, в целом – братоубийственную войну, разразившуюся после смерти князя Владимира-Крестителя в 1015 году. Такого, столь решающего периода в истории Руси, когда на кону стояло само её бытие, не будет потом долго, разве что около пятисот лет спустя во времена Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, когда сначала в Новгороде, а потом и при княжеском дворе в Киеве завелась ересь, и над Русью нависла опасность изменения этнической идентификации, то есть веры. Кстати сказать, отношение к волхвам было точно таким же, как потом к еретикам, что само по себе свидетельствует о том, что явления эти если и не идентичные, по-разному проявляемые в разные времена, то, во всяком случае, сходные.
Описание этой междоусобицы, как мне кажется, историками несколько упрощается, так как недостаточно акцентируется внимание на главном – что явилось её причиной, какова была её суть и какие последствия для Руси она могла иметь. В то время, как совершенно очевидно, что после смерти Владимира была предпринята явная и серьезная попытка смены веры на Руси. То есть всё, как и всегда, как и во все времена, определялось, прежде всего, пониманием ценностей этого мира и типом мышления или, как мы говорим теперь, менталитетом. Эта борьба за Русь, как видно по всему, началась ещё при жизни Владимира, но приняла открытие формы после его кончины. И, как всегда, – используя разногласия между братьями-князьями. Этот трагический, решающий период нашей истории подробно описан Львом Гумилёвым в книге «Древняя Русь и Великая степь» (М., «Мысль», 1989 г.) И что примечательно и особенно ценно – не с точки зрения реально-бытовой, то есть описания всех перипетий и подробностей войны, к чему, к сожалению, у нас зачастую и сводится история, и в которых она, по сути, тонет, а с точки зрения выявления тех смыслов, которые за ней стояли, тех побудительных причин и тех мотиваций, в результате которых она стала возможной.
Старшим сыном князя Владимира-Крестителя был Святополк. Ему по смерти отца доставался княжеский стол. Но отец недолюбливал его, связывая будущее княжеского стола с Борисом, которому накануне смерти и доверил командование войском против печенегов. И дело было не только в сомнительном происхождении Святополка, но в его духовной и мировоззренческой ориентации. Как писал Георгий Вернадский, «Святополк – сомнительного происхождения, сын вдовы Ярополка, на которой Владимир женился, когда она уже была беременной» («Киевская Русь», Тверь, «Леан», М., «Аграф», 1996 г.). По всей видимости, Святополк был усыновлённым племянником Владимира. Всё дело было в том, что Святополк, являясь, по словам Льва Гумилёва, первым русским западником, подпал под влияние католичества, готовя переворот в Киеве, о чём Владимир, по всей видимости, дознался. Сошлюсь на «Сказание о Русской земле» А. Нечволодова: «…Сын Владимира Святополк, женился на дочери польского короля Болеслава Храброго. Однако, выдав свою дочь замуж за православного князя, Болеслав стал действовать на Святополка через дочь, с целью склонить его к принятию католичества. Скоро Святополк очень поддался этому, что ему было особенно удобно, так как он сидел в Турове, городе, близко лежавшем к польской земле. Тогда Болеслав стал подучивать Святополка восстать против отца. Владимир заключил за это Святополка с женой в темницу, в которой они провели некоторое время.
По поводу этого заключения в темницу Болеславовой дочери – у нас в 1013 году началась с поляками война, которая, однако, окончилась, так как Болеслав поссорился с печенегами, которых навел на Русь, и ушёл к себе в Польшу». (Уральское отделение Всесоюзного культурного центра «Русская энциклопедия». Книга первая. 1991 г.). Впрочем, об этом прямо и недвусмысленно писал ещё Н. Карамзин: «Владимир усыновил Святополка, однако ж, не любил его и, кажется, предвидел в нём будущего злодея. Современный летописец немецкий, Дитмар, говорит, что Святополк, правитель Туровской области, женатый на дочери Польского короля Болеслава, хотел по наущению своего тестя, отложиться от России, и что Великий князь, узнав о том, заключил в темницу сего неблагодарного племянника, жену его и немецкого Епископа Рениберна, который приехал с дочерью Болеслава». («История государства Российского», том II, СПб, 1892 г.).
Словом, подробности жесточайшей междоусобицы, разразившейся на Руси, историками описаны верно и подробно. Не вполне только, как мне кажется, осознавались её причины и трагические последствия, в случае, если бы Святополку удалось произвести смену веры. О том же, что возможность навязать католицизм на Руси существовала реально, писал так же Д. Иловайский: «Но католическое духовенство по характеру своему не могло ограничиться одними дружескими отношениями с Русью и ещё при Владимире успело обнаружить свои неуклонные виды на присоединение Русской церкви к Риму. Поводом к этому послужил родственный союз Русского княжеского дома с Польским. Владимир женил одного из своих сыновей, Святополка Туровского на дочери польского короля Болеслава Храброго. Польская княжна прибыла на Русь в сопровождении Рениберна, епископа Колобрежского (Кольбергского). Последний по всем признакам, начал склонять к переходу в латинство Туровского князя и его приближенных, и не без успеха. Так как Святополк в это время имел старшинство между сыновьями Владимира, то ему принадлежало право на великое княжение Киевское по смерти отца, и, следовательно, католицизму открывалась возможность с его помощью и всю Русь отторгнуть от Греческой церкви. Замыслы эти втайне поддерживал тесть Святополка король Болеслав. Последний, по-видимому, желал, чтобы зять его захватил великое Киевское княжение, не дожидаясь смерти Владимира; причём, он, конечно, надеялся воспользоваться смутами, чтобы увеличить свои владения за счёт Руси. По крайней мере, Владимир узнал о каких-то замыслах Святополка и заключил его в темницу вместе с его женою и епископом Рениберном. Окончание этого дела неизвестно, но Святополк, вероятно, успел оправдаться: так как во время Владимировой кончины мы видим его на свободе». («Становление Руси», «Алгоритм», 1996 г.).
Но для современного читателя остаётся не вполне ясным то, почему Святополк, оказавшись на княжеском столе и располагая властью, вдруг начал убивать своих братьев. Ведь, казалось бы, по обыденной логике, он должен был добиваться их подчинения ему, но не убийства. Но в этом-то и заключается сакраментальный смысл крамолы, что она проявляется, прежде всего, не в обыденной и не в социальной сфере, но в духовной и мыслительной. Обладая формальной властью, Святополк не обладал властью сущностной, основанной на народной вере, а значит и на поддержке народа. Киевляне не могли простить ему католичества и бунта против отца, прозвав окаянным. Такое специфическое, агрессивное состояние человека, как видим, основанное на смене веры, признает только своё миропонимание. Другие же миропонимания мешают ему и изобличают его самим фактом своего существования, а, потому, по его логике, должны быть уничтожаемы. Причём, непременно и неизбежно. Так что междоусобная борьба, во всяком случае, в данной ситуации, велась не только за власть, как часто думают. Власть-то принадлежала и по закону, и по старшинству, и фактически Святополку и, тем не менее, он убивает братьев… Это очень важный момент для уяснения причин междоусобицы, как в прошлом, так и во всю нашу историю, вплоть до наших дней. По сути, Святополк убивает братьев по тем же причинам, по которым волхвы убивали «лучших жен» – духовная, мировоззренческая несовместимость и нетерпимость и убеждение в том, что только таким путём мир может устроиться. По существу, по тем же причинам люди убивают друг друга в период революционного беззакония и смуты. Тут ничего не изменяется в веках, разве что словесное обрамление происходящего.
Казалось, что только по какой-то счастливой случайности Ярославу удалось одолеть Святополка окаянного. Видя избиение братьев, Ярослав в панике уже, было, хотел бежать в Швецию. Но посадник Константин Добрынич приказал изрубить ладьи, на которых Ярослав намеревался бежать. Был организован поход на Киев, увенчавшийся успехом. Святополк бежал в Польшу и умер по дороге от психической болезни. Не от угрызения совести, конечно, но именно от психического расстройства, что тоже очень важно для уяснения того миропонимания, которое он исповедовал.
Читатели могут упрекнуть нас в том, что мы, вроде бы, отвлекаемся от темы, от «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина, уходя в духовно-мировоззренческие аспекты. Но это не совсем так. Ведь без чёткого уяснения сущности волховства и существа крамолы, по сути, невозможно объективно прочитать балладу А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
На многие неотступные вопросы наводит тот давний период зарождения крамолы и братоубийства. Поскольку это имеет чрезвычайно важное значение для нашего самосознания, остановимся на нём подробнее. Теперь с удивлением и изумлением приходишь к выводу о том, что если бы ответы на эти вопросы были бы даны своевременно, то, может быть, крамола и не распространялась бы на Руси с такой устойчивостью в последующие тысячу лет вплоть до сегодняшнего дня.
А вопросы эти такие. Прежде всего, истоки и причины крамолы и братоубийства в значительной мере явились следствием внешнего влияния, а вовсе не выходили из каких-то противоречий самой жизни на Руси. Католичество Святополка окаянного, которому он оказался подвержен и которое намеревался утвердить вместо православия на Руси, разве это не внешнее влияние? В житие Бориса и Глеба прямо говорится о том, что Святополк действовал «по научению злых людей».
Крамола оказалась пресечённой, в конце концов, князем Ярославом именно силой оружия и никак не иначе, отчего, как известно, отказался князь Борис, который под влиянием опасности ослаб телом.
Понятие кровного братства для убиваемого Бориса, как известно, оказалось выше родства духовного. Но это противоречит основному и главному положению вероучения о том, что родство по крови является ниже родства по духу. Так что чувство кровного братства Бориса не может быть аргументом и основанием для того, чтобы не оказать сопротивление Святополку окаянному, одержимому дьяволом… К тому же Борис, Глеб и Святослав, как известно, не были кровными братьями Святополку так как он был усыновленным племянником Владимира… Это и вовсе лишает логики непротивление князя Бориса. Конечно, есть житейская, историческая логика, а есть вера, в эту логику не укладывающаяся. Но данные-то факты таковы, что ни по логике житейской, ни по вере не могут не быть учитываемыми. И потом, если Святополк был одержим бесом, почему делается уступка непротивления ему, то есть бесу? – «Господи… рассуди меня с братом моим. И не поставь ему в вину греха сего, но прими с миром душу мою» («Страдания и чудеса святых мучеников Бориса и Глеба»). И главное – почему Борис и Глеб канонизированы, а брат их Святослав предан забвению?
И – с прославлением Бориса и Глеба крамола на Руси не прекратилась, продолжая терзать Россию вплоть до сегодняшнего дня. Но если так, что надеюсь, никто оспорить не может, то остаётся единственный выход. Для того, чтобы восстановить справедливость, Русской Православной Церкви необходимо вернуться к этому периоду первоначального зарождения крамолы, пересмотрев его. Если Борис и Глеб святые, то почему брат их Святослав, так же безвинно убиенный Святополком окаянным оказался забытым? Неужто, лишь потому, что не ждал смиренно расправы, а оказал пассивное сопротивление братоубийце бегством, в то время как непротивление было основным христианским догматом? Как известно, Святослав был настигнут у горы Угорской, когда бежал в Венгрию, и так же убит безвинно, как Борис и Глеб… Как сообщается в летописи, «Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал в Венгрию». А потому Русской Православной Церкви по всей вероятности, необходимо рассмотреть вопрос о канонизации князя Святослава, брата Бориса и Глеба в числе первых русских святых.
Князь Святослав занимает свое незаёмное место в русской истории. По первоначальному распределению уделов ему досталась Древлянская земля. Но есть версия, что распределение столов Владимиром между сыновьями состоялось позже, в 1010 году, и что князь Святослав до этого правил в Тмутаракани. (Гадло А.В. «Тмутараканские этюды» III, Вестник ЛГУ, 1990, вып. 9). Совершенно справедливо напрашивается вопрос о том, почему он не занимает своего исконного места в истории русской святости, если им так же, как и братьями его, Борисом и Глебом совершён духовный подвиг безвинной и мученической смерти…
Казалось бы, междоусобица стихла. Но, воспользовавшись ослаблением Руси войной между братьями – Святополком и Ярославом, – поднялись извечные и самые серьёзные противники – хазары, используя при этом добродушного Мстислава, княжившего в Тмутаракани. Реконструкция событий, предложенная в свое время Львом Гумилёвым в связи с походом Мстислава на Ярослава и на Киев, пожалуй, не вызывает никаких сомнений.
Под 1023 годом в летописи значится сообщение: «Пошёл Мстислав на Ярослава, с хазарами и касогами». А годом ранее, как известно, в 1022 году, князь Мстислав покоряет касогов, постоянных врагов хазар, убивая на поединке Редедю, о чём говорится в летописи, о чём пел славу Мстиславу Боян и о чём поминает автор «Слова о полку Игореве». Безусловно, Мстислав покоряет касогов по наущению и при поддержке тмутараканских хазар. Это подтверждается тем, что сразу же после этой победы он вдруг идёт на Киев, на брата Ярослава. Слишком уж несвоевременным был этот поход для Ярослава, только закончившего войну со Святополком окаянным. А потому совершенно прав Лев Гумилёв, усматривавший в этом походе намерение устроить на Руси химерическое государство по образцу Хазарии, когда правящая верхушка исповедовала иудаизм, а народ был другого вероисповедания: «Согласно летописной манере изложения, инициатива всегда приписывается князю, а влияние советников и давление общественного мнения опускается. Однако в свете описанной ситуации вернее считать, что на Русь пошли походом «хазары» и «касоги», а чтобы привлечь на свою сторону часть русских, привели с собой Мстислава Владимировича».
О том, что такой замысел был в действительности, писал и Георгий Вернадский. Правда, писал деликатно, не обнажая сути борьбы, но которая и через эту деликатность всё же проступает: «Правление Мстислава – это в определённом смысле, попытка заменить господство на Руси Киева господством Тмутаркани и возродить древнерусский каганат докиевских времён». То есть, сменить этническую доминанту на Руси – вместо православия насадить иудаизм. Во всяком случае, в правящей верхушке. Но киевляне отказались принять Мстислава с его хазарскими союзниками.
И тут, как обыкновенно бывало в истории Руси-России, включаются какие-то непредвиденные обстоятельства, казалось бы, случайности, сущие малости, которые и рушили все планы завоевателей. Как известно, Ярослав с наёмной варяжской дружиной и Мстислав с хазарами и касогами сошлись у города Листвена. Ярослав потерпел поражение и снова бежал в Новгород. Но победитель Мстислав вдруг просит мира у побеждённого Ярослава, признавая его старшинство: «Садись в своём Киеве, ты старший брат, а мне будет эта Черниговская сторона». Казалось, ни по какой логике этого не должно было произойти, и, тем не менее, всё произошло именно так. И сотворился мир на Русской Земле. Как писал А. Нечволодов, «братья съехались у города близ Киева и разделили Русскую Землю по Днепру: Мстислав взял себе восточную часть, со столом в Чернигове, а Ярослав – западную, с Киевом. Это было в 1025 году, и «начали» они жить мирно и миролюбиво, то – говорит летописец, – и перестала усобица и мятеж, и была тишина великая в Земле». Об этой, вроде бы, неожиданной перемене Мстислава писал и Н. Карамзин: «Он поднял меч на брата, но загладил сию жестокость, свойственную тогдашнему веку, великодушным миром с побеждённым и Россия обязана была десятилетнею внутреннею тишиною счастливому их союзу, истинно братскому».
Попытка создать на Руси хазарскую химеру не удалась. Как писал Лев Гумилёв: «Нет, попытка создать на месте Руси вторую Хазарию провалилась не из-за случайного неведения. Личные отношения с храбрым и доверчивым князем не могли восполнить той непопулярности, даже неприязни, которую вызывали иудео-хазары в киевлянах, ещё помнивших поход достопочтенного Песаха».
Как известно, побывав на Кубани, А. С. Пушкин намеревался написать поэму о Тмутараканском князе Мстиславе. Примечательно, что из многих князей, помянутых в «Слове о полку Игореве», именно на нём он останавливает внимание, причём, темой поэмы должно было быть испытание князя искушением. (Не в связи ли с восьмисотлетием сражения Мстислава с Редедей он замыслил эту поэму? Ведь именно в этот, 1822 год К. Рылеев тоже пишет балладу о Мстиславе, но вполне «традиционную»). Но поэма о Мстиславе так и осталась А. С. Пушкиным ненаписанною, но, в том же году А. С. Пушкин создаёт «Песнь о вещем Олеге». Как думается, поэма о Мстиславе не была написана по той причине, по какой замыслы художников не всегда совпадают с их воплощением, когда как бы сопротивляется материал, и чуткая душа художника вопреки замыслу и расчёту, постигает правду духовную, историческую, нравственную, человеческую. Поэма о Мстиславе не была написана А.С. Пушкиным по той же причине, по какой Л. Толстой, замыслив роман о декабристах, пишет «Войну и мир», А. Блок, так и не дописав поэму «Возмездие», создаёт «Двенадцать» и «Скифы», М. Шолохов, замыслив роман о корниловском мятеже, создаёт народную эпопею о казачьей жизни «Тихий Дон». Так и А.С. Пушкин, вознамерившись написать поэму о Мстиславе, создает «Песнь о вещем Олеге». Пишет балладу об Олеге, как бы с думой о Мстиславе, ибо то, что произошло с Олегом – искушение, жертвой которого он стал, того не произошло с Мстиславом…
Таким образом, главный подвиг Тмутараканского князя Мстислава состоял не в том, что с помощью хазар и под покровительством Божией Матери он в 1022 году покорил касогов и убил Редедю, что и осталось широко известным в истории. А его подвиг 1016 года – разгром крымских хазар с помощью Византии оказался как-то и вовсе незамеченным. Основной подвиг Мстислава менее заметен в истории, но имеет громадное значение для спасения Руси и её благополучия – это подвиг братолюбия. То есть, подвиг не столько военный, сколько духовный. Не потому ли автор «Слова о полку Игореве», похоже, иронизирует над Бояном, песнотворцем Мстислава, что тот пел славу своему князю не о главных его подвигах?
Но так странно складывается наша история, что предпочтение в ней отдаётся именно внешней, военной силе, а не внутренней, духовной, менее заметной, но более важной для народа и страны. Примечательно, что подвиг братолюбия Мстислава остаётся в тени, а его покорение касогов почитается и до сего дня, причём как явление Божьей Матери на Кубани в 1022 году. Мстислав-то действительно одолел в единоборстве Редедю, обратившись с мольбой к Богородице… В честь этого события под Краснодаром у посёлка Белозёрного, на берегу озера Лотосов в 1997 году возведена часовня. Цель возведения этой часовни в общественном сознании по причине «информационности» нашего общества, непонятна, а тот её потаённый смысл, о котором я говорю, конечно, и вовсе не ведом…
Примечательно, что сразу же за летописным сообщением 1023 года: «Пошёл Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами», летописец вроде бы вдруг вспоминает о появлении волхвов в Суздале. По нашей обыденной логике это описание появления волхвов в Суздале здесь кажется и вовсе ничем не мотивированным. Но летописец делает эту вставку для того, чтобы передать истинный духовно-мировоззренческий смысл событий в связи с походом Мстислава на Киев. Летописцу и понадобилось сделать эту, внешне вроде бы, не относящуюся к повествованию вставку. То есть, в данном случае, он преследовал не столько историческую, событийную цель, сколько духовно-мировоззренческую. А о том, что положение тогда складывалось действительно сложное, свидетельствует то, что Ярослав лично прибывает в Суздаль для успокоения и умиротворения людей и надо полагать, для оказания помощи им в связи с голодом, о чём прямо говорится в летописи.
Ни за какое якобы возвращение в лоно дохристианского язычества, как видно из летописных записей, волхвы, конечно же, не ратовали. На это нет даже никакого намёка ни в каких источниках. Как волховство, так и позже еретичество, представляло собой не инакомыслие, но полное отрицание христианской веры, составляя специфический мировоззренческий комплекс: «Иудаизм, смешанный с астрологией и обрывками проникших из ренессансных обществ Запада натурфилософских учений». Эту точную характеристику публициста Андрея Зубова приводил Вадим Кожинов.
О том же, что этот сложнейший и жесточайший период междоусобицы на Руси имел именно такой смысл свидетельствует то, что итогом его явился духовный и литературный памятник «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. В летописи под 1051 годом сообщается: «Поставил Ярослав русина Илариона митрополитом, собрав для этого епископов».
Странное дело, не укладывающееся в понятия обыденной логики: первый русский митрополит Иларион в своей страстной исповеди «Слове о законе и благодати», вроде бы, должен был обосновывать право Русской церкви на самостоятельность и независимость от Византии, так как до этого митрополитами на Руси были исключительно греки. Но он в своём слове не только не проявляет никакой конфронтации по отношению к Византии, но всячески подчеркивает преемственность от неё. Весь же полемический запал его слова направлен на обоснование права христианства на своё существование, свободного от влияния иудаизма и язычества; на обнажение той невидимой брани духовной, которая сопровождает человека во всю его жизнь, за сохранение его духовной природы.
И что характерно, на протяжении всех этих веков отношение к волхвам, так же как и к еретикам, остаётся неизменным: «Еретиков, всенародныя тишины возмутителей, праведному суду всяко предлежит предавати к наказанию».
Говоря же о «преемственности» между волхвами и еретиками, важно отметить обстоятельство, долгое время искажавшееся, состоящее в том, что как волхвы, так и еретики именно появляются, а не восстают. И уж тем более «восстают» не против якобы социальной несправедливости, возглавляя народное движение.
Как известно, ересь в Новгороде во времена Иосифа Волоцкого и архиепископа Новгородского Геннадия завелась после того, как в свиту литовского князя Михаила Олельковича с «еретической миссией» прибыл Схария, называемый «князем Таманским» (как тут не вспомнить Тмутараканских – Таманских хазар, приходивших с князем Мстиславом на Киев). С его деятельности и начался на Руси еретический захват высшей церковной и государственной власти. Речь шла не о какой-то альтернативной вере, но об отступничестве от православия, то есть духовном и моральном разложении общества, погружении его в состояние беззакония и смуты. И такая возможность в то время была вполне реальной, так как невестка великого князя Ивана III Елена Волошанка, подверженная ереси, жена наследника престола Ивана Молодого была матерью Дмитрия, после смерти отца провозглашённого наследником престола… В том и состояло величие подвига Иосифа Волоцкого, что ему удалось перебороть в общественном сознании отношение к ереси, грозившей катастрофическими последствиями. Ведь речь шла о сломе полутысячелетнего бытия Руси. К сожалению, идеологически ангажированные исследователи и публицисты и до сих пор представляют еретиков как какой-то кружок «вольнодумцев», одержимых «прогрессивными» идеями и исканиями…
С некоторым удивлением и даже растерянностью обнаруживаешь теперь, что почти каждое значимое духовно-мировоззренческое событие нашей многотрудной истории, а также выдающиеся личности в ней представлены в нынешнем общественном сознании в искажённом, а то и в прямо противоположном смысле. Эти искажения столь последовательны, что их никак нельзя отнести на счёт недосмотра или какого-то случайного стечения обстоятельств. Как искажена и, по сути, недоступна общественному сознанию выдающаяся роль в истории Руси великого князя Олега Вещего, так же искажён подвиг и преподобного игумена Иосифа Волоцкого. Либеральствующее сознание уже более позднего времени в целях идеологических противопоставило Иосифа Волоцкого Нилу Сорскому, представило их взаимоотношения как конфликт, как якобы представителей двух направлений мысли враждующих между собой, «иосифляне» и «нестяжатели», чего в действительности не было. Они были представителями не разных направлений мысли, а разных служений. Если Иосиф Волоцкий был представителем монастырского служения, то Нил Сорский «почитается основателем в России скитского жития в более строгом и точном его устройстве» («Преподобного отца нашего Нила Сорского предание ученикам своим о жительстве скитском», Санктпетербург, 1852 г.). Но, это уже иная и большая тема, имеющая прямое отношение к нашему нынешнему духовному состоянию, требующая самостоятельного рассмотрения.
Ещё раз вернусь к волхвам, которых современные исследователи так любят выставлять представителями и даже жрецами дохристианского язычества. Справедливо писал И.Я. Фроянов, что «дар ясновидения волхвов выразился в их способности найти между «лучшими женами» тех, кто «обилие держит». «Держит гобино» или обилие, то есть препятствует урожаю. Иными словами, эти «лучшие жены» или «старая чадь» дурно влияют на жизнь людей, нежелательны для коллектива, а потому и подлежали уничтожению. То есть «избиение волхвами «старой чади» носило ритуальный характер» (И. Я. Фроянов). Стоит отметить, что психоз, возбуждаемый волхвами в обществе был столь силен, что мужчины сами приводили для убийства своих жён и матерей… Ещё раз скажу, что психоз этот никакого отношения к дохристианскому язычеству не имеет, как и еретичество не имело никакого отношения к прогрессивным идеям и исканиям.
Итак, волхвы – это еретики более раннего времени. И гадатели, маги, кабалисты, оккультисты времён «просвещённых» – прямые наследники летописных волхвов. В наше время мировоззренческой растерянности их чаще называют целителями, хотя суть их прямо противоположна, ибо, как правило, они приводят человека к духовному и душевному недугу. Все эти разновидности волховства, по-разному называемые в разные эпохи, не признают тайны человеческого бытия, хотя и признают наличие «высшей силы», с которой можно вступить в общение при помощи определённых магических действий. Они однородны по типу сознания. Мир для них познаваем, так как тайна его, по их представлениям, находится не в самом человеке, а вовне, в отличие от представлений духовных: «Счастье лежит не вне человека, а в нём самом, и единственный путь к его достижению есть самопознание» (Н.С. Трубецкой). Наиболее популярен из них оккультизм, как общее название мистических учений. Вот его, так сказать, программные положения: «Задачей оккультизма является проникновение в тайны мироздания, жизни и смерти, и овладение секретами психического и так называемого сверхъестественного миров… Оккультизм решительно отрицает существование чего-нибудь сверхъестественного в мире… Явления, которые зовут сверхъестественными, просто ещё не поддаются объяснению, но таковых много и в области чисто материальной». (С. Тухолка. «Оккультизм и магия», С-Петербург, издание А.С. Суворина, 1907 г.)
Примечательно, что как волхвы вызывали духов в свой дом, так же и оккультисты вызывают «высшие силы». Ситуация абсолютно идентичная, несмотря на огромное временное расстояние. Более чем примечателен тот факт, что в наше идеологизированное время волхвов выставляли как предводителей революционных антифеодальных выступлений народа, хотя ни о каком феодализме тогда ещё не было оснований говорить.
В подтверждение «преемственности» от волхвов до революционеров нашего времени сошлюсь на поразительный документ, который, может быть сравним по своему значению, разве что, с летописным появлением волхвов в Суздале в 1024 году. Документ относится к началу революционного миновавшего ХХ века:
Приказ
Усть-Лабинского Революционного Комитета
№ 89
29 октября 1920 года ст. Усть-Лабинская
По станице разными тёмными личностями выпущена и распространяется очередная злая провокация; о каком-то народившемся в Екатеринодаре АНТИХРИСТЕ, и о том, что ученикам школ будет прикладываться Коммунистическая печать.
Провокация эта пущена с определённой целью, дурно повлиять на несознательные массы, играть на нервах неграмотного народа, подорвать значение школ и дело Народного Образования.
Отцы и матери! Не верьте этой наглой лжи, ведите в школы своих детей: НИКАКОГО АНТИХРИСТА нигде не народилось и не может народиться, а также никаких печатей и не кому не прикладывается: всё это новые выдумки врагов Трудового народа, распускаемые тайными агентами барона Врангеля и буржуазией, которые, потеряв надежду взять власть в свои руки силой оружия, прибегают к всевозможным средствам, если не свергнуть, то хотя бы подорвать Советскую Власть и насколько возможно задержать просвещение тех масс, которые они целые века держали в кабале. Эти шпионы отлично знают, что, дав народу избавление от темноты, им никогда не удастся осуществить свою заветную мечту.
Помните граждане, что ликвидация безграмотности есть верный путь к светлой будущей жизни.
Объявляя о сём, приказываю всех лиц, замеченных в распространении этих вредных слухов задерживать и доставлять в Ревком, где к ним будет применяться высшая мера наказания.
Вр. Предревкома САРАНЧА
Зав. отделом Народного образования и
Секретарь Ревкома ЕПИФАНОВ
Документ, конечно, поразительный по тому психологическому состоянию, которое неизбежно охватывает людей в периоды беззакония и революционного анархизма. Нетрудно заметить, что «тёмные личности» в этом документе и есть волхвы нового времени. И с ними точно так же поступали, как и с волхвами древними.
Читатели могут задаться вполне резонным вопросом, а правомерно ли моё сближение смут с древнейших времён до наших дней, по их характеру и типу? И здесь я должен уверить читателей в том, что такое сближение правомерно и единственно возможно для уяснения сути происходившего. Но, конечно, при условии, что мы общественное сознание принимаем в исторической непрерывности, не подменяя его сиюминутными соображениями, облечёнными в идеологические и политические догмы, на каждый час свои.
О том, что понимали и столь трагически переживали русские писатели в период революционной смуты, но что не вполне теперь понятно нам, что мы даже не осознали с какой сферой человеческой жизни имеем дело, свидетельствует в частности такой факт. Истолковывая появление волхва при князе Глебе в Новгороде в 1071 году современные историки усматривают в нём народный смысл потому, что: «И люди разделились надвое: князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли и встали за волхвом. И начался мятеж великий в людях». При этом подразумевается, что если большинство людей пошло за волхвом, то значит, он выражал некие народные чаяния и интересы. На самом же деле, такое явление психологического свойства парламентским большинством не решается, ибо не может быть, таким образом, верно оценено. Смутьянов, возмутителей спокойствия, заражающих своею болезнью всё общество, как мы знаем из истории, всегда единицы. На сей счёт есть даже русская пословица: «Паршивая овца всё стадо портит».
Как князь Глеб пресёк «мятеж великий в людях», вызванный появлением волхва, хорошо известно: «Глеб же с топором под плащом подошёл к волхву и сказал ему: «Знаешь ли ты, что случится утром и что до вечера?» Тот же сказал: «Знаю, наперёд всё». И сказал Глеб: «А знаешь, что будет с тобой сегодня?» «Чудеса великие совершу», – ответил тот. Глеб же, выхватив топор, рассёк волхва, и тот пал замертво, и люди разошлись. И погиб так телом и душой, отдав себя дьяволу». Последняя фраза по логике наших позитивистски настроенных исследователей, конечно же, дописана «ортодоксальным» христианским летописцем. Но и без неё, в контексте нашего повествования, суть происходящего ясна.
Но вернёмся к Олегу Вещему, к летописным сообщениям о нём и к пушкинской балладе «Песнь о вещем Олеге». Казалось бы, – как же мог столь многомудрый князь Олег, княживший более тридцати лет, так легко соблазниться на предсказания какого-то волхва и кудесника, по сути, случайно ему встретившемуся? Как мог Вещий Олег так легко поддаться обману? На самом деле ничего подобного с выдающимся князем Олегом Вещим не происходило. И эта обидная для русского самосознания коллизия может быть всецело отнесена на счёт странностей нашей истории. Точнее, изложения её.
Исследователи давно заметили, что после смерти Рюрика в 879 году, передавшем княжение родичу своему Олегу, а также поручившему ему судьбу сына своего Игоря, так как тот был ещё очень мал, следует длительный период княжения в семьдесят лет, отмеченный именами Олега и Игоря. Причем, в летописи этого периода существуют такие большие пропуски, что установить хронологию смены князей по её тексту невозможно. Справедливо писал Вадим Кожинов, что «в силу какого-то странного «консерватизма» летописные сведения об Олеге и Игоре до сих пор не стали предметом развёрнутого исследования, – хотя отдельные, частные соображения по этому поводу были высказаны целым рядом исследователей». («История Руси и русского слова», «Московский учебник – 2000», 1997 г.). И такое исследование, хронологическую реконструкцию этого сложнейшего и запутанного периода истории он предпринял. При этом литератор и историк пришёл к выводу, подтверждающему разрозненные и частные замечания предшествующих исследователей. По смерти Рюрика, вплоть до 912 года, правил Олег Вещий, безусловно, выдающийся человек. Друживший с Византией и заключивший знаменитый договор с греками, ни о каком «щите на вратах Цареграда» не помышлявший, ибо это противоречило его вере, убеждениям и проводимой им политике. Ведь невозможно же, в самом деле, одновременно вводить письменность на основе христианских богослужебных книг и бороться с христианством, что приписывается по какой-то странной логике ему исследователями. Потом правил Игорь. После Игоря правил Олег «второй», что подтверждается древними зарубежными источниками. Обратимся к выводам Вадима Кожинова: «Но в историографии давно уже было высказано мнение, что в летописном Олеге соединилось два лица (говорилось даже о нескольких). Особенно примечательно, что их соединение осуществилось в летописях не вполне, остались своего рода швы. Олег в летописях явно «раздваивается»: он выступает то в качестве воеводы при князе, то, как полновластный князь; смерть его и в Киеве, и «за морем»; сообщается даже о двух его могилах: – в Ладоге и в Киеве… Олег Вещий, который почти целиком «заслонил» другого, «второго» Олега, был родственником Рюрика и правил после его смерти. Однако сведения, согласно которым правил он от имени Рюрикова сына Игоря, неправдоподобны уже хотя бы потому, что вплоть до 918 года (когда Игорю было бы не менее тридцати трех лет) первым лицом в летописных сообщениях, о чём уже сказано, предстает не Игорь, а Олег».
Этот, «второй» Олег и подпал под влияние хазар, проводя выгодную им, а не Руси политику, ибо, как установила С.П. Плетнева, «хазары сохраняли всю правящую верхушку побеждённых народов, …связав её с собой вассалитетом». Это вовсе не домысел, а действительный факт, содержащийся в «Хазарском письме» десятого века. Отрывок из него в переводе А.П. Новосельцева Вадим Кожинов и приводил: «…Во дни царя Иосифа… злодей Романус послав большие дары Хлгу, царю Руси, подстрекнув его совершить злое дело. И пришёл тот ночью к городу Смкрии (позднее Тмутаракань – Тамань – В.К.) и захватил его обманным путём… И стало это известно Булшци (по-видимому, высокий хазарский титул – В.К.) он же Песах хмкр (иранский или, вероятнее, хорезмейский титул – В.К.) и пошёл тот в гневе на города Романуса (имеются в виду византийские города в Крыму – В.К.) и перебил всех от мужчин до женщин… И пошёл он оттуда на Хлгу и воевал с ним четыре месяца, и Бог подчинил его Песаху… Тогда сказал Хлгу, что Романус побудил меня сделать это. И сказал ему Песах: если это так, то иди войной на Романуса, как ты воевал со мной, и тогда я оставлю тебя в покое. Если же нет, то умру или буду жить, пока не отомщу за себя. И пошёл тот и сделал так против своей воли и воевал против Константинополя на море четыре месяца… И так попали русы под власть хазар».
Олег «второй» и воевал с Византией подневольно, а потом так же в походе, предпринятом не по своей воле, сгинул бесславно на Каспии, «за морем»… Но в исторической науке, а стало быть, и в общественном сознании, воззрения и деятельность князей оказались перепутанными. Война Олега «второго» против Византии с пресловутым «щитом на вратах Цареграда» отнесена на счёт Олега Вещего. В то время как по воззрениям людей той поры совершенно непонятно, почему этот «щит» должен быть признаком доблести для страны уже давно перенимающей христианство. Не является это доблестью и по понятиям сегодняшним. Даже Н. Карамзин приводил какую-то смехотворную мотивацию походов на Византию якобы Олега Вещего: «Но Олег, наскучив тишиною, опасною для воинственной Державы, или завидуя богатству Цареграда, и желая доказать, что казна робких принадлежит смелому, решился воевать с Империею». Может быть, эта аргументация потому столь и несерьёзна, что явно не соответствовала действительной истории. Ведь это говорится об Олеге Вещем, о котором сказано в летописи: «И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами». Странным образом мирная политика Руси при Олеге под пером историка превратилась в прямо-таки неудержимую и беспричинную воинственность Державы… Со скуки…
При этом, как видим, Вещий Олег выглядит прямо противоположно тому значению, какое он имел в истории Руси. Уже убедительно доказано, что Олег Вещий предпринял убийство Аскольда и Дира не ради богатства Киева, а потому, что эти князья подпали под влияние хазар, были проводниками их политики, тем самым, угрожая и Северной Руси. Но историки с давних времён видят таинственную смерть «от коня своего» Олега Вещего как месть ему за язычество, а не за христианство. На самом же деле причина оказывается прямо противоположной. Не за христианство Олег расправляется с Аскольдом и Диром, а за то, что они уклонились от христианства и стали «служить иным богам».
Разумеется, А. С. Пушкин не знал о двух Олегах, так как историческая наука того времени ещё не объяснила столь странные и значительные пропуски в летописи. А потому в его балладе «цареградская броня», то есть христианская вера относится к одному Олегу, а «щит на вратах Цареграда», то есть воинственность к Византии – относится к другому Олегу. Но великий поэт писал ведь не историю, но трагедию человека, принявшего смерть «от коня своего», поменявшего верного коня на другого, то есть поменявшего свою веру на иную. А в том, что смена коня здесь символизирует смену веры сомневаться не приходится.
Летопись под 912 годом сообщает о благодеяниях Олега вещего, о том, что «жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами». И тут же сообщается о его смерти «от коня своего»: «И пришла осень, и помянул Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться». И прожил он, не видя коня своего несколько лет, пока не пошёл на греков». Это сообщение противоречит предшествующему: «И установили не преступать клятвы – ни грекам, ни русским». Значит, Олег преступил клятву, пойдя на греков? Нет, речь здесь идёт об Олеге втором, который сменил коня своего по наущению или «предсказанию» волхва и кудесника, которого он спрашивал: «Отчего я умру?». Таким образом, всё, что произошло с Олегом вторым, не происходило с князем Олегом Вещим. В общественном же сознании, в том числе и благодаря балладе А. С. Пушкина, утвердилось, что «смерть от коня своего» произошла именно с Олегом Вещим. Конечно, это недопустимая несправедливость.
Есть даже основание полагать, что вся эта летописная история, связанная со смертью Олега «второго» «от коня своего», является притчей с явно назидательным значением; рассказом, который может иметь историческую основу, а может и не иметь, созданным воображением народа и летописца. Вещий Олег «в цареградской броне», то есть, в христианской вере противоречит Олегу обольстившемуся, уклонившемуся от веры и поверившему волхвам и кудесникам.
Даже историки сомневаются в историчности предания о гибели Олега: «Вряд ли можно доверять помещённому в летописи преданию, согласно которому его смертельно ужалила змия, выползшая из черепа Олегова коня» (В.Б. Перхавко в кн. «Воители Руси IХ–ХIII вв». М., «Вече», 2006). Слишком уж невероятный сюжет для события исторического. Скорее это образно-иносказательное предание, которое трудно воспринять буквально. Назидательный же её смысл состоит в том, что так обыкновенно бывает, когда люди меняют «коня своего», уклоняются от своей веры и «служат иным богам»…
Если это так, то эту летописную повесть о смерти князя Олега «от коня своего», можно считать одним из первых, замечательных творений русской литературы. И то, что гений А. С. Пушкин не прошёл мимо этой летописной повести, воплотив её в чудной балладе «Песнь о вещем Олеге», подтверждает, что эта повесть не столько факт истории, сколько факт русского самосознания. «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина убедительно свидетельствует о том, что истинный поэт, говоря об истории, говорит не только о ней, но о том, как обыкновенно бывает на свете во все времена.
Петр Ткаченко