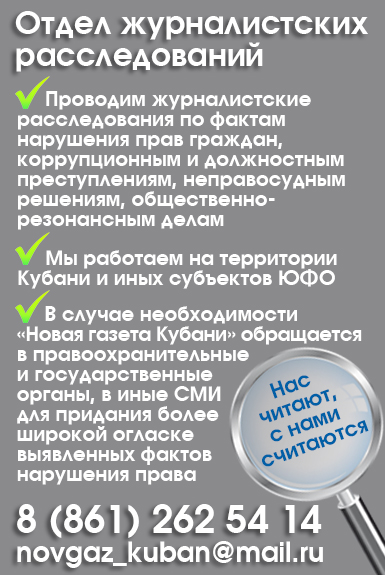Культурный проект "Родная речь"
3001
К 220-летию великого поэта Ф. И. Тютчева
Вчерашний вечер провела в обнимку с томиком стихов Фёдора Ивановича Тютчева. Небольшая книжечка, всего-то двести стихов, но какая же мощь, какая музыка стиха! «Тютчев – могучий поэт, – скажет о нём А. А.Фет. – Я… переписал бы все его стихотворения. Каждое из них – солнце, то есть самобытный, светящий мир...». Каждое достигло той утончённости, той «эфирной высоты», которая ранее была в мире неизвестна. Как точно сказано!
Вернувшись из Овстуга, имения, где родился поэт, надышавшись упоительным воздухом придеснейских рощ и лугов, посидев под тополем, ровесником гения, поехала в Петербург, в город, где воплощались в жизнь мечты Фёдора Ивановича. Весь день под впечатлением дивной музыки стихов.
В Питере хочется увидеть всё и сразу. Стою, слушаю лекцию под хвостом лошади памятника Фальконе, так лучше виден Зимний дворец. Любуюсь Исакиевским собором. Наконец, иду по Невскому проспекту. И угораздило же меня приехать в город Петра в такую погоду! Порывы ледяного ветра с Невы пронзают стрелами, стылые деревья безжизненны. А ведь уже конец апреля, и весна должна быть рядом, должна пробиваться сквозь сильнейший городской шум, сквозь непогоду. Должна, но… Плотнее завязываю шарф – продувает. Какое там пение птиц!? Одни вороны, нет, грачи сидят на гривах львов, каркают, возвещают всему Невскому проспекту о своём присутствии. Вглядываюсь в кричащую птицу. Чёрная, некрасивая. Ну, никакой радости. Неуютно. А грач подскочил, глядя на меня, захлопал крыльями, вытянулся вперед и ещё раз громко, осуждающе каркнул, будто обозвал или что-то сказал.
И вдруг меня осенило: это же гонцы Весны, это же мне кричат! А я не слышу. Как я могла забыть знаменитые тютчевские строки, в которых гонцы весны кричат во все концы: «Весна идёт!» Только он в такой непогоде мог услышать божественные шаги Весны.
Остановилась, прислушалась, затаила дыхание… Конечно, идёт! Несмотря ни на что, идёт, потрескивает, пощёлкивает, мощной поступью взламывает лёд на реке. Где-то на юге уж точно слышно, как «воды уж весной шумят», «бегут, и блещут, и гласят» о том, что «весна идёт!» Прочь хандру, прочь тоску!
Скоро всё оживёт, скоро будет тепло, раз грачи в городе раскричались. И бурлят, звенят, льются из души восторженные строки поэта, соединяясь с бушующей мелодией романса Рахманинова. И радостно дышится даже среди серых каменных сооружений Петербурга. Хочу ощутить «переизбыток» весенней жизни, услышать «мощную поступь весны». Хочу увидеть места, где когда-то жил великий поэт, философ и дипломат.
Иду, разглядываю фасады зданий, витрины магазинов. Шум, гул машин, людской поток… Все торопятся. Люди так заняты собой и делами, что забывают жить. Остановитесь, оглянитесь! Когда-то, почти 200 лет назад, по этой улице спешил на службу Достоевский, прогуливался А. С. Пушкин с Чаадаевым, шествовал, играя тростью, Карамзин. А там, вдали, видна группа офицеров. Неужели это члены тайного «Северного общества»?! Смелые, отважные рыцари свободы! Здесь гулял и Ф. И. Тютчев.
Подхожу к фасаду здания дома Лопатина. На стене – мемориальная доска поэту, где он жил с семьёй. Недолго. Снимал комнаты. Своего дома у статского советника, в наше время – генерала, не было, а свой красивый мундир он надевал по праздникам. Знаю: ему за шестьдесят, он часто болеет, прогулки обязательны, каждый день и в любую погоду. Так предписано врачом.
Вдруг вижу: открывается тяжёлая входная дверь и – вот он, сам поэт, худощавый, невысокого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно падающими на высокий красивый лоб. «На всём… его облике... печать изящного вкуса, многосторонней образованности, ума, ...игривой иронии... и при всём том что-то скромное, нежное, смиренно-человеческое, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жестокости, суетливости, щегольства: ничего напоказ, ничего для виду...»
Дыхание перехватило. Стою, двинуться не могу. Неужели сам Фёдор Иванович!?
Идёт, опираясь на трость, в накинутом на спину пледом. Отчего же этот несуразный вид, эти опущенные плечи?
Он мёрзнет в стылом Петербурге, страдает от одиночества, бессонницы или от того, что не может «восстановить цепь времён»?
Кажется, он несчастен. Сейчас вот обернётся и скажет мне: «Было бы глупым притворством ... скрывать моё глубокое, полное уныние. Может быть, и не всё потеряно, но всё изгажено, перепорчено, подорвано в своей силе надолго».
Отведёт печальный взгляд и добавит как бы про себя:
– Разум подавленный, как ты мстишь за себя!
Смотрю во все глаза и ничего не пойму! Почему подавленный? Кем? Трудно представить, что разум Тютчева кто-то в состоянии подавить. Это же оракул своего времени! Один из образованнейших людей не только в России, но и в Европе! У него гениальные задатки поэта, мыслителя, философа, умение предвидеть и предсказать событие. Он сам влиял на умы и мнения высшего света и царя, на политику своего государства. Один хотел уберечь целую страну от бед! Не получилось. Может, мешали эти «постоянные развлечения праздного человека, в которого Господь случайно закинул поэтическую искру», но без утоления жажды общения, без шороха бальных платьев жизнь теряла смысл. В одном из писем он признаётся: «И один быть тоже не могу! Это невыносимо не слышать около себя шумной жизни, не общаться с образованным кругом людей». Истинный представитель золотой дворянской молодёжи 10–30 годов 19 века. Он весь соткан из противоречий.
Эгоист до мозга костей, которому дороже всего его спокойствие, его удобства и привычки, но нет верней и преданней сына и защитника Родины, России, чем Тютчев. Он барин, не приученный к труду, ленив, когда надо что-либо менять или натягивать узкие чулки, а между тем, как скажет его дочь, Анна, «с большой лёгкостью и изяществом выражается на нескольких языках», великолепно знает европейскую культуру и историю мира, поцелованный Богом поэт, и не дорожит этим талантом, считает, что на дипломатической службе принесёт большую пользу. Равнодушен к поэтической славе и вместе с тем Тютчев – «отец» символизма, родоначальник целого литературного направления в поэзии, один из величайших мастеров русского стиха, «учитель поэзии для поэтов».
В его стихах ноющая тоска, скорбная ирония, но она не похожа на хандру пресыщенного удовольствиями ловеласа Евгения Онегина, он не отрицает идеалы, как Байрон, он не похож на человека, обманутого жизнью, как Баратынский, далёк от трагического разочарования Лермонтова. Тоска души у Тютчева от разлада его идеалов с окружающей его действительностью. Он иронизирует над сознанием собственного и общечеловеческого бессилия, несостоятельности горделивых попыток разума, но дорожит цельным строем верующей души, побеждающий внутреннее раздвоение.
Понимая всё несовершенство человека вообще и своё в частности, он впадал в тоску и уныние. Самоанализ, самобичевание, суд над собой, постоянное покаяние преследовали поэта так же, как и «жажда» любви. Он страдал от этой неуёмной «жажды» и ничего не мог изменить. Любовь – источник жизни, вдохновения. Но если Печорин быстро охладевал к возлюбленной, то Тютчев влюблялся и любил всю жизнь. Он просто не мог разлюбить даже ушедшую от него женщину. Любил и влюблялся в другую, мучился, понимая, что причиняет боль той, другой, страдал, казня себя. «О, Господи, дай жгучего страдания!» – кричало всё его существо. Но «внутренняя жизнь не напоказ», как сказал Л. Н. Толстой, «суд собственной совести может происходить лишь в молчании». Тютчев был человеком скрытным.
Он эгоист, но окружающие его любят, а жёны боготворят. Иначе, как «любимчик» и «мой боженька», его не называли. У него десять великолепно образованных и воспитанных детей! Две старшие дочери Анна и Дарья, – фрейлины в царской семье, Анна – воспитательница царевича.
Его рассуждения о вере были слишком научны, и в отношении веры он ходил по грани безверия, но страшно страдал от своего колебания.
Он не считал себя поэтом! А внутренний творческий процесс не прекращается ни на секунду. Ходит ли он по Невскому проспекту, беседует ли со встреченным знакомым, неважно.
У Тютчева нет черновиков, он их не пишет. Он вообще не любит писать. Мысли оттачиваются внутри и рождаются готовыми афоризмами, стихами. Удивительными, гениальными. Он рассыпает их экспромтом в беседе и забывает, поражая слушателей точностью и лёгкостью выражений.
Когда заходила речь о его стихах в кругу друзей, недовольно передёргивал плечами, менял тему разговора. Он считал себя политиком, дипломатом, разведчиком, наконец.
Тютчев был человеком скрытным. Печальный, одинокий, как и положено поэту, бродит он долгие часы, окидывая прохожих рассеянным взглядом. Кажется, он влачит тяжкое бремя собственных дарований, «страдает от нестерпимого блеска собственной неугомонной мысли».
Ему за шестьдесят. Теперь он не верит в силу своего слова, не верит, что может «восстановить цепь времён», а именно в этом, как он утверждал, «самая настоятельная потребность моего существа». Те пламенные упования, надежды, на высокое призвание России быть центром славянских государств остались химерой, мечтой. Олегов щит так и не вернулся к вратам Царьграда. Цепь времён не восстанавливалась. Он не смог «поднять на своих плечах весь мир», чтобы спасти Россию, свой народ. Знания будущего – тяжкий груз. Трудно не согнуться.
Вот вы, читатель, когда-нибудь зримо ощущали себя частицей своего народа, чувствовали связь его прошлого и своё будущее?! Знаете своё место в жизни страны?
А Тютчев знал. Знал: только вера может спасти и объединить народ перед нависшей угрозой войн и революций. Он чувствовал нерасторжимую связь со своим знаменитым предком, Захарием Тютьшовым, героем Куликовской битвы, подвиг которого записан Карамзиным в «Истории государства Российского».
Дмитрий Донской посылает его к Мамаю с посольской миссией и наказывает вести себя так, чтобы хан понял: русские уверены в победе. Не страшась ханского гнева, Захарий разрывает данную ханом грамоту с требованием покориться и уезжает. Тонкий дипломат и смелый разведчик, Захарий прознал о готовящемся союзе Мамая с Литвой и Рязанским княжеством и поспешил с этой важной новостью в Москву. Благодаря его разумным действиям живым остался не только он сам, но и его воины.
На примере жизни прапрадеда и был воспитан Фёдор Иванович, поэтому окончил университет – и на службу, как предок-толмач, служить России в дипломатическом корпусе. А стихи? Это не служба, это для души.
22 года жизни за границей. За это время глубочайшее погружение в европейскую культуру, историю и философию, овладение в совершенстве европейскими языками. Он с головой погружён в лекции, в книги. Учится.
Принимает у себя в гостях Гёте и переводит его стихи на русский язык; проводит время в беседах с властителем дум того времени, немецким философом Шеллингом. В спорах с ним оттачивается философский взгляд на природу вещей, на развитие мировой истории. Именно Тютчев уверил его и западных философов, что в России тоже есть свои философы, которых называют любомудрами. Через несколько лет Шеллинг напишет о русском дипломате: «Это превосходный человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь». Служить России – цель жизни Фёдора Ивановича. И, когда понял, что служба за границей не отвечает его цели, он возвращается на Родину. Ему 41 год. Здесь всё заново. С чистого листа.
Он видел постоянные неудачи и ошибки правительства во внешней и внутренней политике России, страшные внутренние неурядицы, всплывавшие на поверхность. Видел, пытался встать на пути мощного потока всеобщего бездумного благодушия и любви к Европе.
Его страшные предсказания сбывались одно за другим, а он ничего не мог изменить, не мог повлиять на ход событий, предотвратить. Общество, которому он объяснял суть злобного отношения европейцев к русскому государству, суть революции, беспечно считало, что Тютчев сгущает краски, что он излишне суров в своих предсказаниях. Высший свет «кипел в бездействии пустом», надеялся, авось пронесёт. А Фёдор Иванович предвидел катастрофу, знал причину бед, кричал о ней: «Не плоть, а дух растлился в наши дни», безверие погубит!
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Не слышат, не хотят услышать его предсказание.
Я сочувственно и растерянно смотрю на метра, на человека-легенду, и не знаю, что сказать. Ведь он счастливчик, «баловень судьбы», «лев» светского общества, которое «находилось под очарованием этого диковинного ума». «Его присутствием оживлялась любая беседа; неистощимо сыпались блёстки его чарующего остроумия; жадно подхватывались окружающими его меткие изречения». Его слова, фразы летели, как камешки в воду: бросал – а круги долго ещё расходились по Петербургу. Светское общество Петербурга гудит: «Вы слышали, что вчера сказал господин Тютчев? Нет? Ну, что Вы! Обязательно приходите на вечер к госпоже Зыбиной. Будет интересно. Приглашён сам господин Тютчев».
Он, наконец, любимец женщин, счастливый муж и отец большой семьи, и вдруг такое уныние, такая неприкрытая вселенская печаль! Не потому ли, что цель жизни – служение Родине, России – не достигнута в той степени, о которой мечталось. Он потерпел поражение, не удалось пробудить у высшего света ни уважение к России, ни к русской культуре.
Не удалось? Но большое видится на расстоянии. Величие Вашего духа в том, что Вы приняли «невидимую власть Времени и Пространства, которые требовали «приподнять на себе целый мир». Вы боролись, вы пытались разбудить сознание высшего общества, или хотя бы пробудить инстинкт самосохранения, а потом поняли:
Напрасный труд! Нет, их не вразумишь! –
Чем либеральней, тем они пошлее!
Цивилизация – для них фетиш,
Но не доступна им её идея.
Жёсткий приговор, но справедливый. А ведь это и о нас, сегодняшних, озабоченно спешащих по Невскому проспекту, говорит Фёдор Иванович из девятнадцатого века. Опять предупреждает, предостерегает.
***
Как же в истории всё повторяется! «Безверием палим и иссушён», скорбит наш «век с молитвой и слезой» «пред замкнутою дверью» и просит смиренно: «Боже мой! Приди на помощь моему безверью!» Повторяются ошибки и в жизни людей, и в политике государств.
И у нас опять великое противостояние Востока и Запада! Вероятно, это никогда не закончится в силу характеров людей, живших на разных полюсах морали и веры. Россия – вечно влюблённая в Запад, и Запад – хищно и вожделенно смотрящий на Россию. Любить Иуду опасно: продаст и предаст. Не верите?
Обращаю внимание на приближающуюся группу во главе с человеком, одетым в бордовый костюм то ли чебурашки, то ли обезьяны. Он шагает, подпрыгивая, жестикулируя, вертясь то в одну, то в другую сторону, что-то рассказывает группе людей. Экскурсия! Мне повезло, всегда приятно услышать что-либо новое, интересное. Правда, какой-то необычный наряд у этого экскурсовода.
Группа подошла к мемориальной доске, и я слышу, как этот чебурашка-экскурсовод говорит:
– И вот Феденька рос, рос и вырос… Помните, как нам преподавали биографии русских писателей в школе? Великий, гений и т. д. и т. п. А теперь я расскажу вам, как оно было на самом деле. Огромная разница.
Он многозначительно поднял руку, спрятанную в потёртой рыжей перчатке, и пообещал многозначительно:
– Я расскажу роман без соплей. То, что было на самом деле.
Феденька ненавидел деревню, рос этаким ленивым барчуком, а потом и вовсе отправляется за границу, якобы служить, а сам через два года женился. У него ведь все женщины – немки, – тут он остановился, поправил или почесал круглое торчащее ухо, ухмыльнулся, будто вспомнив что-то своё, личное, и продолжил, – а немки – они же красивые в жизни. Амалия, Элеонора, Эрнестина, ну и так далее. Ну, там «я встретил вас, и всё былое...» Ну, вот. И тут у него пошли дети!
Его лицо стало серьёзным. Он громко шмыгнул, вытер посиневший нос шерстяной варежкой, потопал на месте и, всплеснув руками, будто воспрял от тяжёлой ноши, и стал рассказывать об интимной жизни поэта, домысливая и смакуя подробности. Он, походя, разбрызгивал лепёшки грязи, указывая на мемориальную доску, выгребал из шкафов поэта всё грязное бельё, полоскал личную жизнь, жуя мельчайшие подробности.
Чебурашка полностью владел аудиторией, покорял её блеском знаний. Слушатели млели и ахали, услышав очередную преподнесённую интимную подробность из биографии такого идеального, знакомого с детства поэта. Смотрели восхищённо на просветителя, а одна восторженная девица даже захлопала в ладоши и не в силах сдержать эмоции, схватила лапу чебурашки и принялась её энергично трясти. Чебурашка сначала стушевался, но, видя одобрение окружающих, удовлетворённый, счастливый, жестикулируя, пританцовывая и кланяясь, вынимал из загажника своей памяти всё новые и новые подробности. Порывы ветра трепали меховые огромные уши, прятали счастливый радостный взгляд. Он блистал.
Я стояла поодаль и молча возмущалась. Так хотелось воскликнуть:
– Без амикошонства, сударь! Без амикошонства! Что за панибратство, что за высокомерное отношение к великим людям?!
Но я сдерживаюсь. Почему? «Напрасный труд! Нет, их не вразумишь! Чем либеральней, тем они пошлее!» Ну, не горят звёзды для тех, кому это не нужно. Как же велико желание этого бесполого существа стать на одну ступеньку развития с Великими! Учить взрослого мальчика воспитанности – зря тратить силы. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». А ведь пора бы русскому образованному человеку, наконец-то, полюбить Россию. Слушаю, чувствуя физическое отвращение. Я, конечно, понимаю, что на морозе может течь из носа, но почему бы это не вытереть носовым платком?
– Ну, вот. А теперь о политике. Вот послушайте.
Читал, листая карманный томик стихов Тютчева со смешком, прерывая стих своими язвительными, не всегда компетентными комментариями.
– Защитить болгар, чехов, всех славян, да, пожалуйста. Защитили! И что?! Мы все знаем теперь, чем они нам ответили.
Опять вытер нос рукавом, шмыгнул громко, без стеснения, потом отвернулся от доски и прочитал быстро, скороговоркою, хвастаясь своей отличной памятью:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать:
В Россию можно только верить.
И добавил, размышляя, но как бы про себя и разводя руками: «И чего здесь не понять?»
От возмущения и брезгливости перехватило дыхание. Что это? Откуда взялось это существо, так ненавидевшее русскую литературу и русских поэтов? Не выдерживаю и кричу, перекрикивая громкие аплодисменты:
– Вы же сами говорили, что при жизни на Фёдора Ивановича не упала даже тень осуждения. Само высшее общество России его не осудило.
Аплодисменты прекратились, и все, недоумевая, посмотрели в мою сторону.
Чебурашка перестал шмыгать носом, бросил недовольный, жёсткий взгляд:
– Вы не из группы?
Поймал утвердительный ответ, радостно подпрыгнул, распахнул лапы в варежках и, неожиданно рассмеявшись, сделал полуоборот, как в танце, на носочках, и тут же, улыбаясь, фамильярно подхватил под руку ближайшую даму и на ходу повелительно бросил через плечо:
– Пройдёмте, товарищи, дальше.
Облитая осуждающими взглядами, я стояла под мемориальной доской гениальному русскому поэту. Обидно. Это же Невский проспект! Колыбель русской культуры! Не у всех такое фонтанирующее чувство юмора, как у меня. Бросаю вслед:
– Странно, что вы ещё прыгаете козликом, и ни один истинно любящий русскую литературу человек не вызвал вас на дуэль. Ваша лекция со шмыганием и недостойной лексикой унижает. Разве о литературе вы говорите?
И тут меня озарило. Он сказал «товарищи»? Конечно, товарищи! Какая же я сегодня недогадливая! Да, вам, товарищи, действительно, есть, за что так тихо, исподтишка, ненавидеть Тютчева. Образование-то вы получили, а вот любить Россию так и не научились.
***
Именно Фёдор Иванович, обладая широким историческим кругозором, первым дал характеристику революции, как всякому историческому явлению. Он писал в статье «Россия и революция», что утрата религиозной веры ведёт к распаду личности, а революция изгоняет из государства религии и заменяет их безверием. Революция – это возможность разнуздать личную волю, чувствовать себя вершителем судеб, воспринимать самоё себя как истину. Революция несёт в себе разрушительный дух отрицания, насилия, деспотизма, освобождение от нравственных идеалов.
Это было сенсационным открытием. Ещё не сложилось революционное учение, ещё Ф. М. Достоевский только входит в литературу со своим романом «Бедные люди» о «маленьком человеке» и ещё не чувствует страшную силу революционной вседозволенности. Ещё Белинский и Некрасов только встретились, подружились, объединившись в отрицании государственных устоев, не понимая сути того, к чему может привести оголтелое революционное отрицание, а Тютчев уже описал революцию, показал её суть, разоблачил внутреннюю логику её процесса, безошибочно предсказал её дальнейшие превращения и последствия.
Вы написали всего три публицистические статьи, из девяти запланированных. Но зато какие! Они и сейчас актуальны, и сейчас кричат, ещё раз объясняя нам, что такое Запад и западная цивилизация.
Статья под названием «Россия и революция», опубликованная в мае 1849 года в Париже в виде брошюры, произвела потрясающее действие на умы не только в Европе, но и в русском обществе. Написана на великолепном французском языке и обращена к европейским властям, по обыкновению тугим на ухо, когда дело касается русской речи. К этому времени Вы восстановлены на службе в министерстве иностранных дел, Вам возвращено звание камергера, получено назначение на должность чиновника особых поручений при государственном канцлере.
Окрылённый успехом и всеобщим вниманием к высказываемым идеям, в этом же 1849 году Вы задумали философский трактат «Россия и Запад». План из девяти статей! Грандиозный. Куда делась меланхолия и уныние?! Стихи? Стихи надо писать, как утверждал Платон в «ФЕДРЕ», в исступлении, без священного безумия нет поэзии. А Вы сейчас поклонник мудрости! А, может, именно сейчас в Вашей судьбе переплелись и мудрость, и экстаз? Может, эта статья была написана так блестяще, потому что ваш творческий тандем с мудрой, образованной женой, как никогда был великолепен?! Вы как раз переехали в дом Лопатина на Невском проспекте у Аничкова моста... (Сейчас на этом доме висит мемориальная доска). Нести, как Вы называли свою жену, читала приходившую из Европы прессу на трёх языках, переводила, если надо, на французский, выделяла главное, что-то просто пересказывала, иногда спорила, давала ценные советы, обсуждая с вами планы будущих статей, но главное – у Вас был самый верный союзник и помощник.
Вот Вы идёте по Невскому проспекту, помахивая тростью, размышляя о католической церкви, о папстве. Только что в кабинете нетерпеливо записали что-то. Это нечто вроде перечня идей, а теперь стоите, облокотившись о перила Аничкова моста, думаете, думаете… Сколько времени проходит? Неважно. Резкий холодный осенний ветер пронизывает насквозь, но Вы не ощущаете холода. Вы пишете. Пишете в уме строки трактата. Удивительно, сегодня нет дождя, только низкое серое небо висит над свинцовой водой Невы. Вокруг городской шум, бурлящая жизнь, и Вы в центре этой жизни. Только так можно жить, только здесь можно творить. Мысли, идеи толпятся так же, как люди, что проходят мимо. Вот вдали приподнимает шляпу Вяземский, друг и поэт. Вы садитесь в сквере на лавочку, и течёт беседа двух друзей.
***
– Нести, Нести, – громко звал жену Фёдор Иванович, рывком открывая дверь в квартиру.
Бросил зонт в прихожей, переминаясь с ноги на ногу и порываясь идти в мокрой одежде, но верный Щука, камердинер, придержал его, раздевая, неторопливо, осторожно, чтобы капли не попали на камзол.
Барин нетерпеливо поворачивался и кричал:
– Котёнок, записывай, быстрее.
Возбуждённо и призывно махая руками, он привычно подставлял ноги для тёплых, мягких тапочек ползающему внизу медлительному длинноногому Щуке.
Февральский мятеж 1848 года настолько сильно возбудил в нём мыслителя, постоянно созерцавшего в своих думах будущие судьбы России, он так ясно увидел в этом восстании причину всех европейских революций, их внутренний сокровенный мировой смысл, что опять нетерпеливо крикнул:
– Понял! Я всё понял, Ненси! Понял! Быстрее.
Завязывая на ходу халат и зная, что жена уже сидит, за столом, он диктовал:
– Уже с давних пор в Европе только две действительные силы, две истинные державы: Россия и революция. Они сошлись лицом к лицу, а завтра, может быть, схватятся. Между той и другою не может быть ни договоров, ни сделок. Что для одной – жизнь, для другой – смерть. От исхода борьбы, когда-либо виданной миром, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества. Современное поколение ещё не осознало ни значения этого противостояния, ни его причин. Оно не в политических соображениях, ни в чисто человеческих. Нет. Противоборство революции с Россией происходит по причинам более глубоким: « Россия, прежде всего, держава христианская; русский народ – христианин. Он христианин по той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же, прежде всего, враг христианства. Антихристианский дух – вот её характер. Антихристианское начало вдохновило на притязание… овладеть человеческим обществом. Эта-то новизна и назвалась в 1789 году Французской революцией.
Его французский был так же великолепен, как и русский. Он говорил быстро, чётко и ясно. Эрнестина Фёдоровна сосредоточенно записывала эти отточенные гениальные фразы, ясные мысли. Их надо немедленно записывать или они безжалостно будут уничтожены ленью этого гениального человека, который так легкомысленно относится к своим талантам. Тютчев не любит писать. Однажды сказал: «Мысль изречённая есть ложь», поэтому ронял драгоценные слова и выражения без сожаления.
– С тех пор, – продолжал он, – революция, несмотря ни на какие метаморфозы, осталась верна своей природе и пышно расцвела, почувствовала себя собою, когда присвоила лозунг христиан: братство. Она прямо приписывает себе вместо духа смирения и самоотречения – в чём самая сущность христианства – дух гордости и преобладания, на место любви, свободной, добровольной – любовь вынужденную, взамен братства. Революция – это политический авантюризм. Она разнообразна до бесконечности в своих степенях и проявлениях, едина и тождественна в своём принципе ...из этого-то принципа и вышла вся настоящая цивилизация Запада...»
Это было открытием, сенсационным открытием. Эрнестина Фёдоровна еле успевает записывать. Глаза и руки устали от напряжения. Немецким она владеет лучше, чем французским. Выжатая, как лимон, она дописывала последние предложения. Статья получается объёмной, а Фёдор Иванович, стоя у окна, ничего не замечает. Ему надо выплеснуть, выговорить как можно скорее то, что он понял, открыл. Иначе забудется, уйдёт. Глядя на голый, неопрятный внутренний двор гостиницы, он диктует статью, которую Эрнестина Федоровна назовёт «Россия и Революция».
« … Я не устаю удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, – кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки – это поток, который течёт легко и свободно...», – делится Эрнестина Фёдоровна с братом в письме:
После открытия Тютчевым сущности Революции смешны притязания усмирить революцию конституционными заклинаниями, обуздать её страшную энергию законами. Революция – это нравственный фактор общественной совести, обличающий внутреннее состояние человеческого духа и оскудение веры. Философ пророчески предостерегал общество от модной западной вседозволенности. Это гибельный путь.
Так вот почему этот чебурашка так рьяно рылся в грязном белье! Товарищу надо самоутвердиться. Произошла революция – нравственный фактор общественной совести, поэтому это бесполое существо прыгает по Невскому, как результат состояние человеческого духа и оскудение веры.
Поэтому изучение творчества Фёдора Ивановича по школьной программе сводилось только к знакомству с лирикой. Его публицистические статьи – под спудом!
Копию статьи Эрнестина Фёдоровна перешлёт в Мюнхен брату, барону Пфеффелю, публицисту и дипломату, который незамедлительно распространит её в мюнхенском дипломатическом кругу.
В следующем году, 1849 году, она будет напечатана в Париже особой брошюрой бароном Бургуаном, бывшим французским посланником при мюнхенском дворе, хорошо знавшим поэта. Эту брошюру он пришлёт в Петербург, правда, под другим названием «Записка, представленная императору Николаю1».
Но это будет позже, а сейчас они вдвоём, в холодном Петербурге.
Довольный и безмятежный, Фёдор Иванович одёрнул полы фрака, улыбнулся, снял очки и протёр глаза.
– Ну, вот, кажется, получилось сказать хорошо. На сегодня – всё. Благодарю тебя, кисонька. Если посчитаешь нужным, поправь. Хорошо?
– Хорошо.
Она подняла голову, но взгляд красивых карих глаз, всегда таких тёплых, ласковых, был почему-то холоден, даже надменен. Фёдор Иванович вздрогнул и спрятал внезапно озябшие руки в карман халата:
– Знает! – мелькнуло в голове. – Конечно, всё знает. Но какая женщина! Ни упрёков, ни сцен!
Он подошёл к жене, встал на колено, нежно взял её руку в свои и, целуя каждый пальчик, приговаривал:
– Ты мой ангел! Спасибо, кисонька, спасибо. Не сердись! Ты же меня знаешь! Я люблю только тебя!
А Нести смотрела на седые уже редевшие невесомые волосы, на самый красивый в мире широкий лоб и приказывала себе:
– Ну, посмотри на него приветливее, улыбнись, как раньше, поцелуй эти упрямые губы, скажи, как он талантлив. Нет, скажи, что он гениален. Ну, что тебе стоит! Ведь ты говорила ему это тысячу раз. Скажи!
Но губы сжимались, взгляд каменел, а голова надменно поднималась выше. Уж очень большой груз обид накопился в сердце за последний год. Как тяжело ей привыкать к чужой стране. Здесь она похожа на увядший пересаженный цветок. Посадили, а поливать и ухаживать некому. Из тёплых солнечных двориков и улиц, украшенных цветами в Германии, её выбросили в грязные гостиничные номера с чужой мебелью. Она задыхалась в этих затхлых тёмных комнатах, как цветок, привезённый ею из Мюнхена. А он ничего не замечал, и для него совершенно неважно: распустится или увянет её неприхотливая герань на подоконнике.
Она опустила голову, касаясь его лба. Нести знала, какого человека она полюбила, но даже в страшном сне ей не снилось, как это тяжко жить с гением.
Заплакал Ванечка. Нести поднялась и спокойно, даже отчуждённо сказала:
– Я думаю, это лишнее. Ты, как всегда, безупречен.
– Господи, какое это ты слово выбрала колючее! – воскликнул отчаянно муж, поднимаясь с колена, обречённо вздыхая, – будто кусок льда с острыми краями!
Рванулся обнять, крепко прижать родного человека, но натолкнулся на ледяной взгляд, опустил виновато глаза:
– Кисонька! Не сердись! Всё будет хорошо! Потерпи немного.
***
Остановить несущееся вихрем в революцию русское общество, объятое всеобщим преклонением, слепой любовью к Западу, он не смог. Это какая-то безрассудная, всепрощающая любовь. Даже инстинкт самосохранения не действует.
Как же Вы нужны нам сейчас, Фёдор Иванович Тютчев! Философ, мыслитель, дипломат, поэт. Нам просто необходим Ваш острый, ироничный ум, Ваше умение видеть в отдельном явлении, в незначительном внешнем событии внутренний, сокровенный, мировой смысл! Уж Вы не молчали бы, слыша, как оскорбляют лучших сынов России или саму Россию!
Что же случилось с европейскими нациями, казнящими своих королей, ломающими привычный уклад жизни своих стран? Только Вы, с Вашим прозорливым философским умом мыслителя могли дать ответ.
Тридцать лет мира и согласия, даже можно сказать влюблённости России в Европу, расслабили страну, которая жила с закрытыми глазами, ничего плохого не желая слышать.
За это время по Европе прокатились революции. Уничтожив свои правительства и внутренних врагов, европейцы искали внешних. Бешеные нападки западных публицистов на Россию вызывали у читателей взрывы восторгов. Ненависть к России усиленно разжигалась. Немецкие публицисты кипели злобой, утверждая, что русское, скифское влияние мешает развитию страны, её конституционному образу правления. Ничто Вас так не раздражало, как угрозы и напрасные обвинения в адрес России со стороны иностранцев. Молчать было невозможно. Вы ринулись в бой. Ваша статья «Россия и Германия» наделала много шума на Западе.
Вы, великолепно зная историю романно-германских народов, их нравы и обычаи, прекрасно владея европейскими языками, доказывали, что «враждебное к России расположение... представляет опасность не для России, конечно, а для самой Германии». Что если Германия лишится поддержки России, то утратит своё единство и политическую независимость.
Впервые раздался твёрдый, мужественный голос русского общественного мнения. Такого европейцы не ожидали от скифов! Вы, с достоинством образованного человека, вежливо и твёрдо написали редактору «Всеобщей аугсбургской газеты» в ответ на брань в немецкой прессе: «Я русский… русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле...»
Вы не промолчали. Как лихо вы поставили на место мнимого защитника России господина Кюстина и его сторонников, сравнив их попытки с зонтиком от дневного зноя над вершиной Монблана!
Нет, господа, Россия вам не по плечу! Такая защита – «новое доказательство умственного бесстыдства и духовного растления». А это отличительная черта сороковых годов Западных стран!
Вы нашли великолепный аргумент в споре: показали Западу его сущность, его лицо. Вы, философ, мыслитель, твёрдо, последовательно осудили в европейцах жажду к разрушению, их безбожие, которое скрыто в них под маскою приличия.
«Умейте же уважать и нашу национальность, – подводите Вы итог, – уважать её в её единстве и силе, и при всех наших недостатках, которыми мы не богаче других».
Статья «Россия и Германия» вышла в Германии в 1844 году, и только потом – в России, в 1873 году. На русское общественное мнение эта статья не произвела никакого впечатления, ничто не поколебало русской влюблённости в Запад, никак не повлияло на умы и отношения. Первая статья прошла незаметной, а круги от второй «Россия и Революция» уже взволновали русскую публику, а третья политическая статья « Римский вопрос и папство» вообще не была напечатана в России ни в подлиннике, ни в переводе, хотя, по мнению читавших её людей на Западе, она самая замечательная и самая блестящая по изложению.
После бури, поднятой в европейской прессе, и русское общество обратило на статьи внимание, заволновалось, откликнулось статьёй Хомякова: она лучшее и единственно дельное, сказанное о Западе. «Статья Тютчева, – пишет, поэт, – заграничной публике не по плечу». Не сможет, мол, Запад стать к самому себе объективнее, но ведь и русское общество обратило внимание на предостережение поэта, и – удивленно зевнуло и махнуло рукой. Статьи «слишком исполнены крайностей, мало любимой «умеренности». Все так привыкли беспрекословно верить в могущество, в силу и непобедимость России, что не обращали внимания на просчёты и ошибки внешней политики. Обаяние Запада пересилило.
И опять всё повторяется! Тогда Вы прекрасно понимали, что Запад не собирался в открытую сражаться с Россией. Для этого есть османская Турция, жаждущая битв. Пусть воюют, а Запад, сохраняя нейтралитет, будет неустанно следить, чтобы война длилась, как можно дольше. Как же всё повторяется, даже в мелочах!
С 1832 года Вы жили с ощущением беды, надвигающейся на Россию. Ваш проницательный ум давно разглядел ненависть и злобу европейской дипломатии к России. В письме к жене Вы пишете: «Россия, по всей вероятности, скоро схватится со всею Европою. … И причиною этого столкновения – не скаредный эгоизм Англии, не гнусная низость Франции, предавшейся авантюристу, – даже и не немцы, а нечто более общее и роковое. Это вечное противоборство друг с другом того, что … приходится называть Западом и Востоком».
Вы с гениальной прозорливостью, даже пророчески, почувствовали неизбежность новой схватки с Западом и встали на защиту Отечества. В письме к жене Эрнестине Фёдоровне Вы писали (23 ноября 1854 года): « Я был, кажется, одним из первых, предвидевших настоящий кризис… В сущности, для России опять начинается 1812 год…».
Да, любовь к России, вера в её будущее, убеждение в её верховном историческом призвании владели Тютчевым могущественно и упорно. Вы первый, и, пожалуй, единственный из русских, живших за границей, не только увидели, предсказали последовательный неминуемый для Европы каскад революций, приближение к России и рост этой страшной революционной эры, но и поняли суть его. Вы были единственным ясновидцем в среде русского светского общества, боготворившего Европу, и защищали Россию своим оружием – словом. Но какая же это неравная схватка: один дипломат, поэт, философ и всё мыслящее общество и России, и Запада! Однажды Вы признались: «...я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения».
Служить под началом лицемерного графа Нессельроде больше не представлялось возможным. Это предчувствие катастрофы отнимало силы, сделало характер ещё более унылым, угрюмым. Когда служба становится бессмысленной, она теряет всякое значение. Изнывая от бесполезности и скуки на службе в Турине, не задумываясь, закрываете на ключ двери посольства, едете в Берн на свидание с баронессой Эрнестиной фон Дёрнберг, урождённой баронессой Пфеффель, венчаетесь и блаженствуете. Июль, нега тепла разлита на всём: на цветах возле каждого домика, на аккуратно подстриженных деревьях вдоль дорог, на неспешно прогуливающихся прохожих и, конечно же, на молодой жене. Счастье бесконечное.
Закрытое на замок русское посольство нисколько не волнует итальянцев. В такие жаркие летние месяцы общество ищет прохлады среди природы, а не на городских улицах. Конечно, служба есть служба, за это ждёт наказание, но это так ничтожно, как укус комара, ведь решение принято давно, и жалеть не о чем. 1 октября 1839 года подписан приказ об освобождении от должности первого секретаря в Турине, а ещё через два года – увольнение из министерства иностранных дел и лишение звания камергера. И только, когда ещё одна попытка быть полезным Родине (повлиять на мировоззрение одного из известнейших тогдашних публицистов и историков Германии Якоба Фальмерайера (1700–1861) была завершена, стало возможным полное возвращение на Родину.
Якоб Фальмерайер, как враг России, был нужен и важен как «союзник». Он постоянно публиковал статьи о проблемах истории и политики Востока. В своих статьях призывал к победоносному проникновению германского, а можно и европейского, духа на Восток.
Конечно, Вы не собирались его перевоспитывать, но вот, выявив его позиции перед лицом правящих кругов России, пробудить в этих кругах сознание той грозной опасности, которая уже давно вызывала в Вас глубочайшую тревогу, было необходимо. К тому же его талантливые исследования содержали не только открытые враждебные выводы, но представляли Россию как могучий самостоятельный мир, имеющий свои собственные интересы и цели. Вы полагали, что на идею о великой и самостоятельной России в трудах иностранца русские правители быстрее обратят внимание. Не получилось.
Вы вернулись в Россию начинать всё заново. Уже через несколько лет Вы вернёте себе должность, звание, но в зените славы. Вашу размеренную семейную жизнь вдруг неожиданно пикой пронзит поздняя страстная любовь к Елене Александровне Денисьевой. Родятся нежные, печальные строки:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Но в этой последней любви Вы просияете и погасните, оставив миру незакатное солнце поэзии.
***
Всего три статьи, всего двести стихотворений, но какие! Гордился ли он своими достижениями в творчестве? Тютчев был равнодушен и к своим открытиям, и к своим стихам. Он пришёл, чтобы сказать, предупредить, а дальше… Имеющий уши – услышит. Считал ли он, статский советник, главный цензор России, себя поэтом? Наверное, да. Ведь он с удовольствием общался с А. А. Фетом, Л. Н. Толстым, И. С. Тургеневым. Нет, скорее, это они искали общения с мудрецом, философом, поэтом. Когда по Петербургу разнеслась весть о болезни Тютчева (с ним случился удар), сам Александр 2, никогда не бывавший у Тютчевых, пожелал навестить поэта, заранее послав к нему человека. Фёдор Иванович, смутившись, тут же ответил посыльному:
– Это приводит в жуткое смущение: будет крайне неделикатно, если я не умру на другой же день после царского посещения.
Такой ответ привёл уже царя в замешательство. Визит был отложен.
Гением его считали ещё при жизни. И кто! – Тургенев, Некрасов, Толстой, Фет.
В России великое множество талантливых людей, «и тем больше славы поколению, породившему таких поэтов, как Пушкин, Тютчев, Фет, и тем больше чести народу, к которому поэт обращается с такими высокими требованиями».
Я с гордостью иду по Невскому проспекту, где почти на каждом фасаде дома висит мемориальная доска, каждое здание – памятник. Где ещё в мире есть такой знаменитый проспект?! Двести лет назад здесь гулял с тросточкой господин Фёдор Иванович Тютчев, здесь рождались гениальные статьи и вирши, достояние России. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды и соответствовать его высоким требованиям.
Эльвира Сапфирова, июнь – ноябрь 2023 г.
г. Краснодар