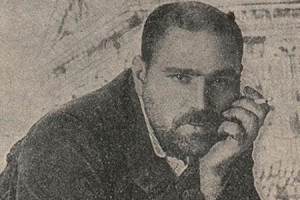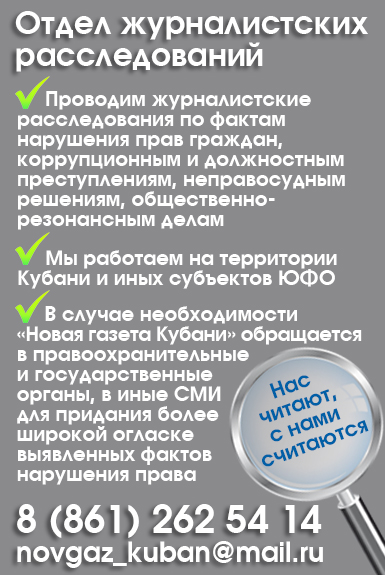Культурный проект «Родная речь»
505
Что самое волнительное и не всегда приятное в студенчестве. Каждый ответит - сессия! Экзамены, зачеты, бессонные ночи, куча книг на столе и под столом, конспекты, паралич нижней части спины от долгосидения в библиотеках и пр.
Вспомни, ты целые полгода ведешь игривый образ жизни, таскаешься по общагам, пьешь пиво, смеешься, вопишь песни под гитару, а иногда и без оной. Если и ходишь на лекции, то со спущенными рукавами. Впитываешь далеко не все и не всегда, что тебе дают твои профессора и кандидаты наук, а потом, сломя череп, и, путаясь в терминах и датах в течение нескольких дней все это догоняешь, и пытаешься набить свой «чердак» огромной массой информации. А она, подлая, не вся усваивается в столь короткий временной промежуток. Многие файлы вываливаются из ящиков, перепутываются, а некоторые и безвозвратно теряются в глобальном пространстве где-то между созвездием Гончих Псов и Андромедой.
А когда же приходит время расплаты, с этим своим «чердаком», опухшими от недосыпа глазами ты приходишь в аудиторию, дрожащим голосом здороваешься с преподавателем, вылавливаешь на его столе «неведомую рыбку» в виде экзаменационного билета и опускаешься в мутную воду подготовительного процесса.
Чтобы выдать какой-нибудь внятный результат тебе дается всего двадцать минут. За это время ты должен найти в извилинах, к примеру, основные этапы Столетней войны, реформы Ван Мана и восстание «Красных бровей» или доказать историческую необходимость Крещения Руси. От волнения у некоторых товарищей забывается даже то, что казалось, сидит в мозгу основательно и незыблемо еще со школьного курса. И тогда становится грустно, и при ответе ты начинаешь нести абсолютную чушь, доселе неведанную и сказочную. Особенно это имело место в первые год - полтора студенчества. Затем становилось проще. Опыт и привыкание делали из первокурсников стоиков и пофигистов. Особенно это касалось мужской половины нашего факультета.
Большинство же девушек с нашего курса так и испытывали жуткие волнения до самого выпуска. Особо впечатлительные метались по коридору вдоль «принимающей» экзамен аудитории и что-то шептали себе в лифчик. Это были либо молитвы, либо маты, либо повтор материала, либо все вместе. А всякого выходившего из кабинета со счастливым лицом «отмучившегося» немедленно окружали и засыпали глупыми вопросами типа: «Что попалось?» или « Правда, что препод – зверь?»
Если вдруг оказывалось, что ты вытащил билет, который та или иная девочка знала на «6», начинались страшные проклятия и «рвание» волос на голове.
Экзамен взбадривал любого, даже самого ленивого студента. Но, после сессии расслабуха чувствовалось на всех курсах и по всем общагам.
Но вернемся к экзаменам. Итак: ты страшно корпел над проскользнувшим мимо тебя материалом в течение семестра, так сказать, догоняя, но наступает экзамен, и ты понимаешь, что знания опережают тебя на целый корпус, и ты не в состоянии до 9 утра преодолеть, запомнить и переварить половину истории средних веков. Ты собираешь волю в кулак и нервно позавтракав, выдвигаешься в направлении университета. «Малое распятие» назначено на 9 утра!
По дороге, на которую тебе отведен целый час, ты не успеваешь ответить толком ни на один вопрос, заданный самому себе. В голове каша из Франкского завоевания Галлии, основных черт раннего феодализма Западной Европы, Фридриха Барбаросса и династии Гогенштауфенов.
Как же с этим справиться, как систематизировать все это знает только ОН! Да и то вряд ли… Черт возьми, надо было ходить на все лекции и семинары, надо было заглядывать в учебник хотя бы за неделю до расплаты. Да, два дня - это все-таки мало!
Да, через четверть века я могу смело признаться, что не являлся прилежным студентом, я даже не был фанатом того или иного раздела истории. Пожалуй, только на первом-втором курсе я думал, что история это наука, и наука серьезная и конкретная, но потом некое разочарование постигло меня. История оказалась набором из бумаги, клея и ножниц. Ее многострадальную можно перекроить по желанию, как угодно. А еще мне ужасно не нравилось, когда при написании любой курсовой или дипломной работы надо было обязательно использовать работы классиков марксизма-ленинизма. Что они думали по этому вопросу? Елы-палы, тоже мне специалисты по всем вопросам. Ну, да ладно, идеология – почти религия.
Так я и учился, не вынимая рук из карманов и цигарки изо рта, но мне было весело.
Я скорее был любопытным наблюдателем, чем студентом, стремившимся приобрести профессию и сделать карьеру. Мне было интересно жить студенческой жизнью, а еще мне было интересно, что из всего этого получится. Идти работать по специальности после окончания я не мечтал. Хотя два с половиной года я отдал родной школе и даже был классным руководителем. Ну, ладно вернемся…
Итак, экзамен, сессия. Надо было что-то с этим делать. Где-то я учил, где-то выезжал на «авось», а где-то мне просто везло, что ли. Иногда мне помогали другие мои таланты, такие как природный юмор, перешедший ко мне по отцовской линии, или недюжинные вокальные данные.
Например: на экзамене по латыни мне пришлось туго. Во-первых, преподаватель «мертвого языка» была женщиной принципиальной, строгой и уж очень недемократичной. Она, наверняка, считала, что латынь важнее, даже чем корпускулярная теория света. Во-вторых, я как это иногда случалось, что-то недоучил, недопонял, недоглядел и недомыслил.
Традиция изучать латынь – дело хорошее, но что-то нам подсказывало, что не очень пригодное в жизни. Конечно, было круто, выучив пару десятков умных фраз классиков античной философии, где-нибудь ляпнуть что-то типа: Quod licet Iovi, non licet bovi или Aquila muscas non captat. Но вот зачем нас мучали грамматикой латыни?!
Так вот, надеясь на Бога, черта и красивые глаза, я поперся на экзамен. Без особого страха с наглой рожей я выбрал билет и сел в уголке готовиться. Первый же вопрос поверг меня в легкий ступор. Так, придется все же что-то отложить на осень. Грамматика для меня – ноль. Афоризмы я знал на 80 процентов. Что делать? Придется петь… Да! Третьим вопросом на всех билетах стоял «Gaudeamus». Помните, песенка такая, гимн студенчества, в которой всем предлагалось возрадоваться и веселиться, что мы собственно и делали. Но так как все поголовно просто рассказывали стихи гимна, я решил, обладая мощным баритоном, спеть это дело, надеясь отсечь все остальные вопросы по грамматике.
Я встал, для пущей важности закатил глаза в потолок и запел:
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jugundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Будучи способным ко всякого рода языковой иностранщине, я супер правильно произносил все латинские слова, особенно те, где звучала буква «G», которую надо было произносить этак с придыханием, так мощно, почти по-кубански. Вот я и выдал. Я пошел на штурм крепости. И что?
Да! Попал в самую точку, вернее в самое сердце. В ее латинское сердце. Будучи скупой на похвалу, и даже на легкую улыбку, маленькая, на вид хрупкая, но жесткая характером женщина-преподаватель все же немного растаяла. Она не улыбнулась, лишь приподняла бровь. Как мне показалось, это означало то самое «да!». А как иначе объяснить мои четыре балла? Ну, ведь, блин, заслужил. Нет разве? Много студентов на экзамене пели?
Так пошли дальше. В процессе учебы мы – небольшая группа юношей-студентов поняли, что экзаменоваться лучше в первой пятерке. Во-первых, многие преподаватели поощряли смелость. Первая пятерка – это же спартанцы, отважные, самоотверженные и дерзкие, а это сразу плюс балл, как минимум. Во-вторых, в период всеобщего дефицита и огромных очередей конца 80-х, начала 90-х, за пивом приходилось стоять уж очень долго, а со свежим была вообще беда. А тут в «пивнушечку» на Таманской «волшебный напиток» привозили в 11 часов. Надо было успеть сдать экзамен и занять очередь. Так что, вперед спартанцы!
Иногда успешной сдаче экзамена или зачета способствовало упомянутое выше чувство юмора. Однажды я сдавал… и в билете был вопрос об Индии середины 19 века. Нашел карту – официальную шпаргалку и пошел. Вроде все было хорошо. Оказалось я что-то помню:
- Завершение завоеваний Ост-Индской компанией Индии. Индия, как сырьевой придаток Англии. 1857 год - начало Сипайского восстания. Кашмирское противостояние и прочее. Итоги восстания. Вроде все.
Я замолк. Преподаватель тоже молчит. А потом как спросит:
- Что там насчет социально-экономического положения?
Ну, я опять про сырьевой придаток и колониальную зависимость. А он, мол, ответ не полный.
- Да что ж такое, - думал я.
- Придаток придатком, - вымолвил тут экзаменатор, - а вот, скажите мне, имела ли Индия свое производство?
Я как-то начал внутренне психовать. Вот пристал. Я так блестяще прошелся по карте и даже вспомнил парочку героев Сипайского восстания, приплел литературного героя Жюля Верна капитана Немо, а тут вот, доп. вопрос. И тут меня дернуло включить дурака. Я и включил.
- Да, - выпалил я с нервом, - производство в Индии было. Бомбы делали в Бомбее, в Бенгалии – бенгальские огни к Новому году, город Мадрас славился производством матрасов.
Глаза моего мучителя округлились, он выдержал паузу, улыбнулся и спросил:
- Ха, а что, по-вашему, делали в Калькутте?
Я среагировал молниеносно:
- Калькуляторы!
Пять мне не поставили, но смеялись мы долго.
Анатолий ЦУКАХИН