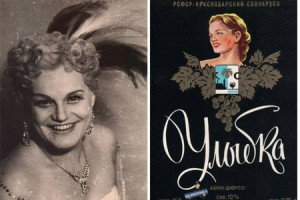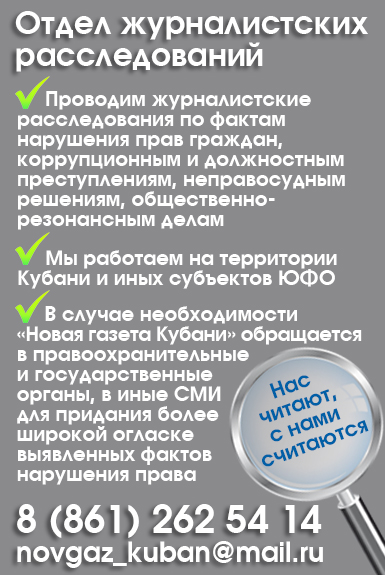Предисловие
2401
Уважаемый читатель, ты держишь небольшую повесть о том, что могло быть, или было, или будет. Мы погрузимся в мир мистификации и возможных сюжетных вариантов. Только все герои, которых мы встретим на страницах, – это реальные люди, прожившие свою жизнь, со своими мечтами и ошибками, с горестями и радостью. Но они же и участники исторического процесса, оставившие на нем свои «зарубки», влияющие на ход истории, иногда плывущие против потока. Но они были в нашей версии Бытия, оставив свой слепок, свой образ, свой modus operandi. Мы же берем на себя смелость сломать привычные схемы восприятия персон, мы моделируем сюжеты, которые не могли никогда случиться. Или могли? Мы вольно оперируем чувствами героев, мыслями и словами, которые никогда не слетели с их уст. Мы даем им возможность сказать то, что мир не услышал от них.
Возможно ли такое? Так мы же на страницах художественного, где-то даже фантастического мира! Но это не значит, что это не могло случиться. В стремительном, разбухающем от информации мире, где господствуют непреклонные суждения всё знающих homo sapiens, мы сдуваем пыль с таких категорий, как Посмертие и Воздаяние, Осознание и Искупление.
Наш главный герой – фигура неоднозначная в истории. Для кого-то достоин понимания и принятия, для кого-то объект проклятий и осуждения. Вячеслав Григорьевич Науменко, кубанский казак, герой Первой мировой войны и участник Гражданской, Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье, сохранивший для потомков войсковые регалии кубанских казаков и сотрудничавший с государственными структурами Германии в период Второй мировой войны. За ворохом официальных регалий и нагромождением ошибок готовы мы увидеть Человека?
***
Дорога... Вдаль, петляя и ощутимо поднимаясь вверх, уходила дорога, пропадая в зыбком мареве далекого горизонта, где вырастала гора. Гора как конец пути, но не конец всему. Чем устлан этот путь?
Солнце стояло в зените, нещадно и неотвратимо низвергая с небес потоки сухого жара, который, казалось, должен был плавить всё вокруг. Но нет, сухим горячим воздухом можно было дышать и даже двигаться сквозь него, преодолевая шаг за шагом хрустящую щебнем дорогу.
Что-то с этим миром было не так. Солнце не спешило укрыться за горизонтом. Оно раз и навсегда заняло место в пронзительной синеве высокого неба, определяя неизбывность дня как времени суток, лета как времени года и времени, не имеющего начала и конца. Время, как и всё сущее в этом мире, не текло, не менялось, не жило. Здесь не жили звуки, здесь жила тишина. Далекая гора на горизонте не становилась ближе, она была все так же далека, но обманчиво досягаема, заставляя шаг за шагом двигаться к ней. Звуки шагов были единственным фактором, нарушающим безмятежность и равнодушие этого мира.
По дороге легким пружинистым шагом шел человек в форме полковника Российской императорской армии, левая рука привычно придерживала шашку, размеренно качались ордена, соперничая с серебряным аксельбантом Академии Генерального штаба.
– Боже, ну и жара! Где я? Как всё это странно! – сказал негромко офицер, осматривая окрестности. – Холмистая полупустыня, сухой жаркий климат, о чем-то таком рассказывал Вася Гамалий. Но как здесь оказался я? – на худощавом волевом лице удивление сменялось недоумением, сосредоточенность и анализ окружающей обстановки толкали человека двигаться дальше по дороге.
– Ну, если есть дорога, значит, уже есть цель! И ведет эта дорога, как мне кажется, вот к той горе, виднеющейся вдали. Если есть дорога, должны быть и люди! Всё прояснится, с Божьей помощью!
По дороге, слегка поскрипывая сапогами и пристально вглядываясь вдаль, уверенно шёл человек в форме полковника Генерального штаба Российской императорской армии образца 1917 года. В миру людского бытия и равнодушно-невозмутимого исторического процесса известный как генерал-майор Генерального штаба Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье Вячеслав Григорьевич Науменко. Шел и вёл диалог с самим собой, не подозревая, что вскоре ему предстоит вести беседы с людьми, которых он никак не ожидает увидеть. С людьми ли? Или душами, посланными встретить путника, отягощенного грузом ошибок, заблуждений и переживаний?
***
– И всё же! На мне мундир, а я всё больше в последнее время в костюме гражданском ходил, ну или в черкеске по торжественным случаям. И в каких я сейчас чинах-званиях? Полковник... Однако... Да и мундир парадный, ордена все в наличии, во всю грудь. Я в таком виде-облике в последний раз-то перед господами сослуживцами представал в ноябре 1917 года, прощаясь перед отъездом с фронта на родную Кубань. А потом-то всё больше форма полевая или черкеска, ставшая чуть ли не единственной формой одежды на долгие годы. Я и костюмы только под конец жизни стал носить, выйдя навсегда в отставку, сложив с себя атаманство. А тут мундир, чудно!
– Да ладно бы мундир, а я сам?! Плечи как будто назад развернулись, в теле ни одна мышца не болит, ни один сустав не скрипит, хе-хе, только сапоги и поскрипывают.
– То ли сон, то ли явь. Два важнейших вопроса: где я и что со мной? И мне бы зеркало какое – глянуть на себя. Так нет ничего, ни озера, ни ручья, ни лужи: ни взглянуть на себя, ни водицы напиться.
Тут атаман поднес к глазам свои руки, а затем провел ими по лицу.
– Такими руками, сильными и крепкими, я шашку держал, ведя сотни в атаку. А ведь я их помню старческими, со вспухшими венами, едва держащими карандаш.
И он погрузился в глубокие размышления, продолжая методично преодолевать дорогу. В небе не было ни облачка, и солнце всё также устремляло к земле свои беспощадные лучи.
– Как у нас в приазовской степи знойным июльским полднем. Так же жарко и тихо. Боже мой, как давно это было! Только у нас можно встретить две-три вербочки на берегу тихого ерика да напиться и искупаться. А тут?
Дорога вильнула, и за её изгибом открылась картина, заставившая нашего путника остановиться, а затем с возгласом броситься вперед.
– Саша! Сашка! Братец! Ты? Но как?
Чуть в стороне дороги на брошенном на землю кавалерийском седле сидел казачий подъесаул. Красивое благородное лицо было задумчиво, глаза спокойно вглядывались в дорогу, словно ожидая кого-то. Он неспешно жевал травинку, и весь его облик как нельзя лучше соответствовал безмолвной пустоте этого места. Увидев брата, Александр Науменко оживился, лицо озарилось улыбкой. Поднявшись с седла, на котором, очевидно, ожидал старшего брата, он раскрыл руки в объятиях.
(Иллюстрация 01_Брат Александр)
– Слава! Возмужал- то как, брат!
Братья, обнявшись, хлопали друг друга по плечам, вглядывались в лица друг друга.
– Саша! Но как же... Тебя же...
– Да, Слава... я ушел... в 1916 году, ты же помнишь... На турецком фронте, а ты тогда воевал с немцами. Но это уже не важно. Уже не важно. Ни для меня, ни для тебя. – Произнеся эти слова, Александр Науменко задумчиво глянул в глаза брату Вячеславу, а затем продолжил:
– Сначала, конечно, наше личностное эго сопротивляется, отголоски былого человеческого сознания бунтуют, не в силах согласиться с данностью. Но потом... потом всё встает на свои места. Вот и я сначала жалел о несбывшемся, о непрожитом, о неслучившемся... Мне так и не удалось погеройствовать на войне. А у тебя вон, смотрю, полный набор орденов на груди! Орел! Потом эта ваша революция, да и не только. И всё без меня! Но всё пустое! Только здесь познаешь, что есть суета земная, и что есть вечность.
– Ты изменился, брат! – сказал с легкой печалью полковник Генерального Штаба. – Стал философом. Но ты мне скажи, здесь – это где? Где мы? Я-то понять ничего не могу. Место странное, как будто мертвое. Ни зверя, ни птицы в небе, облачка какого, и то по небу не гонит ветром. Да и сам я... Я ведь помню всё, жизнь свою долгую да извилистую, не приведи Господи! Как старел да болел, уж под конец и карандаш не мог в руке держать. А сейчас? Я не ощущаю груза прожитых лет, я снова молод и силен! Не то что карандаш, шашкой могу крутить-вертеть как в былые времена! Где мы? Что со мной, братец? Я умер? Да и ты... Я уж давно свыкся с мыслью, что нет тебя, ты уж прости.
– Не извиняйся, брат, пустое. Я бы и сам диву давался на твоем месте. Что же до тебя... Не печалься по поводу случившегося с тобой. Все мы уходим, рано или поздно... Только смерть Там это еще не Конец всего, это нечто другое. А что до того, где мы есть, так это сразу и не объяснить. Место сие имеет разные толкования, которые опять-таки зависят от многих причин. Как человек себя ощущает, так и место это ему видится. Какую жизнь прожил, какой груз на плечах несет. Это Преддверие... Преддверие дальнейшего бытия или небытия. Место Ожидания.
– Ожидание чего, Саша? Да и как ожидать, если надо идти? Дорога, дорога, которая неумолимо увлекает вперед, и нет сил этому противиться!
– Ожидание, Слава, Суда. Ожидание своей дальнейшей судьбы, а вернее своей участи. Судьба у нас у всех была Там... У каждого своя. А здесь Суд и Участь, по делам нашим. Вот так, брат. А что касается дороги – так разве дорога не является ожиданием? Ожиданием того, что откроется за ее изгибом? Ожиданием того, куда она приведет? И у каждого своя дорога... Твоя-то дорога, я смотрю, Слава, нелегка.
– И то, правда, Саша, тяжела дорога. Только казачья закваска наша да фамильное упрямство и ведут меня все дальше и выше, но ты же знаешь – мы никогда не сдаемся!
– Дорога твоя, Слава, это твоя жизнь, и отражение твоей жизни, и своего рода воздаяние за твою жизнь. Видно, не простую жизнь тебе пришлось прожить, брат. Моя была иной. Ровной да гладкой, как укатанный степной шлях летом. А вокруг травы, ветром волнуемые, по пояс, как у нас в степи за станицей. Так, по правде сказать, и жизнь моя была не долгой, да и тяготами не обремененной. Не успел я ни нагрешить, ни врага лютого шашкой погонять, всё, видно, тебе пришлось на себя взять.
– Так оно вишь как поворачивается, брат. Мы-то думаем, что все по правде делаем – и живем, и любим, и серчаем, если есть на кого. А правду ту только Господь получается и различает – правда она аль нет. Или грех очередной на плечи свои взваливаем. А он-то, грех наш, поначалу и невелик-то, – так, грешок невесомый, легок и незаметен. Только как в мешок заплечный судьбы нашей, матушки, попадет пушинка сия греховная, так ядром чугунным воздаяния и оборачивается. И мотает потом нас эта тяжесть согбенная из стороны в сторону по пути жизненному, вот как меня сейчас по пути-дороженьке этой пыльной да безрадостной. Смолоду-то решения легко даются: обидеть кого, за правду постояв, иль рубить с плеча за ту же правду-матушку хоть шашкой, хоть словом. Да и искушению поддаться куда как незаметно можно – гордыни ли своей, тщеславию ли иль похоти мимолетной, все едино. Обличий и одежд у греха нашего множество, и всё один к одному копится. А в годах зрелых, да при должности, закостенев в непримиримости своей и принципах якобы истинных, уже и не можем жить просто, без надрыва, да чтобы рубаху не рвать на груди исступленно. А следовательно, и копилка наша греховная копится, и дорожка судьбоносная вьется заковыристо, спотыкаявшись. Так-то, брат Сашенька! А то, что не великой мерой тебе отмерено было земного-грешного, так ты не печалься, Сашко. Жизнь, она, братец, только в юности ранней яркая и блестящая, а с годами все тусклее и грязнее, будучи забрызганной кровушкой да замаранной ненавистью нашей клокочущей.
– Так все плохо было, Слава? А как же мечты наши? О любви, о подвигах и победах? Свои-то мечты я с собой забрал, да и выцвели они здесь, так и не реализовавшись. Но ты вон, аж целым атаманом стал! И как вы тогда, такие орлы-герои, Кубань нашу красавицу да Рассеюшку потеряли? Расскажи мне, братец, бо невдомек мне такое, не прожив, не прочувствовав.
– Эх, Саша-Саща! Как потеряли всё, и сами не сразу уразумели-поняли... Мутно всё было в годы те лихие переломные, муторно и гадко... То, что веяло переменами неизбежными, так еще при тебе ощущалось и предчувствовалось. Разговоры наши помнишь? Из довоенного времени все по-другому виделось нам. Император казался незыблемым, как сама Россия, хотя цивилизации и порядку нам хотелось как в «европах», да и к власти приблизиться, а не всю жизнь «во фрунт» тянуться. Опять же работа Государственной Думы раззадорила нас, своя казачья фракция у нас там была. Бардиж Кондрат Лукич, уже в 1917 году, когда все закрутилось-завертелось, представлял на Кубани Временное правительство, этого пустобреха, прости Господи, Керенского. Не повезло ему крепко, с сыновьями – постреляли их большевики ни за что. Как, впрочем, и многих других казаков.
– Как же так? Как допустили такое?
– К самому концу 1917 года все резко изменилось. Жизнь понесло, как неуправляемую бричку по разухабистой дороге. Все эти надежды, размыто-наивные, свободой приправленные, быстро рассеялись. Никто и подумать не мог, что это война… война своих со своими… А уже стреляли и рубили нашего брата, особенно офицеров. Вот и Бардижы сгинули, как и многие другие. Это на фронте понятно было – вон он враг в перекрестье прицела, турок-басурманин иль немец педантичный. А здесь… всё смешалось. Вчерашний станичник али однополчанин мог оказаться злее ворога иноземного.
И нашей семьи сие коснулось. Брата нашего двоюродного, Женю Науменко, дяди Кости сына помнишь? Так вот, попросил я его съездить в станицу нашу и привести мне кобылицу мою, Ракету. Сам-то я из Екатеринодара вырваться не мог. Февраль 1918 года, большевики поджимают, вокруг разброд и неразбериха, на фронте и то легче было. И вот уже когда Женька назад возвращался, под станицей Анастасиевской зарубили его красные. Ракета после этого досталась какому-то комиссару, а при Таманском восстании комиссар тот был казаками ликвидирован, а кобылу они доставили в станицу батюшке нашему. Так сестрица наша Сонечка потом все меня винила в смерти Евгения.
Что случилось, то случилось. Может, и этот камушек добавился в суму грехов моих. Потом много всего было… нехорошего, что и вспоминать не хочется. А тогда, пережив неудачи первой половины 1918 года, мы воспрянули, зигзаг удачи вернулся к нам. Казачки наши, хлебнув обещанной милости комиссарской, потянулись к Антону Ивановичу Деникину, под чьей властью находились и войска Кубанского войскового правительства. Отбили у большевиков Екатеринодар, как и всю Кубань. Только недолго удача с нами была. Нас раздирали изнутри политические склоки, фронт трещал из-за дезертирства, людьми овладели жесточайшее разочарование и ненависть. Ненависть к большевикам, к жестокой эпохе, к жизни, которая рушится. Ненависть стала править миром. Только нам она не помогла, как видишь, – горестно вздохнув, старший брат Науменко немного помолчал, а затем продолжил:
– Весной 1920 года выпихнули большевики нас с Кубани, потом Крым, но и там не удержались. После Крыма-то еще угар борьбы был, а потом… закончилась наша Россия и Кубань вместе с ней. Только понять мы этого долго не могли… Всё надеялись, ждали. Сначала – что рухнет Совдепия, потом союзничков высматривали… Эх, все прахом… И Россия, и жизнь, и мечты…
Повисло молчание. По лицу полковника ходили желваки. Но нет, ничего не сверкнуло предательски в глазах. Все давно высушило в бессонные ночи долгой жизни.
– Да, Слава, видно груз пережитого несешь на себе немалый. Ну, так значит, уготовано было тебе так свыше – идти долгой дорогой жизненной, где-то напролом, а где-то и заблуждаясь. Иди, брат, твоя дорога ждет тебя!
Стоящие напротив братья долго вглядывались в лица друг друга, затем крепко обнялись. Старший, Вячеслав, развернувшись, двинулся дальше по кажущейся бесконечной дороге. А на ее изгибе медленно истаивал силуэт подъесаула Александра Григорьевича Науменко, не вернувшегося с Турецкого фронта в 1916 году, но по какой-то закономерности встретившегося своему брату Вячеславу Григорьевича Науменко на его последней дороге.
***
Камни в дорожной пыли всё так же хрустели под сапогами полковника Генерального Штаба Науменко, а равнодушное и вечное солнце заливало всё окрест зноем. Однако он не замечал неудобств окружающей обстановки. Отрешенное, задумчивое выражение лица свидетельствовало о глубоких раздумьях, в которые был погружен путник. Он вел молчаливый диалог – с братом ли Александром, которого не видел жизнь, с самим собой или своей судьбой.
– Саша, Саша, надо же, как… Жизнь целую прожил без тебя и свыкся давно с мыслью, что нет тебя… А ты… Как будто вчера расстались…
– Что я могу тебе рассказать, брат? Как отрекся от нас государь-император в феврале 1917 года? И рухнул мир наш, покатившись под откос. Вот тогда-то мы и потеряли Россию нашу матушку, только сами еще не осознавали этого. И даже шанс поначалу углядели в этом, самостоятельность да свободу казачью возвернуть. Не для всех, правда, чего уж там, а только для «панов», как говорили у нас в станице. Власти мы хотели, власти, вот в чем вопрос. И вот за всей возней этой за власть призрачную и некогда было Россию спасать. Да и себя не все спасли. Бардижей вот, и отца и сыновей постреляли красные, когда мы, не зная куда бежать, метались по Кубани в феврале 1918 года. А Рябовола с Кулабуховым сами и приговорили, разойдясь в понимании политического вопроса. Эх, грехи наши тяжкие… И ведь сколько лет еще, да что там лет, десятилетий, были как чумные. Все больше черствея в ненависти, ища врагов среди своих и чужих. А так и не поняли, что Россию мы потеряли раз и навсегда еще в 1917 году.
Вот так рассуждал в своем внутреннем монологе генерал-майор Генерального штаба императорской армии Российской империи, Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье Вячеслав Григорьевич Науменко, которому для осознания своих заблуждений и ошибок понадобилось прожить долгую жизнь и, лишь шагнув в Посмертие, суметь их понять и принять.