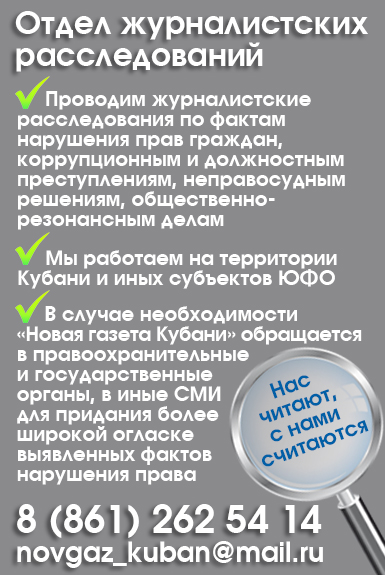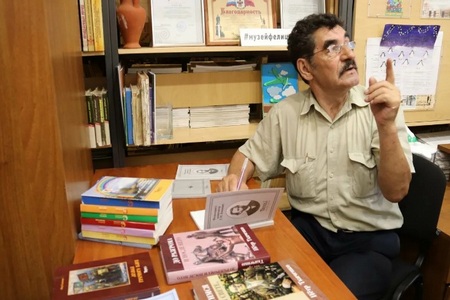
Культурный проект «Родная речь»
603
Статья «Словарь тревоги нашей» («Литературная газета», № 38, 2025 г.) доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника отдела лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Людмилы Кругликовой не может не взволновать и не привлечь самого пристального внимания не только широкого круга специалистов, работающих со словом, с языком – лингвистов, филологов, литераторов, писателей, журналистов, педагогов, но и всего общества. Не может потому, что описанная лингвистом ситуация с изданием толковых словарей русского языка, длящаяся уже довольно долго, кажется, беспрецедентной. В том смысле, что из практики издания словарей русского языка что-то не припоминается случая, чтобы выходил словарь языка, и при этом не указывалось, словарём какого именно языка он является…
Никакой дискуссии, никаких прений она не предполагает. Не станем же мы спорить о языке со специалистами из других областей знаний, к языку не имеющих отношения. Или опровергать оспаривание канонических, аксиомных положений, не подлежащих сомнению и пересмотру ни при каких обстоятельствах. Скорее, она требует срочного вмешательства властных структур, для исправления такого положения, когда в основу издания словарей русского языка закладываются вненаучные, догматические принципы, искажающие общую картину русского литературного языка, а значит, нашей общественной жизни… Тем более, что подобное мы уже неоднократно переживали, о чём писал, к примеру, поэт В. Ходасевич: «Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни» («Некрополь», Париж, 1939 г.). А это потребует пересмотра и некоторых нормативных актов о языке.
Напомню, что поводом для такого жёсткого и вместе с тем обстоятельного, с точки зрения научной безупречного выступления лингвиста, стало создание информационной системы «Национальный словарный фонд» (НСФ), которая должна заработать в конце нынешнего года. Не надо быть ни лингвистом, ни филологом, а просто внимательным читателем, чтобы заметить неполноту названия НСФ, не указывающего какого языка этот словарный фонд является, умалчивающего о том, что это фонд русского языка. А между тем, название НСФ содержит в себе концепцию, определяющую в дальнейшем политику издания толковых словарей русского языка.
Признаться, статья Людмилы Кругликовой читается как некий лингвистический детектив, сюжет и цель которого очевидны. Они заданы уже НСФ, предпринятой вовсе не лингвистами: во что бы то ни стало сделать так, чтобы вместо толкового словаря русского языка издавался словарь государственного языка. И если иные словари ещё назывались – «русского языка как государственного», то словарь Санкт-Петербургского Государственного университета уже называется – «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации», без указания того, что он является словарём русского языка. Но русский литературный нормативный язык уже является государственным, и никаких иных подтверждений этого не требуется. В предпринятой же акции, под предлогом подтверждения государственности языка, закладываются совсем иные, неязыковые догматы. Составление и издание словаря языка без указания какого именно языка, – это нечто, находящееся не только за пределами лингвистической науки, но и за пределами объективности, логики, здравого смысла, с явным душком русофобии… До такой подмены понятий, кажется, не доходили даже вульгарные социологисты тридцатых годов миновавшего века.
Кстати, этот петербургский словарь представляет собой чуть изменённый, подготовленный сотрудниками Института лингвистических исследований РАН и впервые изданный в 1998 году – «Большой толковый словарь русского языка», но уже с изменённым названием: вместо русского языка, – государственного… Поражает то, что это сделано юристами, призванными стоять на страже права и закона.
Приходится напоминать, что литературный язык, не тождественный языку художественной литературы, – это высшее проявление общенародного, национального языка, признанного в качестве эталона, который обслуживает все сферы человеческого общения. Он отличается обязательной нормативностью, универсальностью в том смысле, что является достоянием вне зависимости от региона, гибкостью, то есть использованием во всех областях жизни, ну и, конечно, отражающего традицию, историю и культуру народа. Это общий язык письменности народа. Без разделения его по роду деятельности и социальному статусу. Понятие же государственный язык – отражает лишь сферу его применения и использования, в котором нет лингвистической составляющей. Это – разные понятия, которые не могут сопоставляться и, уж тем более, подменяться один другим, как предлагается теперь НСФ. Но если это, вопреки всему, всё-таки делается, то это, извините, напоминает мошенничество, уже довольно распространённое в нашем обществе… К тому же государственного языка как такового, без его лингвистической сущности, не существует. Оказывается, что и в такой сугубо научной, языковой области может быть мошенничество. Если и не умышленное, то всё-таки оно. Ну а как же иначе назвать всё это, когда ясное, не подлежащее сомнению понятие, подменяется ложным, к науке не имеющем отношения? Тут никакая толерантность не поможет. А может быть, именно здесь, в духовно-мировоззренческой сфере оно в первую очередь и зарождается, а потом уже охватывает все другие стороны жизни.
Детективность ситуации подтверждается тем, что словари государственного языка делаются тайно: «О работе над «Словарём иностранных слов» в нашем институте (то есть, в Институте лингвистических исследований РАН – П.Т.) знал очень ограниченный круг лиц. Сейчас также тайно ведётся работа над синонимическим и фразеологическим словарями, причём, отнюдь не специалистами в этой области. Коллегам из СПбГУ тоже не было известно о создании в университете «Толкового словаря государственного языка». Как можно утверждать словари для «Национального словарного фонда», не известные общественности, не апробированные? Авторы и рецензенты в этих словарях не указаны. Получается, что никто не несёт персональной ответственности» (Л. Кругликова). Тайно ведь совершаются только дела неблаговидные, скажем, теракты… Детективность ситуации подтверждается и тем, что словари составлялись спешно, что такому роду деятельности вообще противопоказано. И главное – они составляются не специалистами в области языка, не лингвистами, а юристами. Удивляет и то, что отобраны и утверждены для НСФ всего четыре словаря, в то время как лингвистами были отобраны и оцифрованы 33 лучших словаря. А «Большой академический словарь русского языка», самый авторитетный среди толковых словарей, оказался неутверждённым, хотя уже вышло с 2004 года 28 его томов из 35. Это ведь невозможно назвать некой оплошностью или недосмотром…
Вопрос о том, кому это выгодно – «их создателям и издателям» – остаётся риторическим, так как они лишь исполнители этого странного проекта. Выгодно тем, кто стремится подменить словари русского языка словарями государственного языка. А они могут находиться не только в среде составителей и издателей.
Ну и следует напомнить, что «проблемы» с изданием словарей русского языка начались с преобразований, когда Совет по русскому языку при правительстве (2013 г.) был заменён Правительственной комиссией, которой были вменены задачи, ей не свойственные, не организационные, а языковые. И тем самым от участия в столь важном и большом деле создания толкового словаря русского языка были, по сути, исключены специалисты по языку.
Всё это говорит о том, что борьба за наш суверенитет, за наше народное и государственное выживание сегодня ведётся не только на фронтах СВО, но и во всех сферах общественной жизни, и прежде всего в духовно-мировоззренческой, ибо в начале было слово. И какой фронт для нас может оказаться более уязвимым – пока большой вопрос…
И поскольку язык является не только средством коммуникации, но и выражением духовной природы человека и народа, предпринятая акция с неназыванием русского языка, слишком уж напоминает извечное всемирное вавилонское строительство, которое, изменяя формы, сопровождает человечество во всю его историю. Это нарушение «закона диалектического дробления и неизбежной множественности национальных культур», о котором писал Н.С. Трубецкой, ибо «попытка уничтожить национальное многообразие привела бы к культурному оскудению и гибели» («История. Культура. Язык», М., «Прогресс» «Универс», 1995 г.).
О «русской речи», о «великом русском слове» не только как о средстве коммуникации, но как о крепости духа, непременном условии мужества и победы писала Анна Ахматова в стихотворении «Мужество», созданном в феврале 1942 года:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Как видим, поэт в утрате языка понимала бедствие большее, чем даже смерть отдельного человека и лишение родного крова… Неужто составители словарей государственного языка, а не русского не знают о том, что у нас сегодня «лежит на весах», неужто не ведают, что «совершается ныне» у нас в России? Не могут не знать. Не имеют права не знать. Но в таком случае, как можно точно назвать их бурную, спешную и потаённую деятельность? Ну а «юристам», дерзающим заменить словари русского языка словарями государственного языка, можно сказать строками из стихотворения Ярослава Смелякова «Русский язык»: «Владыки и те исчезали/ мгновенно и наверняка,/ когда невзначай посягали/ на русскую суть языка». «Невзначай», то есть, может быть, и из самых добрых побуждений и вполне искренне, что не меняет сути дела.
Пётр Ткаченко, литературный критик, составитель первого словаря кубанского диалекта «Кубанский говор. Балакачка».
Свежее из рубрики