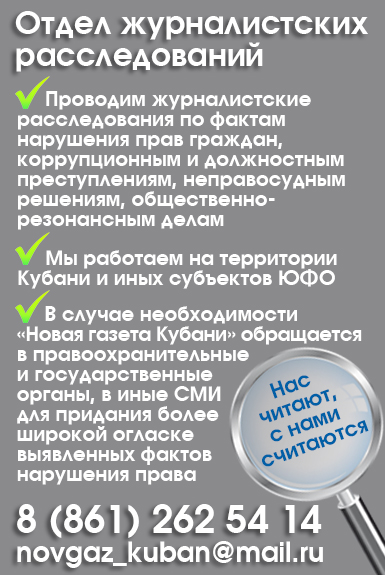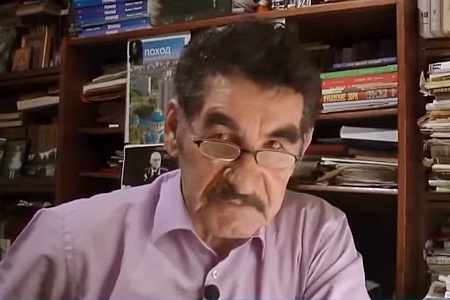
История с историей кубанского казачества
891
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3
В октябре 1894 года Городская дума приняла решение об отводе земли, на Крепостной площади, для установления памятника Екатерине II. Видя, что дело с памятником всё же не продвигается, скульптор пытается воздействовать на общественное сознание иными способами. Так в мае 1894 года он передаёт в дар Кубанскому казачьему войску пятьсот экземпляров изображённых и изданных им икон просветителей-славян, братьев Кирилла и Мефодия. Иконы были освящены петербургским митрополитом Исидором и, согласно желанию академика, предназначались для распространения по всем учебным заведениям города и области, а также «в хату той станицы, которая, – как писал скульптор, – примет меня Михайлу Нэчосу, своим соказаком».
Он составляет описание будущего памятника и издаёт его отдельной брошюрой. Так он пытался ускорить сооружение памятника, застопорившееся по непонятным причинам. В одном из писем атаману Я.Д. Маламе, он называет свой памятник злосчастным… Может быть скульптора озадачило то, как на Кубани, в Екатеринодаре был отмечен столетний юбилей переселения черноморцев, столетний юбилей войска, к которому-то и было приурочено сооружение памятника. Событие для области огромной важности, к которому готовились заранее, оказалось… по сути просмотренным… Вряд ли это можно считать каким-то досадным недосмотром или чиновничьим попустительством, ибо мероприятия такого характера организуются и проводятся властью, а не возникают в народе стихийно. В последовательности событий чётко угадывается некая режиссура… В этом нет никакого сомнения. Попытаемся указать на её признаки: «…И много разных иных событий произошло в Екатеринодаре в этом году. Одни в сиюминутности были забыты сразу же и не оставили о себе следа, другие, став «фактом истории», уходили в небытие постепенно, с тем, чтобы когда-нибудь объявиться новому поколению горожан, как находка краеведа или открытие учёного. Но в том круге городской жизни, как ни странно, оказалось на обочине и событие знаменательное, представлявшее в истории города крупную веху, – его 100-летие» («Екатеринодар – Краснодар. Материалы к Летописи». Краснодарское книжное издательство. 1993 г.).
Историк П.П. Короленко в связи с этим писал: «1893 год прошёл почти незамеченным, не оставив после себя памятника истории города. Таким образом, тот труд, который теперь сравнительно легко выполнить, завещается нами потомству. Затеряются, пожалуй, некоторые документы, сойдут со сцены старожилы, и в конце концов придётся догадываться о многом из того, что теперь без труда может быть выяснено».
Да, действительно странно, что главное событие в жизни войска и области, к которому готовились, в связи с чем замыслили сооружение грандиозного памятника, оказалось «на обочине». Тут просматривается очень важная взаимосвязь для понимания смысла случившегося: юбилея «не заметил» город, и это попущение распространилось на всю область. То есть, преобладающей оказалась позиция города, который давно уже считался неказачьим.
Примечательна попытка вскрыть причины такого, действительно странного положения: «Трудно ныне судить о том, почему бывший войсковой град, переживший в 90-е г. ХIХ в. пору расцвета, почти не вспомнил о своём юбилее. Возможно сыграли какую-то роль и обновление его населения после 1867 г. и начавшаяся в это время подготовка к более масштабному торжеству – 200-летию Кубанского казачьего войска». Ведь был изменён статус города – из войскового он становился гражданским, согласно которому, казачье население вытеснялось на периферию… А собственно, почему? Казаки, освоившие край и выстроившие свой город оказались как бы и ни к чему, как своё трудное дело освоения края и защиты его сделавшие…
Но откуда и с какой стати всплыла вдруг, выскочила, как чёрт из табакерки, другая дата – 200-летие войска и действительно ли она являлась «более масштабным торжеством»? В исчисление юбилейной даты войска, именно во время подготовки его к своему 100-летию, как уже сказано, вмешалось военное ведомство. Естественно недоумение краеведа Евгения Хорошенко, справедливо писавшего о такой неожиданной перемене юбилеев: «А местное начальство, по рекомендации военного министра, вместо столетней годовщины переселения на Кубань бывших запорожцев, решило отметить 200-летие Кубанского войска по старшинству от Хопёрского полка, вошедшего в состав Кубанского войска, торжественно заложив фундамент будущего памятника» («Кубанский курьер», 8 апреля 1993 г.). Самое любопытное состоит в том, что речь идёт о фундаменте памятника Екатерине II. То есть, в ходе празднования 200-летия, вместо 100-летия, заложили фундамент памятника Екатерине, отметив это на закладной надписи: «Памятник Екатерине II заложен в городе Екатеринодаре при праздновании 200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска, сентября 9 дня 1896 года…». Словно это 200-летие имело какое-то отношение к Императрице.
Но даже военные понимали всю несостоятельность, нелепость и неоправданность такого исчисления истории Кубанского казачьего войска и вытекающей из него подмены одного юбилея другим. В том же издании военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа «Памятники времени» отмечалось: «Но хопёрские казаки появляются собственно на Кубани лишь с 1825 года и входят в Кубанское войско только как одна из его составных частей; настоящим же корнем его послужила старая Запорожская Сечь, появившаяся на нижней Кубани ещё в царствование Екатерины Второй, в 1792 году под именем верного Черноморского войска. С тех пор черноморцы, свято хранившие заветы старины, жили своею обособленною характерною жизнью вплоть до 1860 года, когда с учреждением на Северном Кавказе Кубанской и Терской областей, к ним были присоединены ещё линейные казачьи полки».
Странно, как могли многоопытные администраторы тогда и нынешние историки теперь, запутаться в исчислении истории войска, если скульптор М.О. Микешин, изучая его историю, сразу же определил очевидный, не подлежащий никакому сомнению факт: «История Кубанского войска начинается с того времени, когда Императрица Екатерина своим самодержавным словом призвала запорожцев к новой жизни».
Противоборство памятников
Таким образом, закладка фундамента памятника Екатерине II при праздновании 200-летия войска дала повод считать, что величественный памятник имеет какое-то отношение к этому надуманному юбилею. Подмена была совершена… Причём, не только в датах, но и в самих памятниках. Столетний юбилей переселения черноморцев, обретение ими земли на вечные времена и 200-летие войска, исчисленное по старшинству от Хопёрского полка, даты столь разнохарактерные и разномасштабные, что даже их простое сопоставление ничем не оправдано. Но государственное оказалось подменённым ведомственным.
Но для того, чтобы совершить эту подмену с датами, надо было «не заметить» столь ожидаемого столетнего юбилея переселения черноморцев на Кубань. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, главное оказалось утопленным во второстепенном, отвлекающем внимание от основного. Завязывается мало что значащая дискуссия по какому-нибудь вопросу не дискуссионному. Так было и в нашем случае.
«Забывается» грандиозное событие – столетие войска, но разгорается дискуссия об уточнении дат основания города, хотя понятно, что такое событие не может быть точечным, а стало быть, и спорить собственно не о чём. Но главное состояло в том, что речь идёт уже не о войске, а всего лишь, о городе. А о том, что дату решено отметить установлением грандиозного памятника Екатерине II в этой «дискуссии» и вовсе не упоминается. Так смещаются смыслы, в результате которых получается нечто совсем иное, чем предполагалось. В нашем случае оказались ничем не отмеченными, вовсе проигнорированными столетние юбилеи и войска, и города. И никому, кажется, в голову не приходило, что не может быть одновременно столетия города и двухсотлетия войска, так как это составляющие одного и того же грандиозного события – водворение верных черноморцев на берега Кубани.
16 октября 1893 г. в «Кубанских областных ведомостях» появилась статья Е.Д. Фелицына «По поводу столетия со дня основания города Екатеринодара». Уже не войска, а города. Автор, дискутируя с другими исследователями – И.И. Дмитренко, И. Бентковским, обосновывал свою точку зрения на вопрос о дате основания города. Если И.И. Дмитренко полагал таковой 9 июня 1793 г., когда черноморские казаки, остановившись в Карасунском Куте, приняли решение построить «войсковой град», а И. Бентковский отмечал, что название «Екатеринодар» появилось в официальных бумагах с 1 декабря 1793 г., то, по мнению Е.Д. Фелицына, днём основания города следовало считать 18 сентября 1794 г., когда было произведено его размежевание по плану. Тем не менее, всеми признавалось, что «местность при Карасунском Куте стала заселяться немедленно по прибытию туда черноморцев…». Лишь дискуссии историков ознаменовали столетний юбилей Екатеринодара и войска. Официально эта дата не отмечалась, не было юбилейных изданий.
А причина такой «забывчивости» просматривалась. И состояла она в том, что городу не особенно хотелось чествовать и казачество, и Императрицу Екатерину Великую, не особенно хотелось выпячивать столь очевидный символ русской государственности.
Но поскольку, столетие войска – дата действительно знаменательная и игнорировать её совсем уж было невозможно, то нужен был некий отвлекающий смысловой повод. И он вдруг нашёлся: исчисление истории Кубанского войска по старшинству от Хопёрского полка, видимо, в расчёте на психологическое восприятие – чем длиннее история, тем мол, лучше, хотя этносам так же, как и людям, пристало гордиться своей молодостью, а не старостью. Всё остальное должно быть утоплено в высокопарной патриотической риторике и пышности празднества.
Правда, о памятнике Екатерине II иногда поминалось. Так 15 июля 1895 «Кубанские областные ведомости» сообщали: «Дело о постройке памятника Екатерине II на Крепостной площади подвигается вперёд: модель готова и скоро будет утверждён проект. Идут переговоры с художником М.О. Микешиным по поводу заключения с ним контракта на сооружение памятника. Всё сооружение М.О. Микешин принимает на себя». Хотя, как помним, утверждение модели памятника произошло весной 1893 года…
О справедливости логики моих размышлений свидетельствует и то, что подменой юбилеев не ограничились, но попытались подменить и сами памятники. Городское общество, вроде бы, благодарное казачеству, решило воздвигнуть в честь него другой памятник, не такой, о каком мечтало казачество и уже приступило к его созданию, а обелиск, в связи с его двухсотлетием, хотя городу, основанному казаками, исполнилось только сто лет. Причём, решение это почему-то принималось на чрезвычайном заседании Думы. Как это было, сообщает издание «Памятники времени»: «Самый Екатеринодар пережил уже целое столетие, а потому городское екатеринодарское общество, унаследовавшее город от бывших черноморских казаков, пожелало в знаменательный день юбилея почтить в лице Кубанского войска первых основателей города, первых колонизаторов края и в честь его воздвигнуть в Екатеринодаре памятник, который засвидетельствовал бы потомкам признательность сограждан к боевым подвигам порубежных казаков и ту живую связь, которая испокон веков существовала между русским народом и его передовым казачеством – носителем государственных идей и русской культуры на самых далёких окраинах империи. Мысль эта проведена была на чрезвычайном заседании Думы 6 июля 1896 года городским головою В.С. Климовым, представившим и самый проект памятника, сделанный по рисунку архитектора Филиппова. Предложение было принято единодушно и город постановил тут же ассигновать на памятник пять тысяч (фактически памятник обошёлся городу вдвое дороже)». Странная всё-таки нелогичность, вроде бы, никем не замечаемая: памятник основателям города, свершившим это дело сто лет назад, предлагается отмечать двухсотлетием их войска… И не памятником Екатерине II, а всего лишь обелиском, решение по установлению которого было принято столь спешно. И в то время, когда уже шла работа над памятником Екатерине II…
Сооружение же городского памятника, точнее – обелиска не могло окончиться к самому дню юбилея, назначенному в том же году на 7 сентября, а потому город ограничился в этот день поднесением войску, через особо уполномоченных лиц, только фотографического снимка с модели самого памятника. Странная, конечно, спешка с этим памятником, посвящённым двухсотлетию. Причём, эта дата отмечалась, по сути, дважды – сначала 8-9 сентября 1896 года, потом уже при открытии самого обелиска 7 мая 1897 года. На второй же день празднования состоялась закладка фундамента памятника Екатерине II, но на закладную доску была занесена надпись о «двухсотлетии»… Почему 200-летний юбилей войска назначен был на 7 сентября, неведомо, так как, уж если исчислять историю по азовским походам Петра I, то Азов был взят 19 июля 1696 года…
7 мая 1897 года на пересечении улиц Красной и Новой состоялось открытие обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, созданного по проекту областного архитектора В.А. Филиппова. Надпись на нём гласила: «Кубанскому казачьему войску Екатеринодарское городское общество в ознаменование двухсотлетия войска 8 сентября 1896 года». Это происходило уже без М.О. Микешина. 19 января 1896 года он скончался и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. О памятнике Екатерине II на какое-то время позабылось. Архитектор Е.Е. Баумгартен, проектировавший памятник, зять М.О. Микешина писал: «Это затянувшееся дело сильно повлияло на впечатлительного и уже сломленного недугом Михаила Осиповича. Готовая восковая модель угрожала разрушением при изменяющейся зимою комнатной температуре. Это обстоятельство вызывало сильные опасения автора, и было доводимо неоднократно до сведения Главного казачьего управления».
Под выплясывание казачка торжествовала иная символика и иная идеология. Что же торжествовало? Памятник городского общества, в честь двухсотлетнего юбилея войска, представляет собой четырёхгранную колонну-обелиск. Такие пирамидки, скорее ставят на могилах, чем в ознаменование знаменательных дат. Примечательно, что в это же время обсуждался памятник в Тамани, на месте высадки первых черноморцев на Кубанский берег, памятник, посвящённый столетию войска. Там тоже предлагался подобный обелиск. Но был отвергнут. Любопытна причина отклонения такого памятника – из-за своей ординарности: «По изложенным приказаниям наказного атамана в областном правлении, был составлен проект памятника, представляющий собою сложенный из камня обелиск… Следов в делах не осталось, но надо думать, что проект памятника, составленный в областном правлении, был признан не удовлетворительным по своей ординарности» (К.П. Гаденко, «Кубанский памятник запорожским казакам». Екатеринодар, 1911 г.).
В конце концов, как известно, там был установили памятник, а не обелиск, хотя на месте высадки более уместным мог быть именно обелиск или памятный знак. Памятники ведь сооружаются в городах. А тут в городе, в областном центре, по случаю столь активно навязываемой и разрекламированной даты и вдруг – простой обелиск, напоминающий скорее надгробие… Видимо, из-за упрощённости и ординарности такого обелиска, его и пришлось столь обильно сопроводить надписями, что для памятника, в общем-то неестественно.
Кроме того, такой ординарный обелиск оказался альтернативно противопоставленным величественному монументу Екатерине II М.О. Микешина, посвящённому столетию Кубанского казачьего войска. Очевидно, что городское общество соорудившее этот обелиск в честь казачества, считало, что для него сойдёт и попроще. Противопоставление же этого обелиска памятнику Екатерине II, наводит на мысль о том, что в результате подмены смыслов государственная и казачья идеи оказались действительно разделёнными, что для российской истории неестественно.
Такая очевидная подмена памятников, смыслов, символов, которая со временем обнажается всё более, тогда, может быть, и не носила характера преднамеренности и умысла, хотя не обошлось, видимо, и без них. Всё происходило, «по убеждению», как говорится, из лучших побуждений, как и бывает обыкновенно в области идеологической. Кроме того, подобные безликие и ещё более упрощённые обелиски, посвящённые 200-летию войска, были воздвигнуты и в некоторых станицах, как, к примеру, в станице Безскорбной, открытый 8 сентября 1896 года. И это при всём при том, что памятник Екатерине II для Екатеринодара был признан шедевром монументального искусства: «Всю свою русскую душу, свой великий талант, всё свое искусство и глубокое знание русской истории и русских типов вложил Микешин в это последнее своё творение (Д.А. Славянский).
Характерно в этом отношении страстное суждение краеведа и педагога К.Т. Живило, в котором чувствуется даже обида, что войску не дают ознаменовать обретение земли, дарованной Императрицей. И хотя краевед говорит в данном случае о таманской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в его словах чувствуется общий смысл: «Екатеринодар не казачий город, а воздвиг войску колонну за 11000 руб., а мы, потомки запорожцев, разве не можем сберечь церкви, гордости своей? Как будто бы сон нагнал на всё войско в течение 100 лет, захлёбываясь в просонках лишь горилкою. Проснитесь же, славные казаки, и исполните свой долг пред умершими великими своими предками, давшими жизнь и славу войску… Забыто всё, постыдно забыто. Кубанцы не привыкли обсуждать свои вопросы и потому многое позабыли. Будем же надеяться, что после манифеста 17 октября 1905 года войску будет дана возможность обсуждать, как сберечь древнюю церковь и ознаменовать занятие земли, дарованной Императрицей Екатериной Великой, постановкой особого памятника». («Экскурсия на Таманский остров». Анапа, 1909). Как видим, на Кубани изначально шла борьба памятников, что не могло быть случайностью и что выражало определённое духовно-мировоззренческое противоборство.
Петр Ткаченко
Продолжение следует