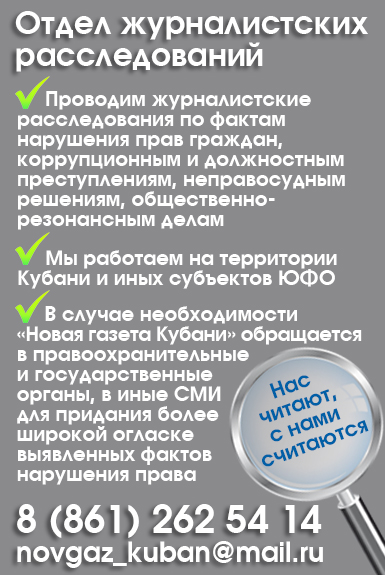Кавказский рассказ
2485
У неё были светлые, длинные золотистые волосы, крупными локонами спадавшие на плечи. Не русые, а именно золотистые, пшеничные. Переливаясь, они искрились и, казалось, всё вокруг освещали. Волосы оттеняли её слегка смугловатое — то ли от загара, то ли от природы — правильное лицо. На фоне этого золотистого сияния тёмные брови и серо-голубые, глубокие глаза были особенно выразительны. Она знала, что красива, что на неё засматриваются, знала за собой эту таинственную силу влияния, которой она не могла управлять, но лишь чувствовала её в себе. Ей было около тридцати, но, казалось, она уже несколько устала от постоянного внимания к себе. Еле приметные морщинки у глаз, какое-то спокойствие, застывшее в её глазах, медлительные, как бы ленивые движения, говорили об этом. Впрочем, это могло быть и просто свойством её характера.
Алексей увидел её в коридоре вагона у открытого окна. Стройная, но не щуплая, в сером тренировочном костюме она стояла с сигаретой в руке. Но не выставленной картинно, как это обычно делают женщины, а держа её даже небрежно. Он опоздал к поезду, заскочил в вагон уже по сути на ходу и теперь искал своё купе. Оно оказалось напротив того окна, у которого она стояла. Поняв, что они попутчики, соседи по купе и, чувствуя, что надо бы что-то сказать в качестве знакомства, он спросил:
— Мы, кажется, едем вместе с вами?
Но слова его прозвучали как-то нелепо, словно какой-то пароль. Он уже хотел было отодвинуть дверь, но она остановила его, медленно повернув к нему своё красивое лицо, и еле приметная усмешка тронула её губы:
— Туда пока нельзя, там переодеваются. Он остановился рядом, у окна, поставив у ног толстый дипломат и зачехлённую в коричневый дерматин гитару. Он был в обыкновенном пятнистом военном камуфляже, высоких армейских ботинках, посреди полевых погон угадывались дырочки от майорских звёзд. То ли потому, что собирался в дорогу спешно, то ли потому, что давно уже не снимал этой, ставшей для многих людей привычной одежды, оделся по-походному. Скорее в ином виде он себя уже просто не представлял.
Надо было спросить для приличия её о чём-то ещё, но ему не хотелось ни с кем, ни о чём говорить, и он молча смотрел, как за окном уплывает беспорядочный и грязный город. Его вовсе не обрадовало соседство с этой красивой женщиной. По-своему небольшому, но жестокому опыту он знал, что красота безжалостно портит людей, если не всегда, то зачастую. Озабоченные собой, они как правило, становятся эгоистичны и упускают нечто иное, может быть, самое важное, без чего человеческая жизнь невозможна. К тому же у него было не то состояние, чтобы забавлять необязательными беседами эту красивую, а значит, как он отметил про себя, капризную попутчицу. А она, глядя в окно и не поворачиваясь к нему, сказала:
— Ильзе.
— Что вы сказали? — спросил он.
— Ильзе, — так зовут меня. Вы ведь всё равно об этом меня спросите...
— Ах да, извините, — спохватившись, представился он, — Алексей.
После такого знакомства, после её долгого взгляда, как ему показалось, слегка ироничного, неловкость, какая обычно бывает между незнакомыми людьми, пропала.
Она говорила размеренно, с еле приметным акцентом, с лёгким посвистом и прицокиванием. По всей вероятности, она была латышкой или эстонкой. Но он не стал уточнять, так как ему это было абсолютно неинтересно, всё равно. И вообще он никогда не мог различить тех и других. Оказалось, что они ехали вместе до конца, до Сухуми…
С лёгким рокотом отодвинулась дверь, из купе вышла женщина, примерно ровесница Ильзе, но ей полная противоположность. Щуплая, остролицая, с прямой чёрной и короткой стрижкой. Как показалось Алексею, с какой-то настороженностью в лице, блуждающим — то ли пытливым, то ли испуганным взглядом. Она несколько вопросительно посмотрела на Алексея, как бы пытаясь угадать, о чём тут без нее говорилось.
— Рита, — представила её Ильзе, — моя подруга. А это Алексей, наш попутчик. Как видишь, с гитарой, так что скучать нам, видно, не придётся.
В знак приветствия он коротко и нервно кивнул головой и стал располагаться в купе. В дороге ему хотелось побыть одному. Он заметил, что с некоторых пор с ним произошло что-то странное, ему самому непонятное. Он ясно почувствовал это, отметив про себя даже день и час, когда это случилось, но предотвратить его не мог. Было такое ощущение, словно внутри что-то переломилось, даже хрустнуло и всё вокруг предстало в ином свете. В эти долгие дорожные часы он и намеревался собраться с мыслями. Успокоиться, обдумать как ему быть дальше. Ему казалось, что, побыв наедине, он отыщет какие-то важные, ему теперь так необходимые мысли, догадается о том, что же с ним произошло и тем самым обретёт душевное равновесие и спокойствие, которых он лишился.
Такого с ним не было даже тогда, когда он, вернувшись с афганской войны, вдруг с удивлением и ужасом обнаружил, что вокруг была уже совсем иная жизнь, не та, которую он покинул. И вовсе не потому, что эту новую жизнь он не понял и упорствовал, не желая под неё подстраиваться, всё пошло наперекосяк. Именно потому, что он её понял, всё пошло так нелепо. Семейная жизнь у него не сложилась и, помаявшись, он расстался с женой. Служба тоже расстроилась и окончательно убедившись в том, что в чины ему не выйти, так как офицерская карьера без унижений человеческого достоинства, без подлости и предательства теперь стала немыслимой, он уволился из армии, сославшись на ранения и контузии.
Намерения найти себя в каком-либо предпринимательстве оставили его скоро. Да он не особенно к этому и стремился. Оставалось идти куда-нибудь в охранники, то есть опять служить, опять воевать, исполнять то единственное, что он умел по-настоящему делать. Но не от этих неурядиц, а от чего-то иного его охватывало порой нестерпимое беспокойство. Он не находил себе места, не знал куда деть себя и что с собой сделать, как погасить в душе этот вроде бы беспричинный гнёт. Он чувствовал, что надо что-то предпринять, чтобы что-то сдвинуть в душе, иначе можно было просто сойти с ума. Было такое ощущение, что жизнь несется куда-то по своим законам, забыв о нём, оставляя его сиротливо и неприкаянно торчащим на её обочине. Он стал явно ощущать, что теряется в этом огромном жёстком и равнодушном мире.
В это время к нему и наведался, приехавший в город по каким-то делам, его друг по афганской войне Гиви, живший в Абхазии, в Гудауте. После той войны они встретились впервые и, как убедились, с той поры мало в чём изменились. Разве что намело за эти годы в их кудри седины. Тогда Алексей и поделился своим чувством с другом, сказав, что хочет куда-нибудь хотя бы на некоторое время уехать, что-то предпринять, переменить обстановку. По сути он напросился к нему недель на несколько отдохнуть у моря, развеяться, как-то обдумать эту, вдруг пошатнувшуюся, куда-то уходящую из-под ног, становящуюся вдруг бессмысленной и ненужной жизнь. На это Гиви невесело усмехнувшись, сказал, что рад другу в своём доме всегда, да только теперь там — война. Алексей знал из газет и по слухам, что там действительно идёт самая настоящая война, но поверить в это до конца так и не смог. Одно дело Афган, а здесь — с какой стати, чего ради, какая война…
И вот теперь, откинувшись на стенку и прикрыв глаза, он думал о том, как, видно, удивит друга своим приездом. Ему казалось, что он делает что-то не так и не то, что в его состоянии надо бы ему ехать не в эту неведомую ему Гудауту, а к матери, в Подмосковье. Побродить по родным лесам, успокоиться на берегу озера Сенеж. Но что скажешь матери, чем порадуешь... Тем, что семья распалась и дочка, внучка её, осталась у истеричной жены, что служба не пошла и что, прожив чуть больше тридцати на этом неустроенном свете, он уже невыносимо устал от такой в сущности короткой, мимолётной жизни... Нет, к матери он поедет потом, когда всё как-то устроится, утрясётся. А пока он ехал куда-то, сам не зная зачем. Лишь потому, что оставаться на месте просто уже не мог.
Словно какой-то неумолимой неведомой силой его подхватило и понесло неведомо куда. И он не мог сопротивляться этому всеобщему движению. Видимо, он чувствовал, боясь признаться самому себе в том, что едет не только к другу — друг был как бы только предлогом — едет туда, где гремит война, где человек испытывается опасностью, где смерть становится привычной и где познаётся цена жизни. Вкусив однажды этого жестокого, безжалостного ремесла, он не воевать, кажется, уже не мог...
Из-за полуприкрытых век он наблюдал за Ильзе. Ему нравилось сидеть рядом с ней, смотреть, как она листает журналы, как, словно невзначай, бросает на него взгляды, видно, тоже изучая его. Рита куда-то выпорхнула. Вскоре она вернулась с бутылками вина. Ему понравилось, что Ильзе ни о чём его не расспрашивает, словно понимая его состояние. И, как бы упреждая его расспросы, она стала говорить о себе. Она тоже была одинокой. Ехала в Сухуми на несколько дней к своей дальней родственнице, двоюродной тетке, преклонных лет. Родня вроде бы и дальняя, но так сложилось, что Ильзе приезжала к ней ежегодно, а потому у той и не было ближе человека, чем племянница. И вот теперь заболев, как видно уже безнадежно, тётка вызвала к себе племянницу, чтобы отписать ей наследство — частный домик с участком на берегу моря.
Разговор выходил хотя и невесёлый, но от её голоса на душе у Алексея становилось грустно и светло.
Наконец, Рита, видно, жаждавшая веселия, попросила его что-нибудь спеть. Он долго отнекивался, ссылаясь на то, что исполнитель никудышный, самодеятельный, а гитару таскает с собой больше по привычке, чем по необходимости ещё с афганской войны.
Но в конце концов всё же расчехлил свою, видавшую виды, старенькую гитару, вкривь и вкось исписанную автографами друзей, о судьбах многих из которых ничего не знал теперь и он сам.
Он долго перебирал струны, словно пытался уловить какой-то единственно верный мотив, который ему никак не удавался. Ильзе молча смотрела в окно, думая о чём-то, только ей ведомом, но было заметно как музыка трогает её. Чуть туманился её взгляд и по красивой смуглой шее пробегала еле приметная дрожь. Нарастая, гитарный перебор достиг наконец-то какого-то предела, за которым была та единственная мелодия, которую искал автор, Алексей тихо запел:
Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся.
И сердце радостно забьётся
В порыве чувств не для меня.
Это была давняя, старая песня, вот уже полтора века, волнующая души служивых людей, огрубевших в дальних походах и кровавых битвах, с тех пор, как Россия вышла к Кавказу. Столько сердец томилось над её простыми словами. В ней пелось о таком давнем, вроде бы забытом, но выходило, что и о нынешнем. Нервно надрывая струны, Алексей произносил слова с глубоким выдохом, словно рассказывал не о ком-то, а о самом себе:
Не для меня весной родня
В кругу домашнем соберётся.
“Христос воскрес!” — из уст польётся
В день Пасхи нет, не для меня.
Прикрыв глаза, он рассказывал этой песней о всём том, что так долго копилось в его измученной душе, что долго не находило выхода и вот теперь прорвалось в песне. На лбу его взбугрились вены, лицо слегка покраснело, через висок словно нехотя поползла чистая капля пота.
Он не замечал, как откатилась дверь и песня пошла бродить по вагону, как притихли люди, застигнутые песней, оторвавшей их от дум и забот. А исполнитель, задыхаясь от охватившего его волнения, жалел и себя, и всех тех, кто слышал его песню:
Не для меня придёт весна,
Я поплыву к брегам абхазским,
Сражусь с народом закавказским,
Давно там пуля ждёт меня.
Всех, ехавших в этом вагоне, песня смутила. Она напомнила им о чём-то давно забытом, напомнила о том, что они, по некоему недоброму попущению забыли и растеряли. И теперь, услышав песню, самих себя устыдились.
Ильзе всё так же смотрела в окно, каменея лицом. Потом вдруг резко встала и вышла, не сказав ни слова, видно, покурить. Алексей, остыв от песни, успокоившись, как-то сник и надолго замолчал, думая о том, чего уже невозможно было вернуть.
С этой песни, как он потом припомнил, всё и началось. Видно, песней своей он напомнил этой, тоже потрёпанной жизнью женщине о чём-то очень важном, чего она уже не надеялась воскресить в душе. Во всяком случае он почувствовал, как между ними словно рассыпалась какая-то невидимая стена настороженности. Теперь она уже не стесняясь, долго и внимательно смотрела ему в глаза, как бы желая сказать ему нечто очень важное, но не находила для этого нужного и единственно возможного слова.
Им так хотелось верить в то, что не всё ещё потеряно в их, таких ещё по сути молодых жизнях, что всё ещё можно, если и не начать сначала, то как-то поправить, вывернуть на тот путь, где человек живёт открыто, не лукавя и ни перед кем не унижаясь. Веря и не веря, они с испугом обнаружили эту, вдруг открывшуюся перед ними возможность. Видимо, только сбившись с пути, люди с такой надеждой и жаждой желают его обретения. Ведь и присутствие Бога неощутимо, ощутимо лишь его отсутствие...
Была такая добрая минута, когда становилось легко на сердце и светло на душе, когда они уверовали в возможность поправить эту, покосившуюся, истерзанную обстоятельствами жизнь. Но кто знал, доведётся ли им еще когда-нибудь встретиться и какова будет эта встреча...
В тот дорожный вечер произошло еще одно обстоятельство, ставшее для Алексея особенно памятным. По вагону ходила цыганка, предлагая всякую косметическую всячину, какую, видно, уже не берут на вокзалах. Заглянула она и в их купе. Полагая, что она станет приставать с гаданием, Алексей, завидев её в дверях, и не давая ей заговорить, патетически и несколько весело произнес:
— Только не о дальней дороге и не о казённом доме. То и другое у нас уже есть...
— Не тарахти, солдатик, — сказала цыганка, — возьми лучше что-нибудь у меня, осчастливь свою красавицу.
— Но у тебя ведь кроме этого хлама ничего нет...
— У меня всё есть, — возразила цыганка, — открыв пред ним повязанный на талии платок, в котором носила свой товар. Там, среди пестрых оберток, он и обнаружил сверкнувший серебром гребень. Это была любопытная вещь — литой из какого-то металла, посеребрённый гребень венчали фигурки из античных сюжетов.
— Это я возьму у тебя, — сказал Алексей, — и протянул гребень Ильзе, которая, не ожидая подарка, несколько даже смутилась, благодарно улыбнулась и тут же погрузила его в свои пышные, пшеничные волосы. Как бы оправдываясь, Алексей сказал о том, что подарок, конечно, так себе, скорее на память. Должно же мол, что-то напоминать нам о нашей встрече... Рита куда-то исчезла, то ли нашла себе другую дорожную компанию, то ли преднамеренно оставила их наедине.
Утром Алексей сходил с поезда первым, в Гудауте, не доезжая до Сухуми. Они условились, что по возвращению обязательно встретятся. Что бы ни произошло, как бы не сложились обстоятельства, встретиться обязательно. Каждый из них понимал, что это не обычная дорожная встреча, а может быть, их последняя и единственная судьба. Алексей нехотя собрал свои вещи. И когда уже собрался выходить, она на мгновение задумалась, как бы что-то припоминая, а потом сказала, что тоже хотела бы что-то оставить ему на память, чтобы не забыл об уговоре. Поискав глазами, она остановилась взглядом на своей куртке, какого-то зеленоватого, болотного цвета.
— Знаешь что, возьми-ка мою куртку.
Он взял её куртку, и в сознании мелькнула мысль, что это даже как-то символично, что куртка убережет его надежнее брони... И он в шутку спросил:
— Куртка, конечно, непростая, коль надену её никто меня не одолеет?
— Она, подхватывая эту игру, с улыбкой сказала:
— Непростая. Никто не одолеет.
— И что, до семи лет никому не сказывать, откуда во мне такая сила?
— Не сказывать...
После таких слов, ему так не хотелось с ней расставаться. Но резкие толчки вагона напомнили, что поезд остановился.
Он вышел на платформу, ещё не ведая о том, что его поездка к другу будет такой короткой и безрадостной.
Его друг Гиви жил вместе с родителями в своем доме, прилепившемся на пологом скате горы. Вокруг дома — сад с виноградником. Подворье обнесено невысокой стеной из дикого камня. Алексей легко отыскал этот дом.
Гиви был искренне рад другу. И вечером, когда они сидели во дворе за низким столиком, отец его, Георгий Янсонович, разливая вино, приговаривал:
— Это хорошо, сынок, что ты к нам приехал. Правда, теперь у нас неспокойно, да ведь и везде неспокойно. Что-то случилось с людьми недоброе, какая-то напасть их одолела, потому они и воюют. Так бывает. Места ведь всем пока хватает, а люди все равно убивают друг друга. Значит дело в чем-то ином... По-своему они, видимо, все правы, да вот только отстаивают какую-то свою малую правду, а не общую на всех, человеческую и божескую. Как только они утрачивают эту правду, так и начинают воевать. Слаб всё-таки ещё человек на этой земле.
Гиви тогда сказал Алексею, что ввязываться ему в эту войну не следует, это, мол, наша война, у тебя — своя, а это — наша. Да и от ненужных разговоров подальше, будто на нашей стороне добровольцы и наемники.
Все эти недолгие дни, пока Алексей был в Гудауте, они почти не виделись с другом. Он появлялся дома иногда, лишь по какой-то необходимости. Одного только не мог предположить Алексей, что встреча эта окажется такой короткой. Однажды к дому подъехала машина и парни в истрёпанных и выцветших камуфляжах вытащили из кузова тело Гиви, завёрнутое в плащпалатку... Как потом рассказали ему ополченцы, его убил снайпер. Не рассчитывал Алексей попасть на похороны друга, с которым столько было испытано и пережито в Афгане. Теперь он уже никак не мог оставаться в стороне и решил отомстить за него.
Воюющие стороны разделяла река, которая и была линией фронта. Ополченцы рассказывали, что несмотря на всю жестокость противостояния, сложились определенные правила, которых никто не нарушал. Во всяком случае те и другие могли, не опасаясь, спускаться к реке за водой. Но с некоторых пор это негласное соглашение оказалось нарушенным. На той стороне объявился снайпер, называемый ополченцами людоедом, который в три дня завалил нескольких человек. Алексей и решил отправиться на охоту за этим снайпером. Ему показали противоположный скалистый берег реки, где мог укрыться снайпер и дали винтовку с оптическим прицелом. Сложность предстоящей охоты состояла в том, что с этого берега, если даже и обнаружить стрелка, невозможно было достать. Надо было охотиться за ним на занятом противником берегу.
Глубокой ночью, ближе к рассвету он перешёл реку вброд, замер до утра среди скал и самшитовых зарослей. Обнаружить снайпера было теперь непросто, так как на абхазской стороне люди вели себя более осторожно и выстрелы его стали редки. Три дня и три ночи, ползал он по скалам, остерегаясь чем-либо выдать себя. За это время с ним произошло два происшествия, которым он поначалу не придал особого значения, но позже, думая обо всем случившемся, усмотрел в них какой-то скрытый смысл.
Первое произошло с ним на второй день его охоты. Пробираясь среди скал и зарослей, он чуть было не опустил руку на змею, находившуюся на уровне его глаз. Он почувствовал её каким-то чутьём, резко отдёрнул руку. Змея какое-то время насторожённо смотрела на него, а потом скрылась в расщелине. Второе произошло на третий день, когда он выследил-таки этого снайпера. Он обнаружил его по звуку выстрела, раздавшемуся где-то совсем рядом. Пробираясь вдоль скальной стены, он вышел на открытую площадку и только тогда увидел его на противоположной стороне расщелины метрах в ста пятидесяти, смотрящего прямо на него. Он заметил снайпера слишком поздно, уже какое-то время постояв на этой злосчастной площадке. На какое-то мгновение он оцепенел, внутри что-то обожглось невероятным холодом, “всё, отвоевался” — пронеслось в сознании. Он резко отпрянул за скалу, уже не надеясь уцелеть, но выстрела почему-то не последовало...
По всем правилам такой жестокой охоты, Алексей, конечно же оплошал, подставился. Но что-то удержало снайпера от выстрела. То ли он чем-то отвлёкся, что было маловероятным, то ли, не подозревая, что за ним охотятся, принял его за ополченца грузинской стороны. Отойдя от этого злосчастного места, он безвольно опустился на корточки и долго сидел неподвижно, приходя в себя, досадуя на свою неосторожность. Но чем больше он думал о случившемся, тем всё твёрже убеждался в том, что снайпер его все-таки заметил и у него была возможность выстрелить и что спасла его не быстрая реакция, а нечто совсем иное.
Придя в себя от допущенной оплошности, Алексей стал действовать более осторожней и расчетливей. Он решил зайти ему, если и не в тыл, то во фланг, откуда он его не ожидал. Это было немалым риском, так как можно было столкнуться с ополченцами противника, а это было верной гибелью. Вернувшись, предстояло обогнуть скалу, взобраться на её вершину и, если снайпер не сменил позицию, он должен был увидеть его сверху, как на ладони. Главное — не выдать себя, карабкаясь по скале. Где-то совсем рядом он слышал голоса ополченцев. Он долго и терпеливо взбирался на эту скалу, выделявшуюся среди других высотой. На самую её вершину подниматься не стал, так как оттуда его могли увидеть. Наконец, он вышел к тому месту, откуда, по его расчетам, должен быть виден снайпер. Прежде, чем начать его поиск, долго лежал, отдыхая.
Снайпер оказался на том же самом месте, еле различимый среди зарослей. Алексей поймал его в прицел и рассмотрел более ясно. Снайпер лежал, ни о чем не подозревая и наблюдая за противоположным берегом. Его судьба была в руках Алексея. Но странное дело, от этого Алексей не испытывал ни восторга, ни злорадства и даже то чувство мести, которое двигало им эти дни, пропало. Столько раз ему приходилось стрелять в человека, а тут с ним словно что-то сталось непонятное. Выходило так, что он стреляет как бы из-за угла, в ни о чём не подозревающего противника.
Он, оторвавшись от прицела, лежал неподвижно, прижавшись небритой, огрубевшей щекой к раскалившемуся камню. А вокруг, насколько хватало взгляда, простирался огромный, такой прекрасный, но вместе с тем и такой жестокий мир. Внизу пенилась река и сюда еле достигало её вековечное воркованье. Противоположный берег, откуда он пришёл, словно фатой, был подёрнут лёгкой дымкой.
Алексей, собрав волю, снова приник к прицелу. Снайпер таился на прежнем месте, наблюдая за берегом, ведя свою страшную, нечеловеческую охоту. Он поймал в прицел его голову в пятнистой зеленой кепи, затаил дыхание, палец осторожно, заучено и послушно коснулся спускового крючка. В то же мгновение он увидел, как что-то словно полыхнуло огнем на том месте, где находился снайпер, и только потом почувствовал толчок отдачи и услышал свой выстрел.
Невыносимо тоскливо и безрадостно вдруг стало у него на душе. Он не мог понять, что с ним произошло. Казалось, что здесь, сию минуту, в этом вздыбленном мире произошло нечто страшное и непоправимое, чему нет названия и что способно лишь выжигать и испепелять душу. Произошло не только с тем снайпером, которому было уже всё равно, произошло с ним, Алексеем. Отбросив винтовку, он перевернулся на спину и долго без чувств смотрел в бездонное, ясное, с тёмно-синими, даже черноватыми подпалинами от зноя, небо… Если этот мир вдруг обезумел, если на него ниспослано проклятие, зачем он участвует в этом безумии... Ему было жаль и того, неведомого ему человека, чью душу он так расчётливо погубил, и самого себя.
В каком-то глухом забытьи, не чувствуя, как остывают накалившиеся за день скалы, он пролежал до ночи и очнулся, пробудился лишь тогда, когда небо высыпалось насторожённо и пугливо мерцающими звёздами. Надо было возвращаться к своим.
Он спустился с остывающей скалы и уже ничего не таясь, шумно пошёл вброд через реку. Он уже ничего не опасался, ему было теперь уже всё равно. На середине реки окунулся, не чувствуя обжигающего тело холода.
Несмотря на позднее время, на пороге дома его встретил Георгий Янсонович. Он сгорбился и осунулся, как-то сразу постарел с гибелью сына.
— Отец, — хрипло, не узнавая своего голоса, сказал Алексей. — Я отомстил за сына. Отец подошёл к нему, жалко и беспомощно уткнулся в его грудь, в его мокрую, пропахшую травами и ещё какими-то неземными запахами куртку. Алексей обнял его за плечи и почувствовал, как вздрагивает в беззвучных рыданиях его ещё крепкое тело.
— Ну вот, ещё одним горем стало больше на этом свете, — тихо сказал он. — Потом, собравшись с волей и глядя в осунувшееся, измученное лицо Алексея, грустно попросил:
— Ты нас не забывай, сынок. У нас никого ведь на всём свете не осталось. Приезжай к нам, мы всегда тебе будем рады.
— Если уцелею, отец, я никогда вас не забуду.
На следующее утро Алексей уехал. Он не мог, не находил в себе сил здесь больше оставаться. Ведь он ехал сюда в надежде успокоиться душой, собраться с мыслями, а вышло всё наоборот. Ещё тягостней и невыносимей стало у него на душе. Может быть, уже нигде не осталось места, где бы он мог чувствовать себя спокойно.
Мы не были с ним друзьями, да и познакомился я с ним только в этот трудный, тягостный для него период. Он был рад мне как, впрочем, и всякому собеседнику, который мог бы выслушать его внимательно и терпеливо. Он пил не пьянея, спрашивая меня так, словно я что-то мог ему ответить:
— Но послушай, неужели для неё это было всего лишь очередным дорожным увлечением... Почему она не приехала?.. Если так, то кому же тогда можно верить. И как жить без веры...
Его воспалённые глаза, казалось, дымились отчаянием, болью и злостью, на весь этот, неустроенный мир, почему-то к нему столь несправедливый. И он, как заклинание, повторял это диковинное, ставшее для него родным имя: Ильзе, Ильзе...
Что мог я ему ответить, чем мог утешить его, если и сам не знал как быть, как жить далее на этом опустевшем, выхолостившемся от постоянно совершаемых насилий свете, вдруг почему-то утратившем свои исконные пути.
Что было потом, я узнал уже позднее и не от него. Свою Ильзе он так и не дождался. Не приехала она к нему ни через месяц, ни через два, не приехала совсем... Но однажды, когда он уже утратил всякую надежду на встречу с ней, когда душа его почернела, как выжженное после покоса пшеничное поле, когда, казалось, жить далее с такими страданиями невозможно, к нему явилась Рита, его давняя попутчица, подруга Ильзе. Увидев её, он вопросительно и испуганно посмотрел на неё мутнеющим взглядом, словно припоминая, где мог видеть эту женщину и зачем она здесь, с трудом понимая, что действительно произошло что-то страшное и непоправимое.
Ни о чём не говоря, она протянула ему столь памятный для него серебристый гребень с ровной, словно аккуратно высверленной дырочкой посредине от пули, его, Алексея пули.

Мемориал «Вечная слава героям Абхазии», погибшим в войне 1992-1993 годов, расположен у моста через реку Гумиста близ города Сухума.

Часовня в память о погибших казаках-добровольцах, сражавшихся за независимость Абхазии, 1992 г. -1993 г.
Все фото из Абхазии - фотохудожника Татьяны Ткаченко.