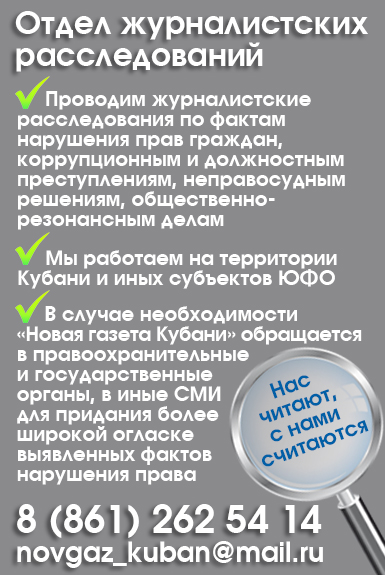В подмосковном городе Фрязино 16 мая прошёл культурный форум "Шолохов М.А. - певец казачества", посвященный 120-летию великого русского писателя Михаила Александровича Щолохова (1905-1984)
1512
В подмосковном городе Фрязино 16 мая прошёл культурный форум "Шолохов М.А. - певец казачества", посвященный 120-летию великого русского писателя Михаила Александровича Щолохова (1905-1984). В форуме принял участие писатель Пётр Ткаченко, выступивший с докладом о своих открытиях в постижении наследия великого писателя.
Народная песня в «Тихом Доне»
Спокон веку работа народная
Под унылую песню кипит,
Вторит ей наша муза свободная,
Вторит ей – или честно молчит.
Н. Некрасов
Каждый, кто впервые откроет эту великую книгу, кому только предстоит не сравнимое ни с чем счастье соприкосновения с её удивительным миром, с диковинной и вместе с тем такой понятной на все времена жизнью, начнёт читать её со старинных народных казачьих песен, вынесенных в эпиграфы. Уже не будут, как прежде, разносить этих песен ветра над донскими просторами, над левадами и буераками, уже полиняют они в суете повседневности, как косынки казачек под палящим степным солнцем. Уже не каждое сердце перехватят они удушливой волной и не каждую душу повергнут в беспричинные рыдания их незатейливые звуки. Уже будут ютиться они только на сценах да покоиться в фольклорных сборниках. А здесь, с первой страницы «Тихого Дона» они снова воскреснут в своём первозданном виде. Предстанут такими, какими бродили по хуторам и станицам тёплыми вечерами, какими пролетали над Доном, вглядываясь в его быстрину и тёмные, таинственные заводи, прозвучат, донося горьковатые полынные степные запахи, напоминая нам о том дорогом и извечном, чем пребывала веками эта многострадальная, политая людским потом и кровью, родная земля.
О чём поведают читателям новых времён эти песни, какие струны их душ затронут? И затронут ли… Какую связь увидят они между песнями и жизнью, изображённой в романе? А такая связь есть. Не случайно ведь «Тихий Дон» пестреет народными песнями, как пойменный луг цветами, буквально пересыпан ими. Да и сам автор в одном из писем прямо говорил о том, что он пытался оправдывать в романе свои песенные эпиграфы.
Как оправдывались песни в повествовании, какие потаённые, не всегда видимые связи проступали между ними и художественными образами романа – это ведь имеет прямое отношение и к своеобразию художественного мира писателя, и к народности его эпопеи.
Итак, открывая «Тихий Дон», мы начинаем читать его со старинной казачьей народной песни:
Не сохами-то славная землюшка наша распахана…
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами…
В этой песне содержится один из стариннейших эпических художественных образов, восходящий к устно-поэтической традиции, былинам, а, может быть, и к более древним воинским песням, отблески которых до сих пор сохраняются в народной культуре. Вместе с тем, образ этот восходит и к традиции литературной, к «Слову о полку Игореве…». Это традиционное уподобление битвы мирному созидательному, чаще земледельческому труду. Есть такой образ и в «Слове»: «Черна земля под копыты костьми была посеяна, а кровию польяна; тугою взыдоша по Русской земли». И в этой удивительной, пронзающей душу, не потускневшей со временем картине битвы на Немиге, битвы, которую и автор «Слова» знал уже только по преданиям и, видимо, использовал для изображения её образ из более ранних поэтических памятников: «На Немизе снопы стелют головами, молотят цепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брезе не Бологом бяхуть посеяни, посеяни костьми русских сынов».
Есть в тексте романа и прямое традиционное сравнение войны со страдой: «Станицы, хутора на Дону обезлюдели, будто на покос, на страду вышла вся Донщина».
Вторая народная песня, приведённая здесь же в эпиграфе. – «Ой ты, наш батюшка тихий Дон!» – тоже восходит к древнему сказочному представлению, проявляющемуся и в литературной традиции. Это разговор героя с рекой, с Доном. Подобная ситуация встречается и в «Слове» – князь Игорь, убегающий из плена, разговаривает, а точнее, спорит с Донцом, рекой, упрекающей его за поражение…
Вполне возможно, что автор романа выбирал песни для эпиграфов непреднамеренно, без оглядки на эту поэтическую преемственность. Он взял эпиграфами те, ему полюбившиеся песни, которые, как он сам писал, водились на Дону, от которых захватывало дух. Песни наиболее соответствовавшие жизни, изображаемой в романе. Но так совпало, что песни, взятые эпиграфами, и постоянно приводимые в тексте романа, как бы связали эту новую жизнь с извечными, глубинными народными представлениями.
Видятся и другие, не только в эпиграфах, и не только через песни и старинные поэтические образы, переклички «Тихого Дона» со «Словом». Это сходство проявилось прежде всего в особой, оригинальной художественности романа, выбивающейся из привычных литературных представлений, озадачивающей не одно поколение исследователей. Эта оригинальная художественность сказывается в удивительной простоте и вместе с тем глубине изображаемого, без всякого даже намёка на рефлектирующую мысль.
Извечная тема усобствующих братьев, крамола, причины и истоки которой с такой ясностью вскрыты в «Слове» продолжается в «Тихом Доне». На ином жизненном материале, в иных формах проявляемая, но по сути та же коллизия.
И, наконец, роковое совпадение. Мы не знаем гениального автора «Слова». И как бы не успокаивали нас учёные, что анонимность – одна из традиций средневековой литературы, читатели разных поколений снова и снова задавались и задаются всё тем же вопросом: кто был автором этой героической поэмы? Выдвигают новые и новые гипотезы и версии.
Невероятно, но кажется, что и «Тихий Дон» иным читателям и литераторам хочется видеть анонимным, как бы созданным самой природой единожды и на все времена. Периодически вокруг романа тоже ведь возникали споры о его авторстве. Причём, начались они уже тогда, когда автор ещё работал над романом, когда далеко не все строки и главы легли на бумагу. Мне кажется, что в конечном итоге все эти споры и «сомнения» восходят к непониманию оригинальности романа, к стремлению судить о произведениях литературы по предшествующим образцам. Но этапные, вершинные произведения всегда неповторимы, единственны в своём роде. В идеале история литературы есть череда неповторимых художественных форм. Но сводились споры об авторстве «Тихого Дона» в конце концов, к идеологии…
Та эстетическая реальность, которая создана в «Тихом Доне», во многой степени определяется народными песнями, и вовсе не случайно они встречаются в романе столь часто. Они не просто поясняют, комментируют те или иные картины и жизненные ситуации в романе, не только характеризуют героев, не только вводят изображаемое в череду событий предшествующих, но прежде всего говорят о том, на какие жизненные, человеческие, эстетические ценности ориентировался автор. Можно сказать, что народные песни являются средством эпизации изображаемых событий. Именно через них автор выражал народное понимание и предшествующих, и современных ему событий. Народные представления были для него главным мерилом в оценке происходившего. К ним он, кажется, более всего стремился. И делал это во многой мере именно через народные песни.
Столь частое обращение к народной песне в «Тихом Доне», безусловно, свидетельствует о том уникальном свойстве романа, художественного мира М. Шолохова вообще, выделяющее его в мировой литературе, которое так определил один из самых глубоких толкователей «Тихого Дона» Пётр Палиевский: «…Шолохов поддержал главное в нашем народе – искание правды. Он доказал, что те самые вопросы, которые ставят высшие умы, народ решает у себя практически, так как именно на этом уровне от них никуда не денешься и в библиотеку не уйдёшь, но каждым шагом обязан отвечать – немедленно и нередко головой. Он показал, что такие решения могут быть ответственней самых остроумных, обоснованных, блестящих – и глубже.
Причём решается здесь не какая-нибудь удельная правда, но правда для всех.
…Вот почему нет, наверное, более подходящей книги, чтобы задуматься над смыслом нашего времени, чем «Тихий Дон»… (П. Палиевский, «Шолохов и Булгаков», М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 1999).
С этой точки зрения «Тихий Дон» является произведением особенно актуальным сегодня, для нашего времени ускользания нравственных ориентиров, времени отчуждения от народной эстетики, подмены её всевозможными суррогатами массовой культуры и физиологическими раздражителями, выдаваемыми за искусство, распылённой, размытой и пока ещё мало собранной культуры. Может быть, сегодня как никогда необходимо перечитывание романа. Необходимо на волне пересмотра нашей истории, на фоне публикаций, представляющих её зачастую односторонне, упрощённо. Мне кажется, что «Тихий Дон» и сейчас объясняет нам очень и очень многое из того времени, осмысление которого, повергает многих в растерянность. В нём художественно, а не упрощённо-публицистически передаётся непоправимость и трагизм послереволюционных лет, периода Гражданской войны, вскрыты истоки и причины, может быть, самого трагического периода страны за всю её многовековую историю. Там уже давно постигнуты истоки народной трагедии, массового уничтожения людей, причины которого только теперь мы пытаемся осмыслить.
Упрощённое представление о том времени, бросает свою тень и на сегодняшнее понимание «Тихого Дона», в целом на творчество Михаила Шолохова. На фоне пересмотра истории советской литературы начинается пересмотр и его творческого наследия. И что особенно настораживает, пересмотр этот отмечен не глубиной проникновения в произведения писателя, а их упрощённым пониманием. Отмечен не желанием подняться до уровня художника, а приспособить, низвести его до своих расхожих, стереотипных представлений.
Вообще в том, что за перестройкой жизни мы хотим непременно и немедленно увидеть и перестройку литературы, а не литературно-художественного процесса, а заодно подвергнуть сомнению предшествующие художественные вершины, как раз и свидетельствует о том, что и поныне процветает отношение к литературе вульгарно-социологического толка.
Схема нового стереотипа или преднамеренности в восприятии наследия М. Шолохова, сводится примерно к тому, что «Тихий Дон» – это хорошо, это гениально, а вот «Поднятая целина» – это не глубоко и даже конъюнктурно. В принципе вполне понятна природа этого стереотипа. В конечном итоге, он исходит из нашей беды – недоверия к художественности, её постоянной вульгаризации. Но объяснимо и конкретной ситуацией. Периодическая печать в последнее время ознакомила нас со многими документами и свидетельствами того времени, в частности периода коллективизации. Не находя этих же документов, этих же свидетельств, прямо высказанных в «Поднятой целине», иные незадачливые читатели и исследователи сделали самый простой и, конечно же ложный вывод. Значит писатель, полагают они, утаил по каким-то причинам то, что он мог сказать, значит, высказал далеко не всё из того, что он знал. А знал он ведь действительно многое, как теперь известно, к примеру, из его писем.
Казалось бы, первый вопрос, который должен быть здесь разрешён при нормальном положении вещей, это то, почему писатель в произведении своём не привёл всех фактов, известных ему, какой художнической задачей это объяснимо? Но в суете повседневности, полонённой публицистикой, а точнее прямолинейностью и упрощённостью, нам стало не до художнических задач. Наш изощрённый прагматизм стал верить только факту, не доверяя художественности, которая предполагает большую чуткость, развитость души, более высокую культуру. Кстати сказать, именно в художественности, как ни в чём ином, сказывается национальное своеобразие народа.
Какие великие книги забываются и как приспосабливают их к текущему моменту, сиюминутным интересам, говорит о культуре тех людей, которые к ним обращаются. Нынешний «пересмотр» наследия М. Шолохова говорит пока не столько о художественном мире писателя, сколько о нашей неготовности его усвоить, говорит о нас самих. Пройдёт время, и перелистывая сегодняшние страницы газет и журналов, к тому времени уже пожелтевшие, мы вполне возможно, устыдимся нынешних толкований наследия великого русского писателя Михаила Шолохова.
Признаться, и перечитать-то «Тихий Дон» заставила меня неудовлетворённость многими нынешними публикациями, которые, вроде бы должны были многое открыть, прояснить, которые, действительно, дали много фактов, но не дали их цельной картины. Вся глубина и диалектичность многих из них подменяется порой ссылками на сложность и неоднозначность событий и исторических личностей. И перечитать, именно, с точки зрения значения народных песен в романе, то есть, с точки зрения народных представлений и понятий. Ведь народная идея, народное понимание происходивших и изображённых в романе событий является тем главным аспектом, который объясняет и многие другие особенности романа.
Можно подумать, что народные песни, приводимые в «Тихом Доне», лишь комментируют то, что изображается в романе. Но предназначение их более глубокое, более неоднозначное, чем такая лишь служебно-прикладная роль. Они придают повествованию удивительную эстетическую цельность. И в этом можно убедиться, сравнивая первую и последнюю песни, приводимые в тексте эпопеи.
Как помним, впервые песня врывается в повествование в самом его начале, когда Григорий, возвратившийся с игрищ после первых кочетов, услышал колыбельную песню Дарьи, жены брата Петра. «Под текучую зыбь» этой песни он «почти уснул»:
– А иде ж гуси?
– В камыши ушли.
– А иде ж камыши?
– Девки выжали.
– А иде ж девки?
– Девки замуж ушли.
– А иде ж казаки?
– На войну пошли…
Ничего, вроде бы, не предвещало грозных событий. Шла обычная мирная жизнь. Правда, Петру наутро надо было выходить в лагеря. Да ведь это дело привычное, можно сказать, обыденное для казака. Но тоскует Дарья над детской зыбкой, да врывается в её песню какая-то глухая, непонятная пока тревога. Простая колыбельная песня уже как бы вещала о тех грозных событиях, которые ожидали казаков в недалёком будущем и о которых они ещё не подозревали.
В этой колыбельной песне говорилось о казачьей жизни вообще, извечно переполненной тревогами, военными походами, но говорилось и о жизни предстоящей. Не только о скором лагерном сборе, но и о стоящей уже у порога войне. Пройдёт совсем немного времени и всколыхнётся, взволнуется устоявшаяся жизнь войной, нарушится привычный её ритм и уклад.
Вовсе не случайно и то, что и последняя песня, встречающаяся в тексте романа, содержит в себе сходные образы. В ней тоже поётся о серых гусях. Понятно, что гуси серые, так же, как и соколы ясные, в песенном творчестве, в народном сознании соотносились с судьбами самих казаков. Но удивительно, что тот же песенный образ после всех испытаний, выпавших на долю персонажей романа, после всех пережитых ими душевных драм приобретает уже совершенно иное значение, особую эмоциональную пронзительность. И, может быть, неслучайно, что теперь песня соотносится не с Григорием, не с его судьбой, а с судьбой Аксиньи, как представляющей в едином лице и жену, и мать, и Родину.
После бессонных ночей и горя, после всего пережитого в жизни, услышанная ею на огороде песня, вдруг как бы увенчала все её собственные переживания, выразила и её судьбу, её долю, и судьбу Григория, да и представила всю ту трагическую ситуацию, которую им довелось пережить: «Ещё вчера днём, на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню, – у неё больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась.
Тега-тега, гуси серые домой,
Не пора ли вам наплаваться?
Не пора ли вам наплаваться,
Мне бабёночке, наплакаться…
Выводил, жаловался на окаянную судьбу высокий женский голос, и Аксинья не выдержала: слёзы так и брызнули из её глаз!.. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам».
То, что пророчила, что предсказывала в начале колыбельная песня, во что ещё не верилось, под звуки которой так сладко засыпалось Григорию, теперь свершилось. Песня оказалась права… Свершилось трагически и непоправимо – разлетелись гуси серые, ясные соколы, донские казаки по белу свету, а иные так и не вернулись к родным куреням. Грустят по далёким, чужим землям их безвестные могилы. А оставшимся в родных краях не было уготовано даже могилы – общий ров стал для многих из них последним пристанищем. И нигде, ни на каких скрижалях не оставила своего следа эта переполненная трагедиями жизнь, кроме как в этой, рвущей сердце и душу песне. А впереди была ещё череда новых, неведомых испытаний, новых трагических событий, которым, казалось, не будет конца…
Эту свою вещую силу народная песня ещё не раз выскажет в «Тихом Доне». Прозвучит, вроде бы, случайно на посиделках давнишняя песня о Польше, сложенная ещё в 1831 году. Но вдруг укажет туда дорогу героям романа. Явится первым известием о том, что казакам предстоит побывать там. И вскоре, действительно, перед Григорием «искромсанная лезвиями чахлых лесков лежала чужая, польская земля»…
Это вещее свойство не только ведь собственно песни, в романе это свойство народного сознания вообще. Именно его и олицетворяет песня в «Тихом Доне». Этим выражается величие и мудрость народа, знающего свои пути. Каждый человек в отдельности, как и герои романа, бьётся над постижением истины, над смыслом происходящего, что-то открывает для себя, что-то теряет, ошибается, блуждая окольными тропами. Но истина, правда, в конечном счёте, вырабатывается в народном сознании, живёт в народе. Может быть, потому и живёт, что каждый, пусть и не всегда находя, ищет её, а не ждёт готовых, откуда бы то ни было нисходящих предначертаний своей судьбы.
Нельзя не заметить, что альтернатива – жить по народной мудрости, или же подчиняться отвлечённой, привнесённой извне и не всегда согласующейся с потребностями народа идее, пожалуй, наиболее ярко высвечивается в «Тихом Доне», именно через народную песню, вбирающую в себя вековую народную мудрость, опыт, народную эстетику и культуру. Неспроста же говорится в народе, что сказка – ложь, а песня – правда.
Вместе с тем, народная песня как бы представляет и выражает стихийность народной жизни, её в добром смысле непредсказуемость и неуправляемость, в самой себе вырабатывающей законы своего развития, которые можно познать, можно, наконец, предугадать, но невозможно придумать. Альтернативное противопоставление жизни народной, совершающейся по своим внутренним, неотвратимым закономерностям и жизни «управляемой» составляет, пожалуй, главный социальный конфликт произведения. Заметим, через служивую казачью песню в романе, во многой мере говорится и о тех грандиозных событиях, которыми «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон». Это – Первая мировая война, захватившая героев романа в свою коловерть и «великий раздел», братоубийственная Гражданская война. Подтверждением чего является то, что к третьей книге романа писатель вдруг снова взял песенный эпиграф. В первых двух книгах уже оправдались эпиграфы, взятые в начале эпопеи. Но писатель, вроде бы, неожиданно снова обращается к народной песне, вынося её в эпиграф. Может быть, этим он хотел подчеркнуть, что в жизни казаков начался некий новый, неведомый этап, который ещё более глубоко всколыхнёт и взволнует весь уклад их жизни – Гражданская война, кровавая междоусобица. Этот эпиграф писатель и оправдывает в двух последующих книгах, о чём он прямо сообщал в письме Е.Г. Левицкой от 4. VIII. 32 г.
Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты всё быстро бежишь,
Ты быстёр бежишь, всё чистёхонек,
А теперь ты, Дон, всё мутен течёшь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как то мне всё мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов.
Ясных соколов – донских казаков.
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы жёлтым песком».
И эта старинная песня вдруг удивительным образом соотнесётся с последующим повествованием, как бы предугадывая его. Словно знала песня, что именно произойдёт. Может быть, это и есть основное свойство народной песни – проходя через время неизменной, она прямо соотносится с тем, что в нём происходит. Может быть, именно поэтому она и сохраняется в своём первозданном неизменном виде… С определённой долей условности можно сказать, что если в первых двух книгах романа автор изображал то, как «шла жизнь на сбыв – как полая вода в Дону», то в третьей и четвёртой книгах он уже больше внимания уделяет тому, как «трудно нащупывалась верная тропа». Подтверждением такого, конечно же, условного разделения романа и является как бы вдруг приведённый песенный эпиграф к третьей книге. Он обозначает ту грань, тот рубеж, где заканчивается одно народное брожение, одна народная беда и начинается другая – пока неведомая и непонятная. Если в первых двух книгах писатель по преимуществу изображал то, как рушилась, шедшая до того «обычным, нерушимым порядком» жизнь, то в последующих книгах – ценой какой борьбы и потерь укладывалась, входила в берега жизнь новая. И входила ли… Как размывались её извечные берега.
Удивительно, что несмотря на происходившие перемены, которые «вершились на каждом лице», несмотря на то, что «коренным образом изменялись сами казаки», несмотря даже на прямое авторское свидетельство о том, что «даже песни – и те были новые, рождённые войной, окрашенные чёрной безотрадностью», песни в романе остаются, по сути, одни и те же – старинные народные казачьи песни. Словно только их и не трогало это суровое время, словно только они и не были подвластны его жестоким законам.
Песни проходят через весь роман неизменными, как бы представляя некий дух цельности, единственно в котором человек и мог отыскать нравственную опору разворошённой событиями душе. Мы не находим даже намёка на какую-то тенденциозность в подборе их для первой и второй, третьей и четвёртой книг. И даже к концу романа, когда жизнь действительно изменилась окончательно, когда ласковый тенорок песни до конца рассказал про участь оплошавшего на войне казака, когда утомлённый битвами и лишениями Григорий, «сидя на санях», как мудрый Мономах, думал свои горькие думы, взвилась над степью старинная казачья песня, обо всём сразу напоминая измученным войной людям: «И вдруг впереди, над притихшей степью, как птица взлетел мужественный грубоватый голос запевалы:
Ой, как на речке было, братцы, на Камышинке,
На славных степях, на саратовских…
И многие сотни голосов мощно подняли старинную казачью песню, и выше всех всплеснулся изумительной силы и красоты тенор подголоска:
Там жили, проживали казаки – люди вольные,
Все донские, гребенские да яицкие…
Словно что-то оборвалось внутри Григория… Внезапно нахлынувшие рыдания потрясли его тело, спазм перехватил горло.Глотаяслёзы, он жадно ждал, когда запевала начнёт, и беззвучно шептал вслед за ним знакомые с отроческих лет слова…».
Универсально свойство народной песни в эпопее. Она оказывается близкой и необходимой, брала за душу, вышибала слезу у давно уже не плакавших казаков обеих, противоборствующих сторон. Песня как бы говорила о том, что выросшие из единого корня, они не должны были убивать друг друга в этой междоусобной войне, может быть, этим писатель хотел сказать и о том, что с обеих сторон воевал народ. Война шла не между народом и отдельными заблудшими людьми, а между народом с обеих сторон. Народ разделялся на два непримиримых лагеря. В этом и состояла трагичность времени.
Вместе с тем, народная песня как бы указывала выход из исступлённой, затянувшейся, многим так и непонятной войны. Говорила о том, на какой почве могли примириться братья, поднявшие руку друг на друга – на почве народного сознания, народных потребностей, народного интереса.
От песни трепещет душа Григория. Вот он, «очарованный пением», возвращается с фронта домой. И уже на подходе к родному хутору его встречает песня, восходящая за приречными вербами, выводимая молодыми ребячьими голосами: «Неизъяснимо родным, тёплым повеяло на Григория от знакомых слов давнишней казачьей и им не раз игранной песни. Щиплющий холодок покалывал глаза, теснил грудь». В песню вслушиваются Кошевой и Валет, к ней прислушивается Листницкий. И его, вроде бы далёкого от народной жизни, властно трогала «бесхитростная грусть песни». Над песней рыдает Аксинья. Над ней вдруг заплачет подъесаул Атарщиков: «Скрестив на коленях пальцы, на высоких тонах вёл песню, за всё время ни разу не сбился, несмотря на то, варьируя, он далеко оставлял за собой напористый бас Долгова, с виду был необычайно суров, и лишь под конец Листницкий заметил, как через коричневатый кургашек родинки на глазу сбежала у него холодно сверкнувшая слезинка». Не только любовью к песне вызвана его слеза, но тем главным, о чём он прямо говорит Листницкому: «Я до чёртиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать…».
Вот оно и есть то главное, что тянуло людей к песне, что в ней выражалось, что трогало до глубины души таких разных, таких непохожих друг на друга людей. Но как же так тогда произошло, как же так случилось, что людей, объединённых общей любовью к своей земле, соединённых общей культурой, разделила такая страшная, непримиримая борьба? Может быть, и разделяло их, братьев то, что одни жили в согласии с этой стихией, с этой народной мудростью, выражаемой в песне, сохраняя, несмотря ни на что, живую душу, а другие, принимая её, обливаясь над ней слезами, всё-таки воспринимали её как нечто пребывающее лишь в прошлом, а не как силу, определяющую и нынешнюю, вроде бы, до предела запутанную жизнь. Ведь разыгравшаяся трагедия братоубийства, в конечном итоге и вызвана была тем, что в силу ряда причин и обстоятельств, жизнь пошла тогда не по народным идеалам, выражаемым в песне, а по отвлечённым идеям, да к тому же примитивно понятым, не переплавленным ни силой ума, ни жаром души.
Герои романа обращаются к народной песне, как к несомненной правде, как к главному и неоспоримому доводу в своих спорах и раздумьях о происходящем в их жизни. Таким глубоким смыслом наполнена эта фраза, брошенная из толпы на митинге: «Вы послухайте, какие песни зараз на хуторах сложили. Словом, не всякий решится сказать, а в песне играют…». На песню указывается, как на высшую и безусловную правду, как на мнение общественное в противовес волюнтаристским устремлениям подчинить весь уклад народной жизни какой-то отвлечённой, абстрактной идее о некоем отдалённом светлом будущем…
Носителем, выразителем такой отвлечённой идеи является в романе Штокман, который «был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели». Его цель, может быть, и гуманна и благородна, но ведь известна только ему одному. И не было никаких гарантий в том, что она совпадает с интересами и чаяниями народа, что она правильна и праведна. Единственным мерилом её были практические дела. А они-то как раз, из неё вытекающие, далеко не совпадали с целью народной, оборачивались трагедией для народа. Его цель оказывалась далёкой от того самого народа, который он собирался вести к лучшей жизни, светлому будущему, за счастье которого он бился с такой самоотверженностью. Представление о казачестве, о народе у него было до предела простым и… по сути неверным: «Казаки – особое сословие, военщина. Любовь к чинам, к отцам-командирам прививалась царизмом. Как это в служивой песне поётся? «И что нам прикажут отцы-командиры – мы туда идём, рубим, колем, бьём». Так что ли? Вот видишь!» Это было ведь не просто убеждение, но с одной стороны поучением Ивану Алексеевичу, наставление растерявшемуся вдруг перед жестокостью проводимой по отношению к народу политике, с другой – оправданием незаконного расстрела казаков, оправданием начинающихся репрессий. Такой оказалась простой философия уничтожения людей за то, что они казаки, не такие, как все. И вовсе не случайно в устах Штокмана, а вполне закономерно, в его поучительном монологе помянута песня. Но беда его, да и не только его, но и народа, идущего за ним, состояла в том, что он вульгаризировал эту песню, увидел в ней далеко не то, что в ней выражалось. Ведь таких примитивных песен, на которую ссылается Штокман, в репертуаре казачества и вовсе не было. Иными словами, взявшись вести народ, для удобства свершения задуманного, упростил, а по сути попрал народную душу. Не только же песню он недопонял, а саму суть народной казачьей жизни. Он уверовал в то, что красивая идея о светлом будущем без учёта подлинных интересов народа способна изменить всё к лучшему. Он пренебрёг настоящим в угоду абстрактному будущему. Здесь-то как раз и таилась трагедия, здесь-то и брали начало те беды, которые вскоре разыграются, и не только на Дону…
Цель и путь Штокмана предельно ясны, так же как ясны и просты пути Листницкого, Кошевого, Ивана Алексеевича. Эти такие разные люди, пребывавшие в разных, противоборствующих лагерях, по своему упрощённому представлению о народной жизни, по сути, сходятся. И вовсе не желая того, и не подозревая о том, в равной мере несли гибель народной жизни, готовили народную беду…
Им противопоставлено иное представление о человеческих ценностях, иное понимание жизни, выразителем которого являлся Григорий, «белая ворона», «левша», то есть не такой как все, выбивающийся из общего ряда. Он-то как раз и жил в согласии с теми представлениями и верованиями, которые выражались и в народной песне. Но как ни странно, это и было причиной его трагедии, причиной его неприкаянности, – неустроенности, а в дальнейшем, может быть, и гибели…
Бывали моменты в его жизни, когда и ему был предельно ясен путь, «как высветленный месяцем шлях». Но проходило время, свершались события, к которым он был так чуток, и ничего не оставалось от уверенности в правильности его пути. В этом и было его отличие от других героев романа, живших по раз и навсегда выбранным установкам и принципам, идущим по однажды найденной борозде. О своём неприятии упрощённого понимания жизни Григорий прямо говорит с горечью и болью: «Такому, как молодой Листницкий или как наш Кошевой, я всегда завидовал… Им с самого начала всё было ясное, а мне и досе всё неясное. У них, у обоих, свои, прямые дороги…». Завидовал, ещё не значит хотел и мог жить так, как они. Примечательно в устах Григория это объединение непримиримых врагов, которые и не представляли себе, как они близки друг другу по упрощённому пониманию жизни.
Но много ли было таких, как Григорий? Да их, видимо, и должно быть немного. Но это именно те люди, которыми полнилась, продолжалась подлинно народная жизнь. Ведь большинство вокруг были те, кто искал свою колею, кто жил так, как Митька Коршунов: «Была для Митьки не сложна и пряма жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и он шёл по ней полноправным хозяином. Так же примитивно просты и несложны были его мысли».
Видимо, можно предполагать, что в гибели Штокмана, Ивана Алексеевича автором провидена и выражена в конечном итоге обречённость такого пути, такого понимания жизни, обречённость переустройства её по отвлечённой идее, без учёта запросов и интересов того самого народа, во имя которого они страдали, о благе которого они, вроде бы и пеклись, его, по сути, не слыша и не замечая.
Но та жизненная позиция, которую представлял Григорий, в условиях жесткого классового расслоения входила в противоречие с обеими противоборствующими сторонами. Подтёлков перед казнью бросает ему в лицо жёсткое обвинение: «И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх ты!..». Чужим оказывается Григорий Ивану Алексеевичу и Кошевому: «Такие, как Гришка, в драке только под ногами болтаются. Паскуда! К берегу не прибьётся и плавает, как коровий помёт в проруби. Ишо раз придёт – буду гнать в шею! А начнёт агитацию пущать – мы ему садилку найдём…».
И то и другое в равной степени обидно было слушать Григорию. И то и другое не вмещало всей широты его натуры, не соответствовало его искреннему стремлению понять эту жизнь, а не просто взять для руководства кем-то выработанную идею, кем-то намеченную колею. А между тем, доводы его при многих противоречиях не только логичны, но и по народному, диалектичны. Он видит дальше и глубже Ивана Алексеевича, не только пытающегося его учить, но и наделённого властью определять его судьбу. На его доводы о свободе и правах Григорий замечает, что «так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое придумывать». Григорий чуток к жизни, к её переменам, чего не дано Ивану Алексеевичу. Григорий уже ждёт нормализации жизни, её организации в русле народных потребностей и интересов, а не продолжения иступлённой борьбы. Но эти разумные рассуждения Григория расценены как вражеские, как контрреволюционные.
В этой сцене разговора Григория с Иваном Алексеевичем и Кошевым, пришедшего искать правду у новой власти, кроется, может быть, главное противоречие и трагизм той жизни. То, что она пошла такими кровавыми путями, определялось не только теми отвлечёнными идеями, которые спускались сверху, но и неспособностью усвоить их и применить практически представителями власти снизу, на местах. Воспринятые и внедряемые в жизнь догматически, идеи о переустройстве жизни, о построении справедливого общества таили в себе страшные рецидивы, непредсказуемые последствия…
Отношение к Григорию большинства окружавших его людей было, по сути, таким же, как и их отношение к народной песне. Он, вроде бы был близок и тем, и другим, и в тоже время тем и другим оказывался далёким, чужим, а то и враждебным.
К такому, народному восприятию жизни Григорий пришёл не сразу. Он пришёл к нему путём долгих блужданий и ошибок. Но заметим, Григорий сам вырабатывает своё миропонимание. Его же оппоненты получают мировоззрение извне готовым, в виде руководства к практическим действиям. Но в таком случае совершенно правильные, выстраданные не одним поколением профессиональных «борцов» за народное счастье идеи, но не переплавленные личным опытом, не усвоенные, а лишь принятые не могли не стать догмами. В этом и состояло основное различие Григория и его противников.
Изменения, происходящие с Григорием, вполне естественны. Стремление быть верным только стереотипам «казачьей славы» в результате всего пережитого сменяется у него диалектическим пониманием жизни, стремлением не просто найти спасительную колею, прибиться к какому-то берегу, но разобраться в истинной сути происходящего, причём, с точки зрения народной.
Совсем иная эволюция происходит, скажем, с Кошевым. Революция затронула его душу совсем с иной стороны. Кошевой, взяв на вооружение идеи революционного переустройства жизни, но взял догматически, не переосмыслив их глубоко. И в конечном итоге стал лишь разрушителем её привычного уклада, но не созидателем её. Непримиримую, беспощадную войну вёл он «со всем тем нерушимым и косным укладом жизни, который столетиями покоился под крышами осанистых куреней», доходя при этом до исступления и безрассудства: «Рубил безжалостно! И не только рубил, но и «красного кочета» пускал под крыши куреней в брошенных повстанцами хуторах. А когда ломая плетни горящих базов, на проулки с рёвом выбегали обезумевшие от страха быки и коровы, Мишка в упор расстреливал их из винтовки».
Он нашёл своё, вполне определённое место в этой борьбе, свою надёжную колею. Но предназначение его было рассчитано на короткий период – лишь на время разрушения. А дальше ведь продолжалась жизнь, которая не могла быть нормальной без созидательного начала, но к созиданию-то Кошевой как раз и не был готов. А потому итогом борьбы, народных лишений и страданий для него стало не претворение высоких идеалов, а лишь исполнение своих личных желаний: «Боже мой, каким же сукиным сыном был он всё это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по-настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом…».
Продолжая действовать по принципам периода непримиримой борьбы, он не заметил того рубежа, когда жизнь переходила, как говорится, на мирные рельсы. Словом, нахватался казак революционности, переняв норов и повадки непримиримых революционеров. Видно, ему удалось то, что не удалось Морозке в «Разгроме», – быть похожим на неистовых устроителей новой жизни. Потому он и не смог понять и принять Григория, окольными тропами пришедшего, наконец, к простым истинам и намерениям – заняться мирным трудом, тем, чем веками занимались на этой земле люди. Для него Григорий по-прежнему оставался врагом. В силу этого странного, хотя и вполне понятного положения, жизнь и не входила в свои исконные, привычные берега. Завязывались её новые и новые трагедии, уже ожидавшие героев романа…
Но вернусь к, собственно, значению народной песни в «Тихом Доне». Оно столь многообразно и многозначно, что не только приведением песни в тексте, но даже неприведением её автор, как бы выражает через неё своё отношение к происходящим событиям. И пусть это будет, может быть, всего лишь догадкой, но есть в романе такое место, где писатель вовсе не ссылается на народную песню и всё же всю изображённую картину мы воспринимаем на фоне песни. Привожу это место из первой книги, дабы показать, как многообразно живёт песня в романе: «У деревни Берестечко четвёртую сотню обогнал командир полка Каледин. С ним рядом ехал войсковой старшина, Григорий, провожая глазами статную фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему:
– На трёхвёрстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка. Мы можем попасть в неловкое положение.
Как видим, ни о какой песне речи нет. Только помянута какая-то деревушка, какое-то местечко Берестечко, не оказавшееся на штабной карте, по которой велись боевые действия. Но не обозначенная на карте деревушка была обозначена в народной душе и памяти в одной из самых пронзительных казачьих песен на стихи Т. Шевченко:
«Ой чого ты почорнило,
Зэлэное поле?»
«Почорнило я од крови
За вольную волю.
Круг мистэчка Бэрэстэчка
На чотыри мыли
Мэнэ славни запорожци
Своим трупом вкрылы».
Как известно, в песне на стихи Кобзаря местечко Берестечко помянуто в связи с происходившей здесь праведной битвой 1651 года между войсками Богдана Хмельницкого и силами шляхетской Польши. Название этого местечка и вошло в народную память, как символ праведной борьбы народа за свою независимость. Отмеченное народной памятью место оказалось теперь не обозначенным на военной карте… Как знать, не хотел ли этим автор подчеркнуть, не прямо, а исподволь, что та война, которая теперь здесь разыгралась, та мировая бойня, участниками которой стали герои романа, была неправедной, не согласовывалась с народными представлениями, была оторвана от его истории, от его справедливой борьбы… Впрочем, это всего лишь догадка.
Нельзя не заметить и того, как разнообразно живёт народная песня в «Тихом Доне», как она приноравливается к той или иной жизненной ситуации, оставаясь при этом неизменной. То она сравнивается с полой водой: «Тягучая и сильная полой водой, течёт над дорогой песня». То сравнивается она со степным шляхом: «Тянет старинную песню, тягуче тоскливую, как одичавший в безлюдье, заросший подорожником степной шлях». А то трогала песня какую-то невидимую струну души: «Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердце, низкий тембр подголоска дёргал эту струну, заставлял её больно дрожать». А то сравнивается песня с Доном: «А из темноты, издалека плыла, ширилась просторная, как Дон в половодье, песня…».
И каждый раз она удивительно органически вписывалась в изображаемую картину, естественно входила в повествование, не просто, придавая изображаемому большую силу достоверности, но определяя его главный смысл.
И вот теперь, когда исход борьбы, казалось бы, был уже предрешён, начиналась какая-то странная жизнь, в которой не находилось места веками копившемуся нравственному опыту, народной мудрости, не находилось места народной песне, самой душе человеческой. В «Поднятой целине» уже только однажды всплеснётся песня, словно вскрикнет, затихая и теряясь среди родных, дорогих сердцу просторов. Там вспомнится она в связи с видом древнего кургана, помянется уже только как воспоминание о былой жизни, а не как живая реальность, в которой протекала новая жизнь, как это было в «Тихом Доне». Издавна зовут его казаки Смертным, а предание поясняет, что под курганом когда-то, в старину, умер раненый казак, быть может, тот самый, о котором в старинной песне поётся:
…Сам огонь крысал шашкой вострой.
Разводил, раздувал полынь-травушкой.
Он горел, согревал ключеву воду.
Обливал, обмывал раны смертные:
«Уж вы, раны мои, раны, кровью изошли,
Тяжелым-тяжело к ретиву сердцу пришли!»
Зашатался, заколебался человеческий мир, вдруг стал перед немыслимым выбором – погибнуть или всё-таки сохраниться. Именно это значение в «Поднятой целине» имеет сцена с дубом, горькие думы и тревоги Якова Лукича. Речь, конечно же, не просто о дереве, но древе, символе мироздания, мировом древе, неслучайно на дубе «чернело воронье гнездо». О древе вечно зеленеющем, как и в стихах М. Лермонтова, древе-дубе как и в «Войне и мире».
На этом художественном образе, берущем свой исток ещё со «Слова о полку Игореве», – «мысленном древе» – следует остановиться подробнее, ибо многое тут сокрыто для чуткой души, многое открывается тут духовному взору, говорящее о характере русской литературы, её взаимосвязи, её единстве, несмотря ни на что, целостности, проходящей через века. Конечно, Яков Лукич, хозяин в «Поднятой целине», остановился в раздумье не только перед дубом, конкретным деревом, но пред древом познания. Примечательно ведь и то, что именно его, Якова Лукича, а не Давыдова или Нагульнова, организаторов колхоза, устроителей нового сельского рая, поставил автор пред древом познания.
Вспоминается, конечно, дуб в «Войне и мире», в других произведениях русской литературы, так или иначе подсвечивающих и объясняющих эту ситуацию в «Поднятой целине». Ведь в «Войне и мире» изображается тоже не просто дерево, но дуб – «тот самый». Прежде чем оказаться пред ним, князь Андрей с горьким вздохом скажет: «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла». Не просто «Вечно зеленея, тёмный дуб склонялся и шумел», но образ мироздания с говорящими друг с другом звёздами и в стихотворении М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…». И, конечно же, «высокий дуб» в стихотворении Н. Рубцова – то же древо, тот же образ мироздания.
Удивительно, что во всех названных произведениях с образом мирового древа-дуба, просматривается общая черта: соприкоснувшись с ним, герои уходят одухотворённые, умиротворённые, познавшие нечто таинственное, им ранее неведомое, умудрённые и успокоенные. Князь Андрей замечает в себе «эту тайную, нелогичную, происходящую с ним внутреннюю работу».
В стихотворении М. Лермонтова герой ищет «свободы и покоя». В стихотворении Н. Рубцова древо тоже связано со спокойствием, противопоставленным потрясениям: «И тихо так, как будто никогда/ Природа здесь не знала потрясений». И это опять-таки связано с каким-то умиротворением: «И всей душой, которую не жаль/ Всю потопить в таинственном и милом». Да и Яков Лукич в «Поднятой целине» после тяжких раздумий «шёл довольный и успокоенный».
Разве только в стихотворении Юрия Кузнецова «Дуб» этот многомерный образ древа имеет иное, нетрадиционное для русской литературы значение. И в этом безусловно, отразилась новая реальность, новое, ранее неведомое положение человека в мире:
То ли ворон накаркал беду,
То ли ветром её насквозило.
На могильном холме – во дубу
Поселилась нечистая сила.
…Изнутри он обглодан и пуст.
Но корнями долину сжимает.
И трепещет от ужаса куст,
И соседство своё проклинает.
Впрочем, я ещё не раз вернусь к этому таинственному и многомерному образу дуба-древа, который в «Поднятой целине» оказался, по сути, просмотренным по причине нелитературного подхода к роману.
Было бы, видимо, неверным только по этому признаку – отсутствию народной песни в «Поднятой целине» говорить о её меньшей художественной силе, ибо, как известно, фольклорное – всегда народно, но народное не всегда фольклорно… Роман посвящался иной жизни. Это диктовало и иную его художественность, хотя, как известно, М. Шолохов работал над романами определённый период одновременно. Этот факт мог бы стать поводом для интересных размышлений о психологии творчества. Но нам сейчас, похоже, стало не до психологии творчества, коль часто нет дела даже до художественности, до образности. Мне кажется, сам факт того, что в «Поднятой целине» уже, по сути, не встречается народная песня, отражает объективное положение, отражает характер новой жизни, установившейся в результате такой жестокой борьбы, отмеченной такими большими, во многом ничем не оправданными потерями.
Похоже, что многие критики никак не могут смириться с тем, что в «Поднятую целину» не вошло всё то, что нам известно теперь из документов того периода, опубликованных в последнее время. Не могут смириться с тем, что писатель не ввёл в роман всего того, о чём он знал. А раз так, если мы привыкли воспринимать художественность упрощённо, если воспитаны на публицистичности, зачастую дурного толка, и к месту и не к месту воздавая ей хвалу, не видя в ней кроме блага и опасности для художественности, то далее логика довольно проста. Значит, писатель знал и утаил, не захотел поведать, покривил душой. И не додумываются ни до чего лучше, как одного из честнейших русских писателей, сумевшего пронести своё доброе имя через такие страшные перипетии своего времени, заподозрить в лукавстве… Но теми ли соображениями, которые приходят иным толкователям теперь в голову, руководствовался художник?
Разве своей работой над «Тихим Доном» автор не доказал нам, что он не из тех художников, которые способны поступаться своей человеческой и писательской совестью в угоду каким бы то ни было внелитературным соображениям… Разве мы не знаем из писем его, что он вообще готов был отказаться от публикации «Тихого Дона», чтобы только не переделывать роман так, как того настойчиво требовали его московские собратья по перу – сделать, в конце концов, Мелехова «нашим» под угрозой того, что роман не будет опубликован. И заметим, требовали от него не представители власти, как теперь кажется иным исследователям, а свои же братья-писатели. Власть, в лице Сталина, наоборот, способствовала публикации романа.
Художническая трагедия М. Шолохова проходила по иному рубежу, чем у многих писателей того времени. Она состояла совсем в ином. Во всяком случае, не в степени художнических уступок власть предержащим, не в степени дозировки подлинной правды, писательская трагедия М. Шолохова определялась совсем иными параметрами.
Это только диссидентствующее сознание, по самой природе своей не справляющееся с осмыслением многомерности жизни и глубины народной трагедии, отступает от образности во имя, разумеется, соображений «высших» то есть, социальных и политических. Но Шолохов был безмерно далёк от такого представления судьбы народа. Он был заодно не с власть имущими, в чём его упрекали диссидентствующие писатели, а заодно с народом. Именно этого ему и не могли простить…
М. Шолохов сумел и не в такое жестокое время, как наше, высказать правду. А то, что его упрекают сейчас в лукавстве, намекая на конъюнктурные соображения, говорит вовсе не о нём. Это больше говорит о тех, кто его упрекает, говорит о рабской психологии, их полонившей, которую они, в меру своего разумения переносят и на писателя…
Сколько было их, сомневавшихся в таланте писателя ещё тогда, когда ему было всего лишь двадцать три года, сомневавшихся и позже, доставляя ему немало неприятностей. Теперь эти сомнения переместились несколько в иную плоскость, теперь уже «пересматривают» степень художественности и правдивости его творчества. Эволюция, что и говорить, неутешительна. Если раньше, не сомневаясь в величайшей значимости им творимого, отказывали ему в авторстве, то теперь подвергли сомнению саму художественность…
Но если бы писатель способен был подлаживаться под сиюминутные соображения, он не устоял бы в той драматической борьбе, в которой довелось ему работать над «Тихим Доном». Может быть, хоть эта простая логика станет доводом для «переоценщиков» его наследия. Хотя, конечно, главным доводом остаются его книги. Кому не скажут ничего они, не скажут ничего и всякие другие доводы…
Очень простой, даже элементарной представляется писательская судьба М. Шолохова и С. Семанову, автору статьи «О некоторых обстоятельствах публикации «Тихого Дона» («Новый мир». № 9, 1988). По его убеждению настало время оба произведения, то есть «Тихий Дон» и «Поднятую целину», избавить от прямолинейного сопряжения и чересчур навязчивого уравнения». Оказывается, М. Шолохов начал писать «Поднятую целину» вовсе не потому, что его волновало происходившее на родной земле, а только потому, что «Сталину в его ближайших и дальнейших политических интересах была необходима книга о коллективизации».
Многое не сходится в таком упрощённом понимании, совершенно оторванном от конкретной исторической ситуации И кстати, от текстов. Во-первых, препятствия в публикации «Тихого Дона», как я уже сказал, чинились отнюдь не чиновниками, а литературной братией. «Всё идёт от литературных кругов», – с горечью писал М. Шолохов, имея в виду настойчивые домогательства Фадеева и Панфёрова сделать Мелехова «нашим». Во-вторых, препятствия чинились и в публикации «Поднятой целины». Тут логика Семанова даёт явный сбой. Если роман написан по указке Сталина, лишь для того, чтобы продвинуть наконец-таки публикацию «Тихого Дона», то почему же тогда литературная братия, трепетавшая перед «хозяином», восстала и против «Поднятой целины»?.. «В журнале, где печаталась «Поднятая целина», не хотели помешать целый ряд её частей. Вмешательство товарища Сталина положило конец этому…», – сообщал Шолохов в одном из писем. И потом, если согласиться с этой логикой, взятой, конечно же из дня сегодняшнего и перенесённой на то время, то Шолохов ну никак не оправдал надежд Сталина. Какая же это «сугубо положительная оценка» коллективизации, если главные герои романа, вершители этой самой коллективизации, погибают? Не хотел ли этим Шолохов подчеркнуть своё несогласие с теми формами и методами коллективизации, которые были сплошь и рядом? Не было ли это его человеческим и писательским протестом против того, что творилось по хуторам и станицам…
Не так всё просто и однозначно в «Поднятой целине», как это теперь видится под «деловым, давно спокойным взглядом». Справедливо писала Ирина Стрелкова в статье «Желаемое и действительное» об обречённости Давыдова и Нагульнова, о надорванности их душ. А, может быть, Шолохов именно потому так и заканчивает роман, что знает, какая судьба уготована дорогим его сердцу героям…
Михаил Шолохов, впрочем, как и каждый большой художник, был выразителем общечеловеческих идей не иначе как через ту конкретную жизнь, ту среду, из которой он сам вышел, которую хорошо знал. Для него такой средой была самобытная жизнь донского казачества. Но, к сожалению, так трагически складывалась наша история, что казачество, как уклад жизни, как мощная, уникальная культура, уходящая своими корнями в древнерусское искусство, казачество, как явление, свойственное только нашей стране, казачество, как «необыкновенное явление русской силы» (Н. Гоголь), а значит, представляющее собой ценность общенациональную, общенародную, да и общечеловеческую, по сути было уничтожено… Как мог творить художник, если исчезала народная среда, родившая и питавшая его талант? Как мог он творить, если исчезал тот воздух, которым он дышал…
Пройдёт немало времени, прежде чем затянутся в народе, нанесённые ему в этот переломный период истории страшные раны. А раны, нанесённые народной культуре, может быть, вообще невосстановимы… Но это будет уже гораздо позже. А пока – уходила безвозвратно, пресекалась вековая культура, рассеивалась та атмосфера, в которой единственно и мог он творить. Уходила его трудная эпоха. Наступали новые времена, на которые уже не могла откликнуться опалённая, надорванная народным горем душа писателя. В этом, как думается, и была художническая трагедия Михаила Шолохова.
О том, как затягивались раны, нанесённые народной культуре, как снова прорастала народная песня через обломки жизни, свидетельствует уникальная по своему значению работа И. Рокачёва-Вешенского «Песни «Тихого Дона», вошедшая в книгу «Песни станицы Вёшенской», в которой он попытался проследить дальнейшую судьбу песен, приводимых писателем в романе. Но это уже другая, отдельная тема.
«Тихий Дон», может быть, как никакое другое произведение нашей литературы, показывает, как тесно связана судьба подлинного писателя с народным творчеством, с историей народа, с судьбой народной. Как она зависима от них. И как эта святая зависимость определяет масштаб и характер дарования художника.
В романе М. Шолохова «Тихий Дон» с наибольшей силой сказались те духовные поиски, которые были свойственны русской литературе советского периода. Здесь тоже заметны симптомы богоискательства, хотя и имеющие совсем иное значение, чем в произведениях, написанных в первые годы советской власти. Ведь в конце его, так же, как и в поэме А. Блока «Двенадцать», появляется Христос. В насмешливой, иронической форме, но всё-таки появляется. В финале повествования к Григорию Мелехову, скрывавшемуся в лесу, приходит Чумаков, сообщающий о том, что банда Фомина разгромлена. Наутро, попрощавшись с «мирными разбойничками» (так же, как и в поэме «Двенадцать»), он уходил «лёгкую жизню шукать». Здесь-то он и сказал Григорию «насмешливо… и с поклоном снял шапку»: «Спаси Христос, мирные разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай боженька даст вам весёлой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живёте в лесу, молитесь поломанному колесу – разве это жизня?».
Итак, в финале романа, так же, как и в поэме А. Блока, появляется Христос, тоже вроде бы, неуместный, поминаемый иронически. Но, думается, появление его вовсе не случайно. Когда Григорий возвращается в родной хутор, он бросает в воду оружие – винтовку, наган: «Зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью». Зачем Григорий пересчитывает патроны, и имеют ли какое-то значение названные числа: 12 и 26? Проще, конечно, сказать, что числа эти случайны. Но в произведении художественном так ведь не бывает. Если в финале романа появляется Христос, то по всей видимости, и значение чисел надо искать в Новом Завете, а не в каком-то ином источнике. И я нашёл их значение в двенадцатой главе двадцать шестом стихе Евангелия от Матфея: «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?». А двадцать пятая статья, поясняющая эту, говорит: «Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Но ведь это же есть не что иное, как притчевое выражение того, что изображено в романе – Гражданская, братоубийственная война…
Как видим, М. Шолохов обращался к библейским образам для того, чтобы выразить смысл и значение происходивших в России событий.
Конечно, тот смысл, который теперь открывается нам в его художественных образах, вовсе не означает, что так же точно размышлял и писатель. И тем более не означает того, что прибегал он к ним с каким-то умыслом, скажем, дабы обойти чуткую цензуру. Вовсе нет. Душа писателя живёт по иным законам, у неё иные пути в этом мире, но свет её неиссякаем… Это дело уже наше, читательское, понимать его, разгадывать, говоря словами Даниила Заточника, в притчах загадки его…
Пётр ТКАЧЕНКО