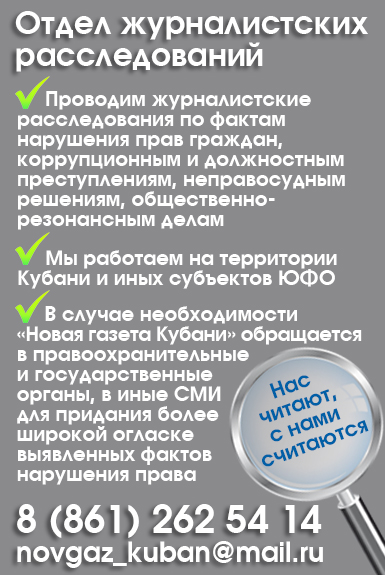Культурный проект «Родная речь»
4462
«В согласии со стихией…»

К 145-летию со дня рождения Александра Блока
Петр Ткаченко
Поэмой Александра Блока «Двенадцать», написанной в январе 1918 года, более ста лет назад, открывается, начинается русская литература советского периода истории. Поэма была опубликована 3 марта в петроградской газете «Знамя труда», между, там же опубликованными – статьёй «Интеллигенция и революция» и стихотворением «Скифы». Поэма создана в краткий период мощного творческого подъёма и всплеска, вызванного революционным потрясением. По словам самого поэта, «в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях», во всех областях жизни, и прежде всего – в человеческих душах. Это был для поэта период трудных дум и страшных мыслей о крушении мира, страны, человеческой личности. Закончив статью «Интеллигенция и революция», он делает 9 января пометку в записной книжке: «Выпитость. На днях, лёжа в темноте с открытыми глазами, слышал, гул, гул: думал, что началось землетрясение». Разверзшаяся бездна, пытала дух и всё его существо, как никогда… Воспалённый разум, стремясь сблизить берега этой бездны, пытался постичь то, что же именно происходит, пытался разглядеть, что же свершается на самом деле…
Почти два с половиной года спустя, вспоминая этот мучительный период, А. Блок отметил в «Записке о «Двенадцати» 1 апреля 1920 года: «В январе 1918 года я последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно написано в согласии со стихией; например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, будь они враги или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике». И, словно предвидя, какие кривотолки будут идти вокруг его поэмы, добавил: «Посмотрим, что сделает с этим время».
Уже в 1949 году, в Париже, Георгий Иванов писал о том, что вокруг Блока ещё долго будут идти противоречивые толки. Если теперь не идут, то лишь потому, что в России он забыт как «несозвучный эпохе», а в среде эмиграции – «в силу всё возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни». И прозорливо утверждал: «Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди останутся русскими людьми».
А толки и кривотолки вокруг «Двенадцати» начались сразу же после её опубликования. И вызваны они были, прежде всего, смятенностью душ и расстроенностью сознания. Ведь это было время, когда по словам Андрея Белого, «появись «Нагорная проповедь» в 1918 году, то и она рассматривалась бы с точки зрения «большевизма» или «антибольшевизма». Люди ведь, как правило, требуют от поэта служения тому, чему они служат сами – зримому, внешнему миру. А дело поэта неизменно, оно незримо и крылато.
Но толки вызваны были и самим характером поэмы, тем, что она, как и всякое великое творение, не позволяла рассматривать себя с точки зрения хулы или хвалы действительности. Как, впрочем, и с точки зрения принятия или непринятия революции… Большевистская власть относилась к «Двенадцати» настороженно потому, что, как она считала, Блок ставил старые символы у врат новой действительности. Для тех, кто боролся с большевиками, Блок «кощунствовал», ибо именем Христа, освящал революцию, разбойников: «На спину надо б бубновый туз!» И те, и другие были по-своему правы, в силу своего политического разумения. И те, и другие не прозревали того, что было постигнуто и изображено поэтом.
Уже через шесть дней после публикации поэмы, которую жена поэта Любовь Дмитриевна Менделеева читала на поэтических вечерах, А. Блок 9 марта заносит в записную книжку: «О.Д. Каменева (комиссар Театрального отдела) сказала Любе: стихи Александра Александровича («Двенадцать») – очень талантливые, почти гениальное изображение действительности, Анатолий Васильевич (Луначарский) будет о них писать, но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся. Марксисты умные, – может быть, и правы. Но где же опять художник и его бесприютное дело?».
Между тем, как изначально поэт почувствовал в большевиках большую энергию, чем в их противниках. В письме к Л.Д. Менделеевой 28 мая 1917 года задолго до революционного переворота, он сообщал: «Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название большевизма». «Страшная», видимо, потому, что это неизбежно влекло за собой радикальное переустройство жизни, которое благостным и безболезненным не бывает. А в ходе работы над поэмой, 18 января 1918 года записывает в дневнике: «Вот что я ещё понял: эту рабочую сторону большевизма». И чуть позже, 31 января: «Октябрьский переворот всё-таки лучше февральского (немного пахнет самодержавием)».
10 марта А. Блок размышляет в дневнике в связи с реакцией властей на поэму «Двенадцать»: «Марксисты – самые умные критики и большевики правы, опасаясь «Двенадцати». Но… трагедия художника остаётся трагедией. Кроме того: Если бы в России существовало действительно духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы «учло» то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Едва ли можно оспаривать эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нём. У нас, вместо того, они «отлучают от церкви», и эта буря в стакане воды мутит и без того мутное (чудовищно мутное) сознание крупной и мелкой буржуазии и интеллигенции. «Красная гвардия» – «вода» на мельницу христианской церкви (как и сектантство и прочее, усердно гонимое). Как богатое еврейство было водой на мельницу самодержавия, чего ни один «монарх» вовремя не расчухал. В этом – ужас (если бы это поняли). В этом – слабость и красной гвардии: дети в железном веке; сиротливая деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки. Разве я «восхвалял»? (Каменева). Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа»…».
Были и расхожие суждения о поэме бульварной прессы. 14 марта А. Блок отмечает в записной книжке как «Угрюмый день». И вклеивает вырезку из газеты «Петроградское эхо»: «За последнее время Блок написал целый ряд стихов в большевистском духе, напоминающих солдатские песни в провинциальных гарнизонах. То, что Блок сочувствует большевикам – его личное дело. В своих убеждениях писатель должен быть свободен, и честь и слава тому, кто во имя этих убеждений смело идёт против течения, – но зачем же писать скверные стихи? Когда любят девушку – ей несут в виде подарка золото и цветы, и никто не несёт кожуру от картошки».
Но помимо всех этих толков была и реакция «общественного мнения», «бюрократии общественной». Эта реакция, как и всегда у нас со времён А. Пушкина и М. Лермонтова была самой не безобидной… После статьи «Интеллигенция и революция» 22 января: «Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья «искренняя, но нельзя простить». Господа, вы никогда не знали России и никогда её не любили! Правда глаза колет». В неотправленном же письме З. Гиппиус он писал, что «нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й». «16 февраля. Г-н Пришвин хаит меня в «Воле страны», как не хаял самый лютый враг». («Большевик из балаганчика»)». Правда, потом, многие годы спустя М. Пришвин раскаиваясь, сам удивлялся тому, как он мог не разглядеть того, что так глубоко и ясно было постигнуто А. Блоком… 13 апреля поэт отмечает в записной книжке: «А З.Н. Гиппиус меня и за человека не считает». Она под именем Антона Крайнего в вечерней газете «Новые ведомости» публикует статью «Люди и нелюди». О представителях художественной интеллигенции, сотрудничающих с Советской властью, Блоке, Бенуа, Есенине там было сказано: «Они не ответственны. Они – не люди».
13 мая на вечере «Арзамаса» в Тенишевском училище, где Любовь Дмитриевна читала «Двенадцать», отказались участвовать Пяст, Ахматова, Сологуб. Именно потому, что читалась поэма. А ранее, 17 марта Андрей Белый пишет А. Блоку остерегающее и тревожное письмо: «Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) – огромны и эпохальны, как «Куликово Поле». … По-моему, Ты слишком неосторожно берёшь иные ноты. Помни – Тебе не «простят» «никогда»… Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знамени Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим. Помни: Ты всем нам нужен в… ещё более трудном будущем нашем… Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность». И ведь не простили-таки (см. «Пред ликом родины суровой я закачаюсь на кресте». О тайне смерти Александра Блока. (В кн. «Трагические судьбу русских писателей», М., «Звонница-МГ», 2020).
Примечательно, что А. Белый видит опасность, грозящую поэту не за поэму «Двенадцать», не за «кощунство», а за стихотворение «Скифы». Ведь в этом стихотворении А. Блок постигает совершенно новое положение России в мире, то, что он определил как «Азия – Европа». Среди почитателей и друзей поэта ходило мнение, что «Двенадцать» соответствует «Медному всаднику», а «Скифы» – «Клеветникам России». И это действительно так. Неслучайно наши неолибералы и до сих пор не могут простить Александру Блоку «Скифов». Во всяком случае, в начале 90-х годов ни в чём не усомнившись, демагогически поносили его за якобы торжество грубой физической силы. Пред этим и «кощунство» поэта в «Двенадцати» забылось…
Но обратимся собственно к поэме «Двенадцать». Само название поэмы, то, что красногвардейцы идут за Христом, их имена – всё говорит о том, что поэма имеет Евангельскую основу. Казалось бы, Блок, всю жизнь читавший Евангелие, но, приступая к поэме, вновь перечитывает его. 10 января записывает: «Мама прислала Евангелие». В высшей мере примечательно, что не до написания поэмы, а уже потом, когда она была создана, у поэта появляются «страшные» мысли. 18 февраля он отмечает в записной книжке: «Что Христос идёт перед ними – несомненно. Дело не в том, «достойны» ли они его, а страшно то, что опять Он с ними, и Другого пока нет; а надо Другого? – Я как-то измучен…». 20 февраля заносит в дневник: «Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, который идёт с ними сейчас, а в том, что именно Он идёт с ними, а надо, чтобы шёл другой?».
Эти думы о Другом, безусловно, являются неким распространённым в обществе богоискательским влиянием и поветрием, которое всегда есть первый шаг к атеизму. Но поэт после страшных и мучительных мыслей оставляет Христа с народом. С таким народом, каков он есть – истерзанным революцией, изверившимся и «кощунствующим»… Но разве поэт и персонажи его поэмы кощунствуют? Если и кощунствуют, то как-то странно. Здесь нет богоборчества, так как с первых строк признаётся Божие устройство мира: «Ветер, ветер – на всём Божьем свете! И тема поэмы – не столько революционное шествие красногвардейцев «державным шагом», а – брань духовная, так как враг незрим: «Их винтовочки стальные / На незримого врага». Так неучтиво – о священнике: «Что нынче не веселый, / Товарищ поп?». И одёргивание Петьки, чтобы он «не завирался»: «От чего тебя упас/ Золотой иконостас?». Но это ведь вовсе не о вере, не против веры, а скорее о земной церкви. Бог не бывает поругаем, а с церковью бывает всякое…
Вот она – драма русской жизни: «Мировой пожар в крови – Господи, благослови!» На мировой пожар, на революцию, атеистическую по самой своей природе, на право пальнуть пулей в «Святую Русь» испрашивается благословение… у Господа. Это кажется недопустимым, невозможным и немыслимым. Но в таком случае это – не «кощунство», а нечто совсем иное, разумом непостижимое. Как это просить благословения у Господа на такое? Это возможно лишь при условии, если человек остаётся с Богом. Неверующие, атеисты, нехристи к Богу не обращаются… Так трудно у нас в России оставаться верующим, правоверным. Нет спасу от указывающих «дорогу к храму»…
Россия гибнет? России больше нет? Да нет же: «А – ты всё та ж, моя страна/ В красе заплаканной и древней». А если революция – не гибель тысячелетней России, а закономерная трагедия, выходящая из её предшествующей трагедии? Да, народ оказался с атеистической властью. Так доняла его синодальная церковь. Разве не было у нас Раскола и не было трёхсотлетнего гонения за правую веру с такой жестокостью, до какой не доходили атеистические большевики? Когда читаешь «Двенадцать статей» царевны Софьи, кровь стынет в жилах. Это – вам не двенадцать красногвардейцев, «без имени святого», со «святой злобой», которым «ничего не жаль». И будем всё же помнить о том, что патриаршество в России упразднено царём, а восстановлено лидером правящей партии, в советское время…
Об этом главным образом поэма Александра Блока «Двенадцать». Об этом свидетельствует её финал, где – «И за вьюгой невидим/ И от пули невредим»;
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос.
Имя Спасителя дано в староверческом, старообрядческом написании – Исус, а не в позднейшем, синодальном Иисус… Как тут не согласишься с О. Мандельштамом, писавшим: «Не надивишься историческому чутью Блока. Ещё задолго до того, как он умолял слушать шум революции, Блок слушал подземную музыку русской истории…». Очевидно, что только для записных «патриотов», как прошлых, так и нынешних, А. Блок всё ещё остаётся «декадентом». И они сдали его наследие на растерзание либералам. Разумеется, в их идеологических целях. Сдали тем, для кого народ в своей «святой злобе» представляется «падшим»… И они снисходительно спускались к народу, дабы его обличить и вновь «исправить». Но кто спускается к народу, по словам самого поэта, тот проваливается…
Если красногвардейцы идут за Христом, олицетворяющим старую, правую веру, это значит, что идеалом человеческой жизни для них остаётся тот уклад, до Никоновской «реформы», точнее до погрома Православной церкви. А то, что было после «реформы», после раскольничьего Собора 1666-1667 годов, подлежит революционному уничтожению. Значит они в своём революционном порыве разрушают не христианский мир вообще, но «старый мир» – «с попом», «иконостасом», но без веры… Потому у них «злоба святая», какой она, вроде бы, и быть не может: «святая» – то есть, не беспричинная. Видимо, поэтому такой, казалось, верующий народ вдруг стал «атеистом». Не атеистом, а что называется, довели, допекли беспрестанными насилиями, такими, пред которыми меркнут насилия революционеров, с сожжением на кострах, как в западной инквизиции… Иначе объяснить появление в поэме имени Спасителя в таком его написании, пожалуй, невозможно. Очень важно, что богоборческих мотивов в «Двенадцати» нет, при всём при том, что герои поэмы «без имени святого». Есть антицерковные настроения, но это ведь не одно и то же, это ведь совсем не богоборчество и даже не атеизм. Разумеется, без «посредничества» земной церкви человеку никак не уверовать. И те, кто сетуют на то, что у этой церкви много обряда и догмата и мало истинной веры, а потому – де они, как Моисей, обращаются к Богу «напрямую», тем самым, демонстрируют своё безверие и духовную несостоятельность. А вот почему в народе эти антицерковные настроения оказались столь сильными, настроения, ставшие водой на мельницу революционным разрушителям, на этот вопрос художник обязан ответить. И Александр Блок в своей поэме «Двенадцать» на этот вопрос отвечает. Не декларативно, конечно, а иносказательно. Если в стихотворении «Скифы» А. Блок представляет новое положение России в мире: «Азия и Европа», то в поэме «Двенадцать» он представляет новое положение и состояние человеческой личности в условиях разбушевавшейся стихии, («чёрного ветра»), с которой и царям не совладать. Как существо духовное, человек не может быть без веры. А значит богоборчество, атеизм выходом из этого положения быть не могут, не являются по определению. Это скорее срыв, крах личности, выход её за пределы своей природы, извращение пути своего на земле. Но если предстоит «переделать всё», значит надо заменить и Его? Значит, надо выбрать и другого Бога? Нет, Другого символа веры, другого Спасителя быть не может, как не может быть служения иным богам, ибо это означает гибель личности: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам» (Второзаконие, 11, 16). Другого не может быть так же, как не может быть выбора веры, ибо вера – не одёжка, которую можно сбрасывать в зависимости от погоды, то есть, в зависимости от тех или иных условий человеческого бытия. Значит, должна быть не другая, а истинная, правая вера. И поэт после страшных мыслей, несмотря ни на что, оставляет народ с Христом. Оставляет русского человека не только с его исконной верой, но – с правой верой…
Сам поэт колебался идти к Исакию. В одном из писем 8 января 1921 года к Н.А. Коган признавался со «слепнущими от ужаса глазами»: «Поймите, хотя я говорю это, говорю с болью и отчаянием в душе; но пойти в церковь всё ещё не могу, хотя она зовёт». А в статье «Интеллигенция и революция» писал столь страстно, что от этого и до сих пор приходишь в смущение: «Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и клёнами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью.
Всё – так. Я знаю, что говорю. Конём этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности: а все, однако, замалчивают.
Я не сомневаюсь ни в чьём личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. …Дворец, разрушаемый – не дворец. Кремль, стираемый с лица земли – не кремль. Царь, сам свалившийся с престола – не царь. Кремли у нас в сердце, цари – в голове. Вечные формы, нам открывающиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой».
Может быть, из этого уже извлечён урок и не пристало нам вспоминать старое? Как бы не так. Канонизирован же Максим Грек, осужденный двумя церковными Соборами за еретическую правку богослужебных книг. Канонизирован к 1000-летию Крещения Руси. Ну, называется же преподобный Иосиф Волоцкий российским, в духе либеральных газет, а не русским Чудотворцем… И «правка» в молитвы вносится, в которых «он уже не русская, а российская звезда» (тропарь, глас 5). В этом всякий может убедиться по многим изданиям Иосифо-Волоцкого монастыря. Конём этого действительно не объедешь…
Революционное крушение страны, точнее – её государственности, Александр Блок воспринимал как неизбежный и закономерный итог проводимой несправедливой политики. Пред ним, как ни пред кем из его современников во всём трагизме предстала не тема даже, а огромная духовная человеческая задача возмездия. Это было под силу только человеку «бесстрашной искренности» (М. Горький). Нам трудно теперь даже представить переживаемое им и его современниками. Но о многом говорит это: А. Блок, стесняющийся получать в Союзе писателей, причитающуюся ему ржавую селёдку, и И. Бунин, – уплывающий в эмиграцию, покидающий Россию навсегда, и требующий у капитана особых, «соответствующих» его статусу, привилегированных условий… Тут ни сорок Моисеевых, ни семьдесят советских лет не вразумляют… Соотносить изображённое А. Блоком в поэме «Двенадцать» с происшедшим в девяностые годы нашего времени, потрёпанном неореволюционным анархизмом и беззаконием, страшно, как заглядывать в некую разверзшуюся бездну…
В поэме «Двенадцать» нет оправдания, апологии революции, как нет их и в статье «Интеллигенция и революция», хотя в ней заметили в основном «музыку революции», то есть то, что поэт якобы одобрял хаос революции. Но эта статья о другом, о том, как растленная радикальная интеллигенция с революционным сознанием приближала революцию, а потом в ней разочаровывалась: «Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастьем ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг – сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), – бегать кругом и кричать: «Ах, ах, сгорим!» Я не говорю о политических деятелях, которым «тактика» и «момент» не позволяют показывать душу… Я говорю, о тех, кто политики не делает; о писателях, например, (если они делают политику, то грешат против самих себя, потому что «за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь»: политики не сделают и свой голос потеряют)». И ведь не сделали, и потеряли…
В «Записке о «Двенадцати» А. Блок писал: «Посмотрим, что сделает с этим время». С поэмой «Двенадцать» сделалось то же, что и со всей русской литературой: по сути, изъятие её из общественного сознания и изгнание из образования, сбрасывание с «корабля современности» теперь уже иным, «рыночным» способом. Опять – революция, как разрушение, но теперь уже криминальная и бескрылая. Без всяких не то, что идеалов, но и каких-либо порывов. Это – реабилитация всего самого низкого в человеке. Истребление всего живого. Безответственное потребление, а на деле – «печной горшок», который якобы всего дороже, и то – полупустой…
Но ведь возрождается духовность – слышу возражение вышколенного лукавой информационной пропагандой обывателя. Но так, по указанию и разрешению «дорога к храму» не обретается. Так она скорее теряется. На это можно сказать Евангельской мудростью, что «бес дважды в одном и том же обличии не приходит». Или – стихами современного талантливого поэта Николая Зиновьева: «Ужасная эпоха. / За храмом строим храм. / Твердим, что верим в Бога, / но Он не верит нам…».
Те, кто по своей порочности сделал это преступление разрушения страны, говорят, что социалистический «эксперимент» в России не удался, что мы семьдесят лет «падали». Но то, с какими остервенением и злобой, с каким обманом разрушался наш уклад жизни, стяжаемый такими трудами и жертвами, свидетельствует об обратном. Говорит о том, что потому он так нещадно и разрушался, что был неким новым шагом в человеческой цивилизации, что его следовало развивать и совершенствовать, а не отбрасывать и не ломать. Это подтверждается и тем, что разрушители взамен отброшенного ничего положительного предложить не смогли. Не смогли по самой своей упрощённой природе. И человека, сотворённого по Божиему образу и подобию, выделенного душой и разумом из природы, возвратили в стойло окаянства, к «печному горшку», к корыту (потребительству), в звериное состояние, когда «в человеке просыпается обезьяна» (И. Бунин).
И сколько теперь народных сил необходимо для преодоления этого срыва, этого зигзага истории, провала в нашем цивилизационном развитии… Этому всему укором незыблемо стоит поэма «Двенадцать». Новой поэмы о новой революции нашего времени не появилось. О той и об этой революции, о всех революциях и более ста лет спустя, продолжает говорить поэма Александра Блока «Двенадцать». А стихотворение «Скифы», соотнесённое с нашим временем, поражает своим пророчеством:
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Вот – срок настал. Крылами бьёт беда,
И каждый день обиды множит,
И день придёт – не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
Пётр Ткаченко
На фото: А. Блок в Белоруссии во время военной службы. Парохонск, 1916 год.

Давайтэ трохэ побалакаем

Редакция «НГК»
Во второе издание книги Петра Ткаченко вошли наиболее интересные и образные слова и фразы из авторского словаря писателя «Кубанский говор. Балакачка».
В издательстве «Традиция» вышло второе издание книги Петра Ткаченко «Давайтэ трохэ побалакаем… Слова и фразы кубанского диалекта». В неё вошли наиболее интересные и образные слова и фразы из авторского словаря писателя «Кубанский говор. Балакачка».
Особенностью словаря является то, что для пояснения значения слов автор широко использует пословицы и поговорки, тексты народных песен, а также приводит примеры из литературы, как художественной, так и исторической.
Это – малоформатное издание словаря диалекта, удобное для повседневного обращения к нему. Книжка прекрасно издана.
Литературная конференция в Крымске

Фашисты называли их «ведьмами», а мы называем их «ласточками»
Южное окружное подразделение Союза литераторов России приняло участие в недавно прошедшей конференции в г. Крымске. Делегацию из 10 чел представлял руководитель ЮОП СЛ РФ Кохнович Михаил Александрович, в т.ч. из членов Союза литераторов России были Вячеслав Губарь, Лидия Алёхина, Татьяна Севастьянова. Из литобьединения «Истоки» (г. Новороссийск) Николай Луцепей, Елена Непиющая и др. Прочли патриотические стихи Михаил Кохнович, Лидия Алёхина, Вячесла Губарь и редактор журнала «Литературный Юг» Копырина Ольга Николаевна, посвятив стихи замечательному лётчику-поэту Крониду Обойщикову.
Кстати, в первом номере этого журнала размещена исследовательская работа полковника авиации Валерия Кушнерёва о лётчиках-кубанцах. 70 процентов журнала посвящено военной тематике, в том числе глава из труда Александра Липина, исследователя, сотрудника Крымского краеведческого музея. Его многолетняя работа под названием «Календарь победителей» не осталась не замеченной, она достойна издания большим тиражом и государственной поддержки. Чего пока нет.
На конференции была представлена вторая работа Александра Липина «Берегини фронтового неба», которая стала тематической основой для проведения конференции. Всего в конференции участвовало около пятидесяти человек.
Конференция на тему «Берегини фронтового неба», о героическом подвиге 46-го женского авиаполка под командованием Евдокии Бершанской (Рачкевич), 23 лётчицы 46-го полка заслужено стали героями Советского Союза. Среди авиаполков Великой Отечественной удостоившихся этого звания в нем оказалось больше всего.
Неслучайно 1 августа прошла трёхдневная конференция. Именно в этот день в 1943 году на кубанской земле погибло сразу 4 экипажа. В ночь погибли: Анна Высоцкая со штурманом Галиной Докутович, Евгения Крутова со штурманом Еленой Саликовой, Валентина Полунина со штурманом Глафирой Кашириной, Софья Рогова со штурманом Евгенией Сухоруковой. Они кошмарили тыл немцев внезапной бомбардировкой ночью, сбрасывая бомбы на вражеские укрепления по «Голубой линии. Благодаря женскому авиаполку и другим армейским соединениям на третий раз советским войскам удалось прорвать немецкую оборону, что послужило для дальнейшего и более скорого продвижения Советской Армии при освобождении Крыма, Приазовья и Украины.
На конференцию прибыла делегация активистов из Новочебоксарского химико-механического техникума из Чувашской Республики, а также делегации из станиц и городов Кубани. Прибыли те, чьей души коснулась тема вживую и те, кто участвовал в поисковых отрядах, восстанавливал имена погибших, находил места их гибели и организовывал торжественное захоронение героев Великой Отечественной войны - молодых лётчиц, которых фашисты в страхе называли «ведьмами», а мы называем – «ласточками».
Фронтовые «Ласточки» над Кубанью
Мечта летать не стала былью
По-над Кубанью голубой,
Взлетали "ласточки" беспыльно,
Неся с собой подарок в бой,
Бесшумно отцепляя бомбы,
Застав в ночи врага врасплох.
Ещё назад вернуться чтобы
Живыми всем – на здравый вдох...
Ведь экипажам знать по праву:
Освоить У-2 не предел.
Кричать не принято им "браво!".
Побед ещё пилот хотел.
И месть к ночи вновь нарастала.
За смерть подруг(!), как мантра та.
Приказ Бершанской "От винта!"
Штабы горели и составы,–
И наши лётчицы, как «ведьмы»,
Страх нагоняли на врагов.
Лишь стоит выдать цель разведке,
Как подвиг к утречку готов.
Не помнит молодость другими
Их – не целованных трусих.
Без парашютов, как нагие,
Но свет сиял с улыбки их.
И в нашей памяти, возможно,
Их бьются ритм и глас не смолк.
Надолго след оставил Божий, –
Любви к Отчизне женский полк.
После войны комиссар полка Евдокия Бершанская на деньги, собранные всем полком, объездила все места, где гибли самолёты, и разыскала могилы погибших.
Следопыты и поисковые отряды на месте боёв за Крымск, за освобождение Кубани десятилетиями продолжали и продолжают патриотическую работу по восстановлению всех павших в степной в предгорной местности Краснодарского края. Помогают в этом деле студенты из учебных заведений из Чувашской Республики, которые были участниками конференции «Берегини фронтового неба».
Организаторы конференции: Администрация Крымского района Краснодарского края, Отдел культуры, Краеведческий музей г. Крымска.
Делегацию из Чувашии представляла Селиванова Людмила Ивановна.
В Крымском районе по сей день ведется огромная работа по сохранению памяти о днях Великой Отечественной войны. Безусловно, это заслуга талантливых людей, весь свой труд, посвятили этой работе. Ященко Галина Адольфовна, Липин Александр Викентьевич, Терновская Лидия Федоровна – долгие годы они работают в районном обществе историков-архивистов.
Михаил Кохнович
Хранитель традиционной культуры
Писателю – литературному критику, публицисту, прозаику Петру Ткаченко 15 июня исполнится 75 лет
Он родился на Кубани, в станице Старонижестеблиевской. Окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное военное училище и Литературный институт по семинару критики. Служил в войсках. Работал в журнале «Пограничник», газете «Красная звезда», в Военно-художественной студии писателей, главным редактором редакции художественной литературы книжно-журнального издательства «Граница». Полковник в отставке.

Ткаченко - автор многих книг, в том числе «Где спит казацкая слава», «Не для меня придёт весна», «На Ольгинском кордоне», «Возвращение Екатерины», «Слово о Мараварской роте», «Особая рота. Подвиг в Мараварском ущелье», вышедших в Екатеринбурге, Минске и в московском издательстве «Эксмо-Яуза», «В поисках града Тмутаракани. Невостребованные размышления о русской литературе и жизни», вышедшей в издательстве МГУ, «Кубанские зори», «Драма грозного царя», «Когда же произойдёт смена вех? (Новая смена вех)», «Встретимся на том свете или Возвращение Рябоконя», «Кубанские пословицы и поговорки», «Кубанские обряды». «Кубанская свадьба», «Кубанский лад. Традиционная народная культура: вчера, сегодня, завтра», «Кубанские байки. Та брехня, что лучше правды», «Кубанские песни. С точки зрения поэтической», «Пословица не сломится», «Щедрый вечер, добрый вечер».
В своих этнографических изданиях, составивших целую серию в полтора десятка книг, автор зафиксировал состояние традиционной народной культуры, именно в то время, когда она, во второй половине 80-х годов, стала явно уходить из нашей повседневности. А потому, к этим книгам читатели несомненно будут ещё возвращаться. Вот уже четверть века, как школьники изучают кубановедение (краеведение), в том числе, и по его книгам.
В своих литературоведческих книгах по прочтению вершинных творений великой русской литературы, писатель отмечает то, что ранее по разным причинам осталось незамеченным: «До разгрома и после него», «Какую Библию читал М.А. Шолохов», «Трагические судьбы русских писателей» (М. Лермонтов, А. Блок, А. Фадеев, М. Шолохов, М. Цветаева, Н. Рубцов, В. Белов, Ю. Кузнецов), «Поиски Тмутаракани. По «мысленному древу»: от «Слова о полку Игореве» до наших дней», «Никем не званый…» Александр Блок в поисках образа России» и других.
С литературно-критическими повестями о русской литературе он постоянно выступает не только в московских журналах и альманахах «Наш современник», «Московский вестник», «У Никитских ворот», но и во многих журналах России: «Дон», «Подъём», «Дальний Восток», «Аргамак. Татарстан», «Двина», «Огни Кузбасса», «Стратегия России», «Берега». В интернет-изданиях – «Русская народная линия» и других, в «Новой газете Кубани», в газете «День литературы».
Петр Ткаченко также является составителем популярных сборников воинских песен «Офицерский романс», «Военный романс» и других, в том числе песен афганской войны.
Пётр Иванович – составитель первого словаря кубанского диалекта за всю его историю – «Кубанский говор. Балакачка», вышедшего уже пятью изданиями. Издатель авторского литературно-публицистического альманаха «Солёная Подкова» по названию лечебного грязевого озера близ его родной станицы. Как говорит сам писатель, там исцеляются не только от недугов телесных, но и духовных…
Катерина БЕДА
Станица Старонижестеблиевская
Краснодарского края
Новые книги писателя

Славны были наши деды… Запоздалые и современные рассказы. Ненаписанная повесть. / П.И. Ткаченко – М.: издательство ВИТА-ПРЕСС, 2024 – 544 с. : ил.
В книгу вошли избранные рассказы и документальная повесть. Проза писателя не совсем обычна. Она строго документальна, исторична и биографична. Но вместе с тем это не история, не этнография и не бытописательство, но именно художественное, образное повествование. В реальной жизни, как прошлой, так и нынешней, автор находит такие поразительные переплетения событий и человеческих судеб, для постижения которых как бы и не требуется вымысла. За многие годы у него выработался своеобразный стиль, когда тексты сопровождаются фотографиями, как бы компенсирующими нынешнюю неслышимость слова. Фотография, таким образом, становится неотъемлемой частью художественного повествования.
Это – новый вид реализма, продиктованный временем, состоянием и положением литературы в обществе. Автор пытается выявить, прежде всего, духовные и мировоззренческие основы нашего бытия. Это – исповедальные рассказы о трудных судьбах простых людей, исполненных духовной высоты и человеческой красоты, которые не могут быть развеяны никакими вселенскими ветрами. В книгу также вошла повесть «Возвращение
Рябоконя» о событиях Гражданской войны в приазовских плавнях и их осмыслении не с точки зрения той или другой противоборствующей стороны, но с точки зрения народного самосознания. Эта книга представляет собой художественную летопись не только кубанской жизни со своими героями и антигероями.

Прекрасная Елена из Дербентской. Военные рассказы для детей старшего возраста. / П.И. Ткаченко – М.: издательство ВИТА-ПРЕСС, 2024. – 160 с.: ил.
В книгу вошли рассказы о Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.), о том, как отзывается война в судьбах людей, как пробуждает в них силу духа и делает их непобедимыми. Автор открывает имена героев, рассказывает о кубанской Зое Космодемьянской – Лене Варченко. В книгу вошли также рассказы о продолжающихся войнах.
Эта книга писателя подтверждает истину о том, что нельзя забывать прошлое, нельзя забывать о людях, отдавших свою жизнь за Родину. Нет будущего у того, кто забудет о трудной и героической судьбе страны и народа
Литературное творчество жителей юга России
«Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...»
«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, как памятник русского народного самосознания

Берегитесь, чтобы не обольстилось
сердце ваше, и вы не уклонились,
и не стали служить иным богам.
Второзаконие, (11;16).
Если бы я писал привычное, стереотипное литературоведение, какое преобладает у нас издавна, я назвал бы эти размышления, скажем, так: «Образ коня в русском самосознании» и, в частности, в литературе. При этом по непременным условиям и этикету такого литературоведения обязательно постарался бы охватить, так сказать, всю полноту вопроса, аккуратно сославшись на каждого автора, когда-либо этой темы касавшегося, ибо полнота охвата темы по канонам такого литературоведения и является зачастую, кажется, основным признаком научности. При этом новизна взгляда, вроде бы, и необязательна…
Но, уважительно относясь к традиционным филологическим изысканиям, так как они действительно многое дают и на многие мысли наводят, я тем не менее пишу литературоведение нетрадиционное, непривычное, не то, где демонстративная полнота охвата темы составляет единственную цель предпринимаемого труда и где образной природе литературы и духовной природе человека, которые собственно и призваны объяснять литературоведение и критика, переводя их на язык обыденной логики, по сути, не находится места… Более того, именно образная природа литературы по условиям такого социального, преобладающего у нас литературоведения, выставляется не непременным её условием, а недостатком, мешающим её объяснению. А потому классики русской литературы, по такой логике вечно «ошибаются», вечно чего-то «недопонимают» не в пример их «прогрессивным» толкователям. На самом деле, классики «ошибаются» лишь потому, что полнотой постижения жизни и многомерностью художественной мысли не вмещаются в те куцые стереотипы, в которые уверовали их идеологизированные толкователи.
Так происходит, видимо, и потому, что приверженцы традиционного литературоведения заранее знают ответы на задаваемые ими вопросы. Я же и сам пока не знаю, в какие сферы народного самосознания заведёт меня избранная тема, так как цель моего писания – прежде всего самому разобраться в тех понятиях, которые не соответствуют истине, не смотря ни на какую их расхожесть.
Будем помнить о том, что «чем злободневнее (то есть «безыскусственнее») произведение художника, тем более оно поддаётся толкованию. И наоборот: чем больше в нём элементов искусства, тем в более смешное положение попадает критик, его толкующий» (А. Блок, «Об искусстве и критике»). А потому сразу отмечу, что простых и лёгких толкований вершинных творений великой русской литературы просто не бывает.
У нас ведь ещё со времён неистового Белинского повелось, что критика должна быть непременно и обязательно обзорной и публицистической, а ещё более – социальной. То есть якобы разрешающей некие злободневные вопросы жизни, к чему литература не призвана в принципе по самой своей природе, как выразительница души человеческой и народного самосознания. Такого утилитарного предназначения литература просто не имеет. Во всяком случае – это далеко не основное её свойство. И этот, внешне вроде бы самый кратчайший и эффективный по воздействию на читателя путь, оказывается на деле самым длинным, самым окольным, заводящим человека в глухие тупики позитивизма и материализма, вульгарного социологизма и бездуховности. Поистине, всё тут свершается по евангельской мудрости: «Многие же будут первые последними, а последние первыми» (Евангелие от Матфея, 19-30).
Тут кроется основная подмена понятий, происшедшая в русской литературе, что позволяло Александру Блоку с полным правом судить столь строго Белинского в статьях об Аполлоне Григорьеве, который, безусловно, представлял альтернативу в русской литературе и общественной мысли тому социальному направлению, которое было навязано довольно бесцеремонно под водительством Белинского. Разумеется, из самых лучших побуждений. Это давало право Блоку столь резко отозваться о Белинском в дневнике: «Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли»… Отсюда – начало порчи русского сознания – языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве, вплоть до мелочи – полного убийства вкуса» (11 февраля 1913 г.) Почему такая порча всё-таки произошла, в результате каких соблазнов, и к каким трагическим для народа последствиям неизбежно привела – тема отдельного, более обстоятельного разбирательства. Теперь же важно отметить то, что она имеет давнюю историю и вовсе не была явлением только двадцатого века, советского периода истории.
И хотя такая предвзятая социальная установка в литературе, опрометчиво запущенная в общественное сознание, никогда не приводила к разрешению этих самых вопросов жизни, а наоборот заводила литературу в дебри позитивизма, материализма и вульгарного социологизма, отрицая образную природу её, а стало быть, оскопляя всё многообразие жизни, пример и стереотип такой критики стал удивительно заразительным. И даже теперь, когда литературно-художественный процесс оказался разрушенным, а литература сведена на уровень пресловутого шоу-бизнеса, по старой привычке всё ещё пишутся литературно-критические обзоры, несмотря на то, что почти ничего, из обозреваемых книг и произведений, до читателя не доходит. То есть, такие обзоры пишутся в пустоту, хотя, безусловно, и имеют какое-то информационное значение. Но мы-то говорим о понимании и толковании литературы, а не информации о ней, так как сам факт публикации в наше время зачастую не имеет никакого культурного значения.
Казалось бы, что, пережив такой страшный лукавый идеологический двадцатый век, трагедии которого в иной, конечно, форме, но имеющие всё ту же природу, продолжились и в нашем веке, литературоведение и критика займутся, наконец, самосознанием народа и духовной природой человека, то есть собственно предметом самой литературы. Увы, этого не произошло.
Между тем, как обращение к образу, как наиболее полному и общему постижению вещей этого мира, свойственно человеку изначально. Не благозвучия слога ради и украшательства текста, как были поняты образность и художественность в наше «цивилизованное» время, а именно для постижения сути вещей этого мира и тайны человеческого бытия. Вспомним евангельскую мудрость: «И приступив, ученики сказали Ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано… Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют» (Евангелие от Матфея, 30, 10-13). Или в «Молении Даниила Заточника»: «Да раскрою в притчах загадки мои». То есть к образности люди изначально прибегали потому, что с помощью неё можно было достичь того, чего невозможно было достичь другими формами сознания, – из-за её, так сказать, универсальности и ничем незаменимости. Но, к сожалению, наше позитивистское сознание и самой притче придаёт значение не иносказательное и образное, а поучительное и дидактическое (см. «Притчи». М., «Мирос», 1994 г.) Образный – это, прежде всего, сущностный, вбирающий в себя главное содержание. Ведь само слово образ происходит от – резать (М. Фасмер), обрезать, и надо полагать, удаляя всё лишнее, оставляя лишь основное. Образ – значит вещь подлинная, истинная, достойная подражания. Отсюда – образец, служащий эталоном и мерилом.
Отсюда так же происходит и – образованный, образование. То есть, первоначальное значение слова образованный значило мыслящий образами. Подозреваю, что слово безобразный, как некрасивый, неприглядный, уродливый происходит от – без образный… Ну, и главным подтверждением огромного значения образного мышления в русском самосознании является то, что иконы у нас называются образами.
Можно сказать, что образное мышление является вершинным проявлением самопознания человека. И свойственно оно человеку искони, так как ни одна из философий не в силах объяснить ход истории до конца и тайну человеческого бытия. А потому уклонение от образности, вытеснение её из общественного сознания, является верным признаком общего упадка жизни, сопровождаемого риторикой о прогрессе, предполагающем конечное познание жизни, то есть её обессмысливание и катастрофический перерыв в её постепенности. И, действительно, в последующем это основное значение понятия и слова подвергается подмене. Образ уже понимается всего лишь как внешний вид, очертание. То есть, слово искажается на прямо противоположное значение – вместо главного, сущностного, оно понимается как внешнее.
Этот малый экскурс в этимологию слова образ совершенно необходим для понимания дальнейшего повествования. Тем более, что у нас сложилось, довольно странное соотношение искусства и жизни. И хотя понятно, что «где нет жизни, там не может быть художества» (Н. Страхов), издавна и последовательно жизнь противопоставляется искусству, то есть образному мышлению, без которого постижение человеческого бытия немыслимо, и которое, просто подавляется и вытесняется «самой жизнью», что сопровождается демагогией об «искусстве для искусства», понятием абсолютно невразумительным, не имеющем предмета обозначения, то есть, говоря современным языком, – виртуальным…
Образная природа литературы с её стремлением к идеалу, а значит, и «несоответствие» её самой жизни, попадает в поле спекуляций. Мол, по причине именно своей образной природы литература не постигает жизнь, а стало быть, зачем нужна такая литература, нужна другая – нигилистическая, обличительная, социальная, выливающая на читателей ушаты помоев. Это якобы и есть «правда». Вот нехитрая логика вытеснения подлинной литературы из общественного сознания. Помимо финансового, «рыночного» механизма.
Александр Блок писал о том, что дело поэта – совершенно «несоизмеримо с порядком внешнего мира» и что возникают вопросы о проклятии искусства, о «возвращении к жизни». Но как понятно, только в такой «противопоставленности» жизни и поэзии, а не в безоговорочном их «слиянии», поэзия и может существовать и выполнять своё предназначение духовного просветления людей. Других же каких-то утилитарных или социальных задач, вопреки всем настойчивым и бесконечным утверждениям, у неё просто нет. Если же ей всё-таки навязываются «практические вопросы», ей не свойственные, она просто уходит из этого мира, оставляя человека теперь уже не терзаться над неизбежными вопросами бытия, а, погружая его в болезненное духовно-мировоззренческое состояние, которое, как правило, заводит человека в духовное и мировоззренческое сектантство, в светскую ересь, под которой я понимаю отступление от правосознания вообще и которая, мало чем отличается от ереси церковной.
В статье «О назначении поэта» А. Блок так же писал о том, что «поэт – величина неизменная», что «сущность его дела не устаревает», что он «сын гармонии» и что дело его вовсе не в том, чтобы «достучаться непременно до всех олухов». Велик соблазн «новой» литературы в каждую новую эпоху. На это тоже можно сказать словами Блока, что «несовременного искусства не бывает». Приходится отвлекаться, чтобы уточнять основные смыслы, так как они в нашем современном языке и сознании подвержены искажению. Тем более, что это имеет прямое отношение к теме моих размышлений – прочтению баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
Итак – образ коня в русском самосознании и в частности в литературе. Изначальная жизнь человека с конём выработали в его душе и сознании многогранный образ, далеко не сводящийся к бытовым реалиям и соответствиям. Да и не только в русском самосознании. В традиционных эпосах, пожалуй, всех народов есть этот образ (к примеру, см. Р.С. Липец, «Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе», М., «Наука», 1984 г.) Но мы всё-таки говорим о русском самосознании. И здесь есть свои особенности этого традиционного для многих народов образа.
Надо сказать, что эпические образы в народном самосознании и культуре обладают таким загадочным свойством, что, созданное на определённом этапе народного развития, не отмирает в последующие времена, не является чем-то архаическим, но остаётся живой реальностью. Прошлое здесь не отменяется и не заслоняется последующим. Это относится к былинам, народным сказкам, пословицам, многим эпическим песням, которые, так сказать, не воспроизводятся, вновь не пишутся, а создаются однажды и на все времена… В дальнейшем они могут или сохраняться, тем самым оберегая культурный код народа, или – искажаться. А потому мы можем вослед за Ф. Буслаевым сказать о том, что следует выставлять «народную поэзию в её настоящем свете, как постоянное, ни от каких случайностей независящее выражение мышления, впечатлений и чувствований народа». («Исторические очерки русской народной словесности и искусства», Санкт-Петербург, 1861 г.) Именно по этой причине на людях культуры лежит огромная ответственность за благополучие народа, так как всякая иная жизнь народа – (хозяйственная, социальная и т. д.), напрямую зависит от его духовно-мировоззренческого состояния, ибо в начале было слово… Но, к сожалению, русская народная культура и народное самосознание искажаются постоянно и методически, – неосознанно и злонамеренно, что сути дела не меняет. Всё народное зачастую представляется как нечто архаическое, отжившее, лубочное, что не только не может пробудить к нему любовь в новых поколениях, а разве что вызвать отвращение.
Наглядным примером такого искажения эпического образа является, к примеру, известная пословица украинского происхождения, вошедшая в русское самосознание, к сожалению, в искажённом виде: «На Тоби, Боже, шо мини нэ гожэ». То есть на Тебе, Боже, то, что мне не нужно. Странное всё-таки действо, отдающее душком откровенного атеизма. На самом деле в пословице говорится не о Боге, а о небоге, то есть нищем: «На тоби нэбожэ, шо мини нэ гожэ»…
Такой природой эпических образов объясняется тот, на первый взгляд необъяснимый и поразительный факт, что образ коня присутствует в поэзии даже тогда, когда люди перестали с ним общаться так, как в былые времена, когда и лошадей-то почти не осталось, разве что в спортивных секциях и клубах, да на ипподромах…
Реально-бытовая сторона здесь имеет отношение к образной отдалённое, хотя и связана с ней. Есть же у Николая Рубцова, в творчестве которого так часто встречается образ коня, такое стихотворение: «Я забыл, как лошадь запрягают…». А у Юрия Кузнецова стихотворение «Последние кони»: «Се – последние кони!/ Я вижу последних коней./ Что увидите вы?» То есть реально-бытовое в стихах важно и неизбежно, но не оно всё-таки определяет образное восприятие мира, его духовную основу.
Конь – самое близкое воину существо, даже, кажется, ближе, чем товарищ-односум, с которым он делит все тяготы службы и войны. Раненый, умирающий на поле брани воин в народных песнях обращается именно к коню, именно ему поверяет свою последнюю волю, то есть завещание. Причём это обращение исполнено глубокой эпичности – сравнения битвы со свадьбой, уходящей в немыслимые дали народного самосознания и имеющего свои причины и объяснения. Вот только один пример такого обращения умирающего воина к своему коню:
Ты беги, мой конёк, к отцу-матери,
Молодой жене скажи, что женился на другой.
А женила меня шашка вострая,
Ой, как невестой была пуля быстрая.
А в зятья приняла мать сыра-земля.
В связи с этим традиционным поэтическим образом, можно с большой долей достоверности предположить, что известная и популярная, в особенности на Дону, песня «Чёрный ворон», является вариантом более ранних эпических песен. В самом деле, ворон – зловещий образ в народной поэзии, выклёвывающий очи, павшему воину. Нет никакой логики и поэтической последовательности в том, что, умирающий воин поверяет свою последнюю волю именно ему:
Отнеси платок кровавый
Милой любушке моей.
Ты скажи: она свободна,
Я женился на другой.
Взял невесту тиху-скромну
В чистом поле под кустом.
Обвенчальна была сваха –
Сабля вострая моя.
Есть все основания предполагать, что традиционное обращение к коню в этой песне подменено обращением к ворону. Ведь ворон со времён давних обозначает не только цвет, но непременно имеет значение зловещее и отрицательное для человека. К примеру: «Яко ночные вранове не обретаемся, сдавляемы грехом смертным» (Словарь древнерусского языка, т.I., М., «Русский язык», 1988 г.). А потому вполне допустимо сблизить слово ворон, вран со словом вороп – налёт, нападение, грабёж, добыча. (М. Фасмер). В любом случае умирающему воину доверять свою последнюю волю такому образу нет никакого смысла и значения. Зачем же доверять её тому, кем она по враждебности к воину не будет исполнена?.. Это никак не вяжется с той любовью к коню и ненавистью к ворону, которые проходят через всё народное поэтическое творчество.
А. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу» приводит многие верования и приметы, связанные с конем: «Следы древнего обожания лошадей замечаются в тех целебных и охранительных свойствах, которые приписаны им наравне с весенним дождём и наговорной ключевой водою (т. е. водою, в которую брошен горячий угль – эмблема молнии). Так, в наших деревнях больных умывают водою, которую не допила из ведра лошадь; в Пензенской губ. собирают обсекаемые в кузнях лошадиные копыта, пережигают на огне и дают нюхать больным лихорадкою; в других местах под изголовье страдающего лихорадкою кладут конский череп…».
И что примечательно, верования эти связаны уже не только собственно с конем, но и памятью о нём: «Германцы, желая отвратить от дома опустошительное действие грозы и другие несчастия, ставили на шестах и на верху изб конские головы с разинутыми пастями, обращёнными в ту сторону, откуда ожидали беду… Известен также обычай прибивать на порогах подкову, как средство, предохраняющее границы дома от вторжения нечистой силы…».
Можно сказать, что, как в Индии священною почитается корова, так в народах славянских священной почитается лошадь.
Свой мир, своё жилище человек не мыслил без коня. Именно поэтому верхний брус на кровле избы называется коньком, который даже венчался резной лошадиной головой, как верование в охранительную силу коня. Сергей Есенин в своей известной фольклорной статье «Ключи Марии» увидел в этом, не вечно живущее верование, а некую устремлённость русского человека, склонность к путешествиям: «Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице».
Удивительно, что, несмотря на все искажения и уклонения, обычаи и поверья, связанные с конём и подковой, сохраняются очень стойко вплоть до сегодняшнего дня. Так человек, прибивающий подкову на борт своего грузовика «на счастье» не думает и не должен думать в тех понятиях, которыми оперируем мы в целях эмпирических. Он «угадывает» эту взаимосвязь интуитивно. Так и должно быть, и никак не иначе. Преемственность и традиция осуществляется именно на этом интуитивном, подсознательном уровне, а не на рефлективном, мыслительном, способном завести человека куда угодно.
Поверья и обычаи, связанные с подковой, сохранялись не только на бытовом уровне, в среде народа, но и в верховной власти. В связи с этим поразительным был обычай во время коронации русских царей. Во всяком случае, сохранилось описание коронации Павла I в 1797 году с таким обычаем. Лошадь царя, красавица Помона для коронационного торжества была подкована серебряными подковами из одного самородка серебра. При этом каждая подкова прикреплялась всего несколькими гвоздями с таким расчётом, чтобы при подъезде царя к Спасским воротам Кремля лошадь теряла одну подкову за другой на счастье народное. Счастливцы, кому это удавалось, поднимали эти царские подковы. Говорят, что одна из таких подков до революции прошлого века хранилась в музее Конюшенного ведомства… Стойкость этих поверий и обычаев, безусловно, свидетельствовала о том, что конь присутствовал в народном самосознании как некий символический и магический образ. Именно в таком значении образ коня и присутствует в русской литературе вплоть до сегодняшнего дня.
В стихах Александра Блока и, в частности, в его цикле «На поле Куликовом», имеющем, как понятно, далеко не только историческое значение, кони символизируют ту народную творческую стихию, ничем не управляемую, живущую по своим незримым законам, вне которой благополучной народной жизни не бывает:
Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
…Объятый тоскою могучей
Я рыщу на белом коне…
Примечательно, что, обращаясь к образу коня, Блок исходил из народного самосознания – поверий и легенд. В частности, известный рефрен – «Летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль», – происходит от поверья, услышанного поэтом в менделеевском Боблово: «Она, мчащаяся по ржи». В народном поверии имя было табуировано, то есть не произносилось, но в стихах поэта обрело конкретный образ – кобылиц…
В стихах Сергея Есенина конь соотносится с самой судьбой, с жизнью вообще:
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней, гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Но удивительно, что при всей неожиданности образа С. Есенина – «проскакал на розовом коне» – он имеет своего довольно дальнего предшественника. У К. Батюшкова в «Элегии из Тибулла»:
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях в блистанье принесёт,
И Делию Тибулл в восторге обоймёт?
Кроме того, конь символизирует родину со всей её многотрудной судьбой, как в «Тихом Доне» Михаила Шолохова, в лирическом и пронзительном авторском монологе: «Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-солёный запах, жуёт шелковистыми губами и ржёт, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красно-глинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!»
Кажется, это же значение имеет образ коня и в стихах Николая Рубцова. Но не только это. У него этот образ всё-таки более многогранен и многозначен. Он символизирует уже и некую спасительную таинственную силу, уберегающую от коварного разорения родины, как в известном стихотворении «Видение на холме»:
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях
России.
Кресты, кресты…
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они – и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной –
бессмертных звёзд Руси,
Спокойных звёзд безбрежное мерцанье.
Через образ коня поэт представляет вечность и незыблемость родины, несмотря ни на что. Но не только такое значение имеет образ коня в стихах Николая Рубцова. Он удивительным образом соотносится у него с возможностью (или утратой такой возможности) познания всей сложности мира, с самосознанием человека, ибо именно это является самой надёжной броней от всех влияний и покушений на человеческий и народный дух:
Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!..
…Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё, понимая, без грусти пойду до могилы…
Отчизна и воля – останься моё божество!
Как видим, само наличие и сохранение этой «таинственной силы» является непременным условием существования России, Отчизны…
Попутно отмечу, что публикации этого стихотворения встречаются в двух вариантах: «таинственной силы» и «возвышенной силы». И всё же речь тут идёт именно о «таинственной силе», так как это в большей мере связано с поэтической и духовной традицией вообще. Это подтверждается и сохранившимися записями этого стихотворения в рукописи поэта.
Безусловно, что это одно из самых глубоких и совершенных творений в русской поэзии второй половины двадцатого века, вбирающее в себя и духовные, и созидательные, и многие иные аспекты своего времени. Тем удивительнее теперь, когда у великого поэта появилось столь много друзей, читать, к примеру, такое признание Льва Котюкова в его небрежной, стилистически какой-то расхристанной книге, само название которой двусмысленно и уничижительно по отношению к Рубцову – «Демоны и бесы Николая Рубцова» (Издательский дом «Юпитер», М., 2004 г.): «Не буду лукавить: сами стихи не произвели на меня сначала особого впечатления. Между тем, как поэт читал «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». Сами стихи, видите ли, не произвели впечатления. А чем же поэт должен производить впечатление, если не стихами? Внешним видом, осанкой? А когда произвели впечатление? Когда произвели на всех? Странное признание, которому не придаёт значимости даже вроде бы безоглядная искренность автора. В таком случае ничего не значат его грозные обличения популярных эстрадных поэтов, так называемых «шестидесятников», впавших в «антирусское шарлатанство», на которых стихи Николая Рубцова тоже «не производили» впечатления, но уже по иным причинам и соображениям. Главное состоит в том, что в обоих случаях столь значимые стихи впечатления «не произвели». Мотивация при этом уже не столь важна. Своих поэтов надо различать вовремя, иначе складывается впечатление, что причина тут во всеобщем признании поэта, за которым следует автор, а не прозорливость его как первого читателя и слушателя великого поэта…
В том же русле самоосмысления, хотя и по-иному, присутствует образ коня и в стихах Юрия Кузнецова. Примечательно, что, в такого рода поэтических размышлениях конь, по обыденной, не образной логике вроде бы совсем не обязателен. И, тем не менее, этот образ в его стихах постоянно появляется. Как, к примеру, в этом стихотворении, представляющем собой переосмысление известного убеждения Ф. Достоевского о терпимости и восприимчивости русского человека к иным культурам:
Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напоил лошадей.
Мы поскачем во Францию-город
На руины великих идей.
… Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие священные камни
Кроме нас, не оплачет никто.
Но есть в стихах Юрия Кузнецова и особенность этого образа, кажется, мало у кого встречаемая из современных поэтов. Образ коня оказывается у него на том месте, где должна быть икона:
На тёмном склоне медлю, засыпая,
Открыт всему, не помня ничего
Я как бы сплю – и лошадь голубая
Встаёт у изголовья моего.
И уже более определённо и однозначно в стихотворении «Кубанка» образ коня соотносится с верой. Точнее – с утратой «Молитвы родины святой», молитвы «позабытой».
Клубится пыль через долину
Скачи, скачи мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину
Летя из полымя в огонь.
Гроза гремела спозаранку,
А пули били наповал.
Я обронил свою кубанку,
Когда Кубань переплывал.
Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы в ней зашитой
Рукою матери родной.
Кубань кубанку заломила,
Через подкладку протекла,
Нашла молитву и размыла,
И в сине море повлекла
Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы позабытой,
Молитвы родины святой…
Следует сказать, что соотношение коня с верой выходит из народного самосознания, что проявилось, к примеру, в пословицах: «Конь везёт, Бог несёт», «Конь под нами, а Бог над нами». По народному поверью из всех животных только лошадь умеет молиться. А потому в некоторых губерниях соблюдался обычай вешать в конюшнях, с правой стороны над яслями, образ Флора и Лавра. Для «конной мольбы» в некоторых местностях устраивались особые деревянные часовни, предназначенные для чествования этих мучеников, покровителей лошадей в их заветный день. В переводном памятнике Древней Руси «Беседе трёх святителей» Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова – есть прямое уподобление коня правой вере: «Иоанн рече: «Конь есть правая вера христианская…». Это уподобление, выходящее из глубин народного самосознания, многое объясняет в творчестве русских поэтов, как прошлого, так и нынешнего времени.
И всё же соотнося образ коня с верой, с утратой её, убеждаешься в том, что Юрий Кузнецов остаётся здесь наиболее близок пушкинской традиции. Как, впрочем, и Николай Рубцов в стихотворении «Видение на холме». Конечно, я имею в виду, прежде всего «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина, понимание и толкование которой, как мне представляется, не вполне соответствует авторскому тексту. Собственно говоря, рассказать о том, что же в действительности изобразил А.С. Пушкин в балладе «Песнь о вещем Олеге», основанной на летописном предании, почему князь принимает смерть «от коня своего» и составляет цель моей мировоззренческой повести. Согласимся с тем, что конь символизирует правую веру, что принять смерть от него, а значит и от веры – ситуация необычная, если не сказать более – из ряда вон выходящая, за которой кроется некая драма, требующая своего объяснения.
Но тут оказывается, что для уяснения изображённого поэтом в балладе «Песнь о вещем Олеге», образ коня, сам по себе как бы не столь уж и важен, так как он является лишь поводом обратиться к главному для человека и народа в целом – его вере, самосознанию и образу мира. В этом стихотворении А.С. Пушкина конь собственно и символизирует веру.
Этот сюжет смерти от коня своего распространён во всей европейской средневековой литературе, но зародился он именно на русской почве, отсюда перешёл и в Скандинавию: «В Древней Руси это повествование связано с именем киевского князя Олега и изложено как в «Повести временных лет», так и в Новгородской I летописи; в Скандинавии – с именем легендарного викинга Одда Стрелы, о котором рассказывается в «Саге об Одде Стреле», а так же в ряде преданий. («Древняя Русь в свете зарубежных источников», М., «Логос», 2000 г.).
Для нас важно понять то, почему именно такой сюжет зародился в русском самосознании, так как, судя по всему, он здесь вовсе не случаен и отражает какую-то важную особенность духовно-мировоззренческого состояния человека на Руси. Важно отметить и то, что он имеет мифологическую, а не чисто историческую основу, даже если в его основе и лежит некий исторический факт. То есть, он в большей мере выражает образ мыслей, нежели исторические события. Это хорошо понимали исследователи прошлых времён, в отличие от нынешних, соблазнённых позитивизмом и материализмом, для которых факты духовные, мировоззренческие ничто в сравнении, скажем, с фактами историческими, самими по себе молчащими… К примеру, М. О. Коялович писал в «Истории русского самосознания»: «У нас, как и у других народов, первейшее сознание своей исторической жизни выразилось в народных легендах. Легенды эти заметны на первых страницах нашей летописи. Таковы – о смерти Олега, о мести древлянам Ольги за смерть Игоря, о посольстве к Владимиру по делу о перемене веры и много других» (Минск, 1997 г.)
Это уже исследователи более поздних идеологических времён, что называется, цепенея перед каждым летописным сообщением, пытались непременно распознать в нём исторический документ, объясняющий прошлое, и мысли не допускающие, что то или иное сообщение в летописи, как правило, легендарное, более значимо и драгоценно как свидетельство самосознания и образа мысли, образа мира людей давней эпохи. Это стало следствием того, что по причине мировоззренческого соблазна, духовный, то есть, основной смысл событий стал терять для людей значение. Он уже подчас даже перестал ими различаться… Отказ от образности обернулся, по сути, отказом от духовной природы человека, то есть, обернулся трагедией трудно поправимой. Я вовсе не противопоставляю историческое и образное, художественное, но всего лишь хочу отметить несомненный и очевидный факт: да, литература выходит из жизни, но не в меньшей мере – из литературной традиции, из народного самосознания.
Такой позитивистский, безобразный подход к творениям духа, по сути, исключает понимание явлений этого мира. Примечательно, что он выдаёт себя за исторический подход, таковым не являясь. К примеру, если в летописи сообщается о смерти князя Олега от укуса змии, то непременно ищется порода рептилии, которая якобы и откроет смысл происходившего. Или – если в «Слове о полку Игореве», в «мутном сне» Святослава говорится, что «синее вино с трудом смешено», то ищут не образный и символический смысл сообщения в контексте поэмы, и не евангельский, как в данном случае, а состав микстуры, словно художественная творческая стихия не свидетельствует о ложности и даже примитивности такого подхода к творениям духа. Это подтверждается, скажем, в песне уже более позднего времени: «И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам…» В этом неразличении образности обнаруживается не то, что историческая или эстетическая, но и просто человеческая глухота.
К историческому осмыслению такое упрощение не имеет отношения. Если же говорить о соотношении исторического и художественного в литературе, представляющего проблему первостепенную, то там, где историк заканчивает свое необходимое дело, художник его только начинает… В этом мы и убедимся на примере анализа пушкинской «Песни о вещем Олеге», написанной в абсолютном согласии с летописной легендой о смерти князя Вещего Олега «от коня своего», в согласии с её объяснением в Летописи и в то же время не повторяющей исторического сообщения, а представляющего собой многомерное и многозначное творение духа, смысл которого, как мне представляется, до сих пор не вполне уяснён.
А потому, прежде чем приступить к анализу пушкинской баллады, к рассказу о том, что же в ней в действительности постигнуто и изображено великим поэтом, приведу её полностью, чтобы читатель, не припоминая её текст, а имея его перед глазами, мог убедиться в истинности моих доводов.
Песнь о вещем Олеге
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их сёлы и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
Из тёмного леса навстречу ему
Идёт вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.
«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землёю?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмёшь ты коня».
«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.
Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава – отрада;
Победой прославлено имя твое:
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.
И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы…
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могущему дан.
Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод и сеча ему ничего.
Но примешь ты смерть от коня своего».
Олег усмехнулся – однако чело
И взор омрачилися думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.
«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время:
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твоё позлащённое стремя.
Прощай, утешайся – да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня!
Покройте попоной, мохнатым ковром;
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте, кормите отборным зерном;
Водой ключевою поите».
И отроки тотчас с конём отошли,
А князю другого коня подвели.
Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне весёлом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана…
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они…
«А где мой товарищ? – промолвил Олег, –
Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? всё так же ль легок его бег?
Всё тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.
Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.
Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят: на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.
Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!
Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змия,
Шипя, между тем выползала;
Как чёрная лента, вкруг ног обвилась:
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
Итак, пушкинская баллада «Песнь о вещем Олеге» создана в соответствии с летописным рассказом о судьбе князя Олега Вещего и даже в абсолютном соответствии с мировоззренческим объяснением происшедшего, помещенном в летописи сразу же за легендой, которое по давней и недоброй «традиции» принято считать написанным «ортодоксальными» летописцами ради защиты христианского догмата, а не истины ради. В «Изборнике» под редакцией Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачёва (М., «Художественная литература», 1969 г.) это объяснение гибели князя Олега просто опущено, как мало что значащее… Мы ещё вернёмся к этому объяснению, дабы убедиться в его не случайности в летописи.
Но пушкинская баллада вместе с тем, не повторяет летописную легенду, а придаёт ей высокий духовный смысл. И здесь мы снова сталкиваемся с соотношением художественного, образного мышления и исторического, убеждаясь в том, что художественное, образное не тускнеет даже тогда, когда устаревает сам язык…
Нельзя не заметить и того, что пушкинская баллада, несмотря на её совершенство, переполнена, казалось бы, противоречиями и нелогичностями. Но эти противоречия и нелогичности представляются нам таковыми по обыденной логике, по которой мы и привыкли судить произведение художественное, на самом же деле они являются неизбежным свойством мышления образного в постижении истинного смысла происходящего. Эти противоречия и нелогичности с точки зрения образной, предстают перед нами не как недосмотр или просчёт художника, а достоинством произведения художественного, обладающего ничем не заменимым свойством – дать обобщённую и в то же время конкретную картину человеческого бытия, обнажая его потаённый смысл.
«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина начинается с упоминания о хазарах, которые в дальнейшем не упоминаются и вроде бы, и вовсе «забываются» поэтом. На первый взгляд кажется, что отмщение «неразумным хазарам» в пушкинской балладе не имеет никакой связи с последующим рассказом. Но, по художественной, да и по исторической, но сокрытой от читателя логике стихотворения, выходит, что всё, происшедшее с князем потом, и является прямым следствием этого его отмщения хазарам. Иначе, зачем А. С. Пушкин упоминает о них в начале стихотворения, а потом «забывает»…
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам.
«Как ныне сбирается» надо понимать – словно сейчас, снова, опять, как и всегда. То есть, Вещий Олег снова идёт на хазар, которых он ранее уже наказывал «за буйный набег». При этом он вооружён не только оружием железным, но и духовным, верой, причём, верой именно христианской – «в цареградской броне»:
С дружиной своей в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
Как понятно, «цареградская броня» имеет здесь смысл не буквальный, а значение правой веры. «Цареградская броня» значит вера из Цареграда, то есть из Византии, откуда и пришла к нам христианская вера.
И вот «из тёмного леса» навстречу ему идёт кудесник, гадатель. «Из тёмного леса», поскольку всё происходило, по летописи, осенью, тоже нельзя понимать буквально. Конечно, это «тёмный лес» верований и представлений. Так же, как у Данте Алигьери нельзя понимать буквально «сумрачный лес»: «Земную жизнь, пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу». Важно отметить, что в пушкинском стихотворении «заветов грядущего вестник», вышедший из тёмного леса, автором называется именно кудесником и гадателем. И только в прямой речи этот гадатель сам себя называет волхвом: «Волхвы не боятся могучих владык, А княжеский дар им не нужен». Примечательно и то, что искушаемый естественным желанием узнать свою грядущую судьбу, князь Олег в награду этому гадателю предлагает именно коня, от которого кудесник отказывается, хотя в результате своего предсказания он и лишает князя его верного коня…
Далее «любимец богов», дружный «с волей небесною», якобы увидевший «жребий на светлом челе», то есть, разгадавший дальнейшую судьбу князя, явно славословит ему и говорит довольно странные вещи, как видно по всему, мало соответствующие действительности. В самом деле, Олег, уже наказавший ранее хазар «за буйный набег», и вышедший в поход для нового им отмщения, то есть, воюющий против хазар и одерживающий победы над ними, слышит от кудесника нечто прямо противоположное. Главные победы Олега, по кудеснику, связаны, оказывается, не в борьбе с хазарами, а с Цареградом: «Победой прославится имя твое; Твой щит – на вратах Цареграда». То есть, с победой над Византией. Как видим, кудесник, славословя Олегу, говорит ему явную неправду. Иначе, как это согласуется с тем, что князь Олег находится «в цареградской броне» и с тем, что он – христианин, человек верующий, о чём кудесник говорит прямо: «Под грозной броней ты не ведаешь ран; Незримый хранитель могущему дан». «Незримый хранитель», – то есть Бог. И Бог не языческий, а именно христианский, ибо защищён князь Олег цареградской броней. То есть, Олега хранит именно христианский Бог. Никакой логики в этом славословии кудесника Олегу, конечно, нет. Скорее её можно назвать преднамеренным обманом князя. Если на это нам скажут о том, что благодать Христовой веры утвердилась на Руси позже, и Олег не мог быть «в цареградской броне», то есть в лоне христианства, на это мы должны напомнить о том, что пишем не историю, а пытаемся малыми силами своими прочитать то, что изображено великим А.С. Пушкиным в балладе «Песнь о вещем Олеге». Да и христианская вера утверждалась на Руси задолго до её официального принятия великим князем Владимиром.
К тому же такое славословие кудесника никак не согласуется с историческими, летописными фактами. Исследователи уже заметили, что войны Руси против Византии носили довольно странный характер, судя по русским летописным сообщениям о них и зарубежным источникам. Во всяком случае, они имеют не ту мотивацию, какая утвердилась в нашей исторической науке. Лев Гумилёв даже считал, что Руси вообще не из-за чего было воевать с Византией. И это подтверждает сам факт принятия нами христианства именно оттуда. («Древняя Русь и Великая степь», М., «Мысль», 1989).
Кстати, это подтверждается и стихотворением А.С. Пушкина «Олегов щит», написанным уже позже создания «Песни о вещем Олеге», в 1829 году, когда «настали дни вражды кровавой» и когда «мы вновь со славой/ К Стамбулу грозно притекли»:
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.
А в более позднем стихотворении 1830 года «Стамбул гяуры нынче славят…», говоря уже об иной эпохе, А. С. Пушкин даже обличает Стамбул, за отступление от своей веры:
Стамбул отрёкся от пророка;
В нём правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил –
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьёт вино в часы молитвы.
То есть, ни о какой славе Олега в связи с покорением Цареграда, о чём говорил ему кудесник в своём предсказании, не могло быть речи. В высшей мере примечательно, что в договоре Руси с Византией говорится о недопущении обмана. Ведь именно обман запечатлён в летописной легенде, что и стало главной темой пушкинской баллады. В таком случае, хазары здесь при чём, в поход на которых сбирался Олег, на пути которого оказался кудесник, вышедший из «тёмного леса» и переменивший судьбу вещего князя?
Но если в летописи поминается о щите на вратах Цареграда, то есть о его покорении, значит, договорённости с Византией нарушались именно Русью. Кем и почему? – этот вопрос не такой простой. Его не заслонить кочующим, как штамп, даже по историческим работам утверждением, что это-де было свидетельством могущества Олега. Но из такого славословия выпадает историческая, нравственная, да и просто логическая оценка факта, который всё-таки имел место быть.
Далее «грядущего вестник» говорит странное и поразительное для князя: «Но примешь ты смерть от коня своего». Это предсказание поразило князя, как и всякое предсказание, поражает человека, так как истинно оно или ложно, станет ясно лишь тогда, когда оно сбудется или не сбудется. А пока, вне зависимости от того, ложно оно или истинно, оно обладает магичностью и не может не наводить страх на человека. Найдёт человек в себе достаточно духовных сил и воли, чтобы противостоять предсказанию, он устоит, а не найдёт, то, так или иначе, окажется под его бременем. Может быть, потом это предсказание только потому и свершается, что человек не проявляет достаточно стоицизма против него.
Такое же воздействие и на князя Олега произвело это странное предсказание, на которое он вначале, было, усмехнулся, но взор и чело его «омрачилися думой». Он поступает так, как только и мог поступить человек, услышавший столь жестокий приговор себе и не нашедший сил противостоять предсказанию. Он оставляет верного товарища, коня, «верного друга», и к нему подводят «другого коня». Будем помнить, что по народному воззрению конь символизирует правую веру. Обман, предпринятый кудесником, происходит. Князь переменяет не только коня, но и свою веру. Предсказание кудесника всё-таки сбывается, князь умирает «от коня своего». Но уже не в прямом смысле слова, а от «змии», таившейся в черепе коня. Но предсказание кудесника сбывается именно потому, что князь оказался подвержен магической власти гадателя.
Но духовная смерть человека от змия имеет и иное, изначальное, библейское значение. Змий, который «был хитрее всех зверей, которых создал Господь Бог» (Бытие, 3:1), искушает сначала жену, а потом и род человеческий. Искушает и обольщает тем, что посулил невозможное для человеческой природы: «Сказал змий жене: нет, не умрете» (3:4); «вы будете как боги» (3:5). И был проклят змий за это «пред всеми скотами». Такое значение этой драмы присутствует и в «Песне о вещем Олеге»…
Теперь припомним о сближении в пушкинской балладе коня и веры, причём веры именно христианской («в цареградской броне»). Таким образом, основной сюжет пушкинского стихотворения состоит в смене веры князем Олегом. В смене «верного коня» на «другого», веры цареградской на какую-то иную, которую исповедовал кудесник и под влиянием предсказания которого оказался князь Олег. Библейская заповедь, представляющая собой непременное условие духовного бытия человека, оказалась нарушенной: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам и не поклонялись им». (Второзаконие, 11-16). Но смена веры не является для человека каким-то проходящим фактом. Это губительный акт для его духовного естества. Можно сказать, что как по летописной легенде, так и по пушкинской балладе князь Олег, по сути, стал жертвой обмана. Предсказание побудило князя «верного друга» поменять на «другого»; христианскую веру на некую иную. На какую именно, ни в летописи, ни в пушкинском стихотворении не говорится. Но это можно установить окольным путём логического анализа.
Попутно скажу, что это непременное условие духовного бытия, как отдельного человека, так и народа в целом – отстаивание своей веры, её незыблемости, если народ рассчитывает сохраниться (ведь та или иная вера, в том или ином народе вовсе не является случайной) – в нашем общественном сознании издавна и до сего дня подменено прямо противоположными понятиями: «свобода совести», «выбор веры». То есть то, что является губительным для духовного здоровья человека выставляется якобы спасительным… Ведь «выбора веры» для каждого, отдельно взятого человека не может быть по определению, так как вера даётся человеку по праву рождения, как правило, ещё в бессознательном состоянии. Тем самым осуществляется преемственность веры от предшествующих поколений и исключается всякий произвол и случайность. То, что по обыденной, утилитарной логике допустимо, когда вера понимается как нечто вроде одёжки, которую можно надеть, но которую можно и сбросить, по понятиям духовным невозможно. Да бывают случаи перемены человеком веры, но эти аномальные случаи, обычно, заканчиваются трагически. Я не говорю о летописном «Выборе веры» всем народом, известным не только на Руси, но и, скажем, в Хазарии.
Таким образом, лукавое идеологизированное время «цивилизации» выработало двойные стандарты: для одних народов – незыблемость веры и не поклонение иным богам, для других – разрушительный «выбор веры», при котором жизнь народа не может быть продолжена, и он рано или поздно окажется размытым и поглощённым другими этносами, которые не соблазнились столь упрощённым и опасным представлением о духовной природе человеческой.
Совершенно очевидно, что со второй половины девятнадцатого века, весь двадцатый век и в начале двадцать первого века Россия идёт по этому опасному и губительному пути… Гений А. С. Пушкина прозрел это, обратившись к летописной легенде о Вещем Олеге, легенде, вроде бы, не имеющей прямого отношения к его времени, но, как оказалось, она имела прямое отношение и к его эпохе, и к последующим временам, и к нашим дням…
Это и есть главное в жизни каждого народа – через веру сохранять свой этнос, а вовсе не «экономические проблемы», в чём нас пытаются убедить безрелигиозные люди, то есть, потерявшие связь со своим народом. Без этого духовного сохранения народа никакие и «экономические проблемы» не идут впрок. Нельзя сказать, что такая подмена понятий всецело исходит из злого умысла, хотя, как понятно, не обходится и без него, но и – «по убеждению». Но как мы видим из пушкинской баллады, и как знаем из нашего «информационного» общества и убеждения могут быть управляемыми…
Но в какую же веру вознамерился обратить Вещего Олега кудесник и гадатель своим предсказанием? Точнее, чем соблазнился князь, против чего не устоял и от чего, и почему его не защитила даже «цареградская броня», то есть правая вера? Чтобы ответить на этот вопрос непредвзято, надо честно сказать о том, кем же в действительности были эти волхвы, кудесники и гадатели. Это тем более необходимо определить, так как здесь, в области сознания человеческого и народного самосознания, вопреки очевидности, издавна и до сего дня совершается подмена и искажение действительных смыслов. И особенно в понимании того, кем же на самом деле были волхвы. Кстати, в пушкинской балладе эти слова – волхвы и гадатели – употреблены как синонимы, что при абсолютной чуткости А.С. Пушкина к явлениям историческим и народным не было случайностью. Но прежде – о волхвах.
Оговорюсь, что я рассматриваю в связи с волхвами не исторический факт сам по себе, отражённый в летописи, но – историю самосознания народа в его едином, сквозном временном развитии. Ведь сам по себе исторический факт мало о чём говорит без объяснения причин, его вызвавших, без объяснения его мировоззренческих мотиваций. А причины эти кроются в сознании и душе человеческой. То есть исторический факт, ещё раз подчеркну это, уже только следствие состояния сознания, ибо вначале было слово…
Что даёт мне право и основание рассматривать народное сознание в таком единстве и целостности? Конечно же, неизменность духовной природы человека и в определённой мере его сознания, несмотря на технический и всякий иной прогресс, то, что Василий Розанов определил столь лаконично: «Природа человека вечна». Именно это и даёт основание сближать одни и те же проявления духовной сущности человека или уклонения от неё в разные эпохи, отстоящие друг от друга на достаточно большом временном удалении. По сути же это одни и те же явления, но которые, к сожалению, в разные времена понимаются по-разному, а то и прямо противоположно своему значению. Так сложилось потому, что характер упоминания о волхвах был всецело отнесён на счёт якобы ортодоксальных христианских летописцев, которые в своих догматических целях будто бы преднамеренно исказили суть, смысл и значение волховства. Таким образом, представление о волхвах, основано на антихристианских воззрениях.
Принято считать, что волхвы – это язычники. Более того – языческие жрецы. Такое убеждение столь распространено и столь устойчиво, что переубедить кого-либо в нём, а историков в особенности, практически невозможно. Вопреки очевидности. И главным образом потому, что история наша занимается в основном социальностью, накоплением фактов вне общей духовной картины жизни народа, занимается чем угодно, но только не верой людей и не их сознанием, без чего объективного понимания бытия народа быть не может, так как при этом не берётся в расчёт мотивация событий. Иными словами историки за редким исключением не занимаются историософией – взаимосвязью и духовно-мировоззренческой мотивацией фактов в их временном развитии. Но стереотип восприятия волхвов в общественном сознании и в исторической науке оказался настолько устойчивым, что даже такой глубокий исследователь Древней Руси, как И.Я. Фроянов, нисколько не сомневаясь, как о само собой разумеющемся писал о том, что «волхвы – служители старого языческого культа» («Древняя Русь», М., СПб, «Златоуст», 1995 г.)
Между тем, многое, происходящее в жизни человеческой и народной, казалось бы, не имеет утилитарного, социального, да и просто логического объяснения и совершается как бы «беспричинно», точнее имеет иную, чем принято считать, природу и логику. Здесь опять-таки нельзя не сказать об общепринятой модели развития, в основе которой находится представление о прогрессе, предполагающем сменяющие друг друга стадии и формации развития человечества. Модели, не берущей в расчёт духовную природу человека, занятой не целью и смыслом человеческого бытия, а лишь его средством, а потому постоянно воспроизводящей перерыв в постепенности развития. Справедливо писал А.В. Юдин, что «именно невозможность рационального, разумно истолковать существование и широкое практическое использование всевозможных магических воззрений… заставила ряд исследователей ХХ века считать первобытное мышление не только «неразвитым», «примитивным», но и принципиально особенным, осуществляемым иным, нежели современное, не связанным законами логики способом». («Русская традиционная народная духовность» (М., «Интерпракс, 1994 г.)
Нельзя не заметить того, что волхвы, согласно летописям, появляются именно в смутные времена, в периоды каких-то несчастий (чаще голода) и потрясений. Результатом ли смуты становится их появление или наоборот – их появление вызывает смуту в народе, беззаконие и хаос в обществе? – Этот вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Но предпосылки для ответа на него содержатся в самих летописных сообщениях. Все без исключения сообщения о волхвах в летописи приходятся только на периоды самой жестокой крамолы и междоусобицы между князьями на Руси. Волховство и крамола, междоусобица понимались в прямой причинно-следственной связи и зависимости, о чём говорится в «Повести временных лет»: «Междоусобная же война бывает от дьявольского соблазна». Уже только один этот факт не даёт историкам никакого права рассматривать волхвов самих по себе, как некое социальное явление, вне общего духовного, мировоззренческого и психологического состояния общества, и главное – вне верований того времени. Ведь это вовсе не является простым совпадением. Не является оно и бесстрастной страницей истории, но имеет прямое отношение и к нынешней жизни. Но в том-то и дело, что верования, самосознание, миропонимание для исследователей позитивистского и материалистического толка более поздних времён не представляются тем основным, вокруг чего и из-за чего в обществе и шла борьба, хотя именно это, а не пресловутые «экономические интересы» являются главным в осмыслении как прошлой, так и нынешней жизни.
Трудно сказать, была ли какая крамола во времена долгого и славного правления выдающегося князя Олега Вещего, так как из тридцати трёх лет его княжения двадцать один год оказался в летописи просто пропущенным, словно тогда ничего значимого и не происходило. Пропуски в летописи оказались столь обширными, что по уцелевшим сообщениям нельзя было даже определить смену княжений. И только окольным путём анализа и сопоставлений, с привлечением всех возможных исторических источников исследователям, уже в более поздние времена, по сути, в наше время удалось установить хотя бы хронологию смены князей – Олега Вещего, Игоря, Олега «второго»…
Первое упоминание в летописи о волхвах и кудесниках встречается в летописях под 912 годом и связано именно с предсказанием смерти Олега Вещего. О какой-либо крамоле летопись умалчивает, из чего можно сделать вывод, что причиной этой трагедии стало единственно обращение князя к волхвам и кудесникам с вопросом: «Отчего я умру?» Можно лишь предполагать, что такие значительные пропуски в летописи стали результатом какой-то ожесточённой борьбы. Но какой именно? На этот вопрос у наших исследователей есть простой, не подлежащий никакому сомнению, я бы сказал дежурный, но не думаю, что верный ответ: борьба шла между дохристианским язычеством и христианством…
Появление волхвов в Суздале, упомянутое в летописи под 1024 годом, связано с жесточайшей междоусобной борьбой после смерти князя Владимира-Крестителя в 1015 году. Ну и основной блок, что ли, сообщений о появлении волхвов приходится на период распри между братьями-князьями после смерти великого князя Ярослава Мудрого в 1054 году и в связи с волхвом-князем Полоцким Всеславом Брячиславовичем, который, как сказано в летописи, и начал междоусобицу: «Воздвиг дьявол распрю между братьями Ярославичами». Совершенно очевидно, что безвестный автор «Слова о полку Игореве» потому столь много места и уделяет в своей поэме князю-волхву Всеславу, чтобы вскрыть причины и характер крамолы, междоусобицы между братьями-князьями.
Далее в летописи сообщения о волхвах, как сказали бы сегодня, плавно перетекают в сообщения о еретиках, как в летописном рассказе о «злодее и еретике», о «злом и пронырливом и гордом обманщике лживом владыке Федорце» из Владимира, помянутом в летописи под 1169 годом. И только автор «Слова о полку Игореве» вспоминает князя-волхва Всеслава в связи с новой распрей и крамолой между князьями и бесславным походом князя Новгород-Северского Игоря на половцев весной 1185 года. Из этого следует, что волхвы и еретики представляют собой нечто равнозначное, явления одного порядка, но в разные временные периоды по-разному называемые. В летописях же говорится, что волхв – это человек, «одержимый бесом», что «волхвуют по внушению бесов». И что особенно важно для уяснения природы волховства в последующие времена, которое естественно, в разные эпохи называлось по-иному – это то, что бесов вызывают. Как сказано в летописи об одном из волхвов: «По обыкновению начал вызывать бесов в свой дом».
Церковная лексика не может скрыть и заслонить существа того духовно-мировоззренческого явления, о котором сообщается в летописи в связи с волхвами. Они ведь не просто предсказывали будущее, но отрицали христианское понимание мира, говоря, что «мы знаем, как сотворен человек». Но выдвигаемая ими модель мира и сотворения человека была просто примитивной. Ну, скажем, от ветошки, которой Бог мылся в бане и бросил потом с неба на землю… Как понятно, это «знание» устройства мира и сотворения человека волхвами никакого отношения к дохристианскому язычеству не имеет… Эта «версия», сотворения человека, кажется, для того только и выдвигалась, чтобы отрицать христианское верование. Именно этим «знанием» происхождения человека, а не какими-то декларативными призывами, волховство носило антихристанский характер, было направлено на разрушение христианского миропонимания и веры. Никаких призывов со стороны волхвов, как пишет И.Я. Фроянов, «вернуться в лоно язычества», а тем более «восстановить общественное благополучие», конечно же, не было. Всё было как раз наоборот – своим появлением волхвы не восстанавливали общественное благополучие, а нарушали его… Неслучайно же их появление происходит в периоды бедствий, крамолы и междоусобицы, то есть в периоды духовной нетвёрдости и мировоззренческой растерянности, что периодически бывает в человеческом обществе вне зависимости от уровня его развития и тем более вне зависимости от технического и всякого иного прогресса. И стоит лишь удивляться тому, что это явно предвзятое представление о волхвах как о язычниках, и более того, как о «служителях языческого культа» оказалось в общественном сознании столь стойким вплоть до сегодняшнего дня. Тем более, что это объявление волхвов язычниками носит абсолютно декларативный характер и не наполнено в трудах исследователей содержанием, фактами, доказательствами и подробностями, подтверждающими это. Просто предлагается принять это на веру, как некий стереотип, не подлежащий сомнению.
В связи с этим представляется более чем странным выставление выдающегося князя Олега Вещего не мудрецом, а именно волхвом, автоматически что ли, относя эти, якобы присущие ему способности на счёт дохристианского язычества. Более того – выставление его языческим жрецом, хотя, как известно, дохристианское язычество не знало жречества, как впрочем, и храмов… Пресловутые же истуканы, которых волокли по Боричеву взвозу, не были, так сказать, атрибутами дохристианского язычества, но были нововведением князя Владимира, как следствие поиска им веры и духовно-мировоззренческого обоснования существования Руси. Попытка князя оказалась неудачной, что, вероятно и ускорило официальное принятие христианства.
Вот типичное представление об Олеге Вещем, как о князе-язычнике и волхве стереотипное, ни на чём не обоснованное, в чём автор его Валерий Демин не прямо, но косвенно, в конце концов и сознаётся, не находя каких-либо убедительных логических мотиваций: «Олег же вещий был язычником, более того верховным волхвом и магом. Как установили специалисты-филологи, прозвище Олега «вещий» – во времена Нестора отнюдь не означало «мудрый», а относилось исключительно к его склонности к волхованию. Другими словами, князь Олег был не только верховным правителем и предводителем дружины, но одновременно выполнял функции жреца, волхва, кудесника, чародея. За то, с точки зрения христианского летописца и постигла его Божия кара – смерть «от змии». («Литературная Россия», 22.09.2000 г., «Милениум», № 10,2001 г.)
Вполне понятно, почему выдающийся князь Олег Вещий, великий государственник, соединивший Северную Ладожскую Русь с Южной Киевской, начавший борьбу с засильем хазарского иудаизма, наконец, князь, при котором была введена письменность, славянская азбука, которая распространялась только на основе перевода на русский язык христианских богослужебных книг, неизменно выставляется волхвом, чародеем, кудесником, магом… Потому что, по какой-то немыслимой логике и недоброй «традиции» всё, связанное с волхованиями, чародейством и гаданием относится у нас к дохристианскому язычеству, выставляется как его содержание. Но ведь тем самым говорится, что Олег Вещий был не только организатором и участником столь великих свершений, но и одновременно и их разрушителем… По какой логике неведомо, хотя вполне различимо почему и с какой целью в нашей истории и самосознании оказалась дискредитированной столь мощная историческая личность. И если исследователи девятнадцатого века точно определяли природу волхования, как, к примеру, в «Поэтических воззрениях славян на природу» А. Афанасьева: «Волхв – колдун, угадчик, прорицатель», без всякого приписывания им свойств дохристианского язычества, то современные исследователи поразительно единодушны и единообразны во мнении, что всё это как раз и есть дохристианское язычество. Перед нами – обыкновенные, говоря словами Льва Тихомирова, «спекуляции язычествующего разума». Если даже не умышленные и не преднамеренные, что не меняет их сути.
Вот характерное суждение на сей счёт современного исследователя Льва Прозорова в статье «Размышления о волхвах из русских летописей»: «Обряд, выполнявшийся волхвами, имеет глубокие индоевропейские корни. Сохранение его структуры в дошедшем до ХIХ века предании говорит, насколько глубоко эти корни укрепились в душе русского народа, лишь слегка прикрывшего языческого «волка» овечьей шкурой христианской терминологии. И это ещё раз свидетельствует о силе, цельности, самостоятельности и удивительной жизнеспособности восточнославянского язычества». («Русская традиция», выпуск 4, 2006 г.) Автор, безусловно, прав, говоря об устойчивости в народе духовно-мировоззренческих, психологических понятий и поведенческих стереотипов, но абсолютно не прав в определении их содержания. Это, конечно же, свидетельствует о смутном представлении о дохристианском язычестве, как цельном веровании и стройном миропонимании, несмотря на многочисленные исследования на эту тему. Примечательно, что в полном согласии с таким стереотипным представлением, автор не обращает внимания на те смыслы, о которых сам же пишет и мимо которых никак нельзя пройти в подобного рода исследовании. К примеру: «Целый ряд выступлений волхвов против христианской веры и княжеской власти». Во-первых, никаких выступлений волхвов в духе антифеодальной борьбы за социальную справедливость никогда не было. Это представление уже более позднего «классового» мышления. Тут совершенно прав И.Я. Фроянов, говоря о появлении, а не о выступлении волхвов. Неточный перевод только одного этого слова искажает суть волховства до неузнаваемости, придавая ему, по сути, прямо противоположный смысл. Во-вторых, если волхвы выступали против христианской веры, это понятно, ибо вполне укладывается в их сущность. Но вот почему наравне с христианством они выступали против существующей княжеской власти, причём, всякой власти по определению, вне зависимости от того справедлива она или нет – это повод для очень серьёзного размышления. Этот факт сам по себе не проходной, не из тех, которых можно не заметить. Ведь из этого следует, что волхвы по самой природе своей представляли собой, говоря современным языком, некую деструктивную силу, выступающую против всякой власти, всякой организации общества, что естественно приводит к хаосу и психозу. И тут совершенно не при чём христианская догматика, на которую столь привычно ссылаются.
Как это ни странно, мне встретилось лишь одно неидеологизированное суждение о волхвах – не с точки зрения классовой или социальной, но, как и должно – с точки зрения духовно-мировоззренческой и психологической. Имею в виду примечания В. Петрухина к книге Нормана Голба и Омельяна Прицака «Хазарско-еврейские документы Х века»: «Вообще языческие жрецы (в том числе древнерусские «волхвы») становились, как правило, главными противниками обращения к мировым религиям». (Москва, 1997, Иерусалим, 5757). Ведь это же о многом говорит. Значит волхвы, выступая против всех мировых религий, представляли собой некое сектантство. Мы не имеем данных, но вполне возможно, что волхвы также покушались на стройную систему и языческих верований, как позднее покушались на веру христианскую. Это могло бы стать удивительной темой для внимательного и честного исследователя. Но как видим, и в исторической науке, и в общественном сознании волхвы всё ещё являются выразителями народных воззрений, а не разрушителями их, каковыми они в действительности являются. Удивительное, ничем не извинительное попущение… Видеть же в волхвах, кудесниках, гадателях и чародеях, как и позже в еретиках – некие народные основы жизни, значит совершать ничем не оправданные искажения и подмены и тем самым принижать суть народных воззрений, основанных на вере. Более того, тем самым – вольно или невольно поддерживать в обществе тот массовый психоз, который является непременным спутником крамолы и междоусобицы и от которого, увы, не уберегает уровень его «цивилизованности». Даже само слово волхв настолько уклонилось от его первоначального смысла, что современные словари русского языка придают ему прямо противоположные значения, уже как бы не различая нюансов семантики: мудрый, прорицательный, обладающий даром предвидения, колдун, волшебник, гадатель, ведьмак…
Поскольку у нас теперь сложилась беспрецедентная духовно-мировоззренческая ситуация в обществе, вызванная тем, что под знаком преодоления революционного беззакония начала миновавшего века, совершено новое беззаконие девяностых годов, но уже в иной форме, разум человеческий ищет наипростейшие уловки, не объясняющие ему суть происходящего, но усыпляющие его. Одной из самых распространённых таких уловок и является «возврат к природе», «язычеству», что, конечно же, невозможно и немыслимо. На это, довольно распространённое поветрие, подогреваемое идеологическими лукавцами, можно сказать разве что словами Александра Блока из его рецензии на книгу Н.М. Минского «Религия будущего» (СПб, 1905 г.): «Возврат от метафизического познания к наивному чувствованию невозможен, так как раз открывшаяся бездна не может исчезнуть. Расколотость сознания может быть примирена только шествием сквозь все провалы метафизического разума, может быть только открытием в самих условиях опыта возможности сблизить берега бездны».
Возвращаясь же к летописному рассказу о смерти Олега Вещего и к пушкинской балладе «Песнь о Вещем Олеге», обратим внимание на одну очень важную несообразность, не получившую объяснения, и зададимся вопросом: а был ли вообще Олег Вещий волхвом? Если Олег – волхв, причём не в смысле мудрец, а именно кудесник и чародей, на чём исследователи всё ещё настаивают, то с какой стати он обращался к волхву же за предсказанием свой судьбы? Так не бывает. К волхву обращаются миряне, не наделённые силой предвидения, но никак не волхвы же… В таком случае, по какой причине и в силу каких обстоятельств разыгралась эта драма, завершившаяся гибелью Олега? Значит, Олег волхвом не был, а ему действительно встретился волхв, напророчивший смерть от коня своего, но волхв не в расхожем понимании народного мудреца, а именно – кудесника и гадателя. Да ведь и «вещим» Олег не был, о чём есть прямое указание в летописи. Так его назвали люди лишь по своей неосведомлённости. По «Изборнику»: «И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвещёнными». По другому переводу Лаврентьевской летописи: «И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и не знавшими грамоты» («Се повести временных лет», Арзамас, 1993 г.). По оригиналу Лаврентьевской летописи: «И прозваша Олега вещим бя бо люде погани и невеигла». По Радзивиловской летописи: невеигласи. По рукописи Московской Духовной Академии: невеголоси. Словарь древнерусского языка даёт, по всей видимости, точный перевод слова невеголос: невежественный, необразованный человек, нехристианин… Таким образом Олега называли вещим не христиане.
Но это прямое летописное свидетельство исследователями упорно не замечается, так как оно рушит стереотипное представление об Олеге Вещем как о язычнике и волхве. Представление, кстати сказать, противоречащее пушкинскому пониманию и той эпохи, и личности Вещего Олега, который виделся А.С. Пушкину «в цареградской броне», то есть в православной христианской вере. Дата официального принятия христианства здесь, повторимся, и не столь важна, так как по верному замечанию Льва Гумилёва, «православие было этнической доминантой задолго до Владимира».
Да, власть столь могущественного князя обладала естественно сакральностью, магичностью и таинственностью. Но этими свойствами обладает всякая подлинная, не марионеточная власть, во все времена, в том числе и в наши дни. Люди всегда придавали власти высшее происхождение, как, скажем, в премудростях Соломона: «От Бога вам держава и сила от Вышнего». Но это извечное свойство подлинной власти вообще не даёт никаких оснований считать князя Олега Вещего волхвом, кудесником и чародеем. Более того, пристрастие к чародейству и гаданию несовместимо с природной сакральностью власти, если её носитель не хочет её потерять…
Но так как волховство и язычество Олега Вещего без всяких на то оснований приписываемое ему, никак не согласуется с его поистине грандиозной деятельностью и, в частности, – введением славянской письменности на основе христианских богослужебных книг, то Валерий Демин придумывает наипростейшее обоснование величия и мудрости князя, смысл которого состоит в том, что, мол, оставаясь непреклонным язычником, он сумел разглядеть в славянской письменности пути дальнейшего развития Руси, так сказать, «сумел подняться над религиозно-идеологической ограниченностью во имя культуры, просвещения и великого будущего народов России…». То есть действовал вопреки себе, вопреки своим верованиям. Но так ведь не бывает по самой природе человеческой. Обычно человек так просто не расстаётся со своими верованиями, ибо жизнь его имеет смысл и продолжается лишь до тех пор, пока она имеет свою систему ценностей и мотиваций…
Христианская Церковь в период своего становления, безусловно, внесла свою лепту в дискредитацию язычества. Иначе, видимо, и быть не могло. Но при этом, что самое печальное, в общественном сознании остались неразличимыми язычество, как стройная система дохристианских верований и язычество, обличаемое церковью как бесовство, постоянно воспроизводящаяся в поколениях брань невидимая и ничем неустранимая, сопровождающая человеческое сообщество во всю его историю, борьба за сохранение духовной природы человека, ибо уклонение от неё и всевозможные соблазны довлеют над ним во всё земное бытие. Это тем более печально, что такое неразличение этих разных язычеств даёт повод противопоставлять дохристианские верования и христианство вплоть до сегодняшнего дня. И в этом сказывается вовсе не приверженность дохристианским верованиям и его якобы непорочным основам, «испорченным» христианством. Это одна из форм иноверия, как, к примеру, в «Заметках о поэзии» О. Мандельштама: «Борьба русской, то есть мирской бесписьменной речи, домашнего корнесловия, языка мирян, с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой – сказывается до сих пор. Первые интеллигенты – византийские монахи – навязали языку чужой дух и чужое обличье». (О. Мандельштам. «Слово и культура», М., «Советский писатель», 1987). Нисколько не сомневаясь в искренности автора, следует сказать, что в такого рода суждениях сказывается какая-то глухота к духовной природе человека, к его выделенности душой и разумом из окружающей природы, нечувствование того, о чём писал Александр Блок в статье «Поэзия заговоров и заклинаний»: «Для нас – самая глубокая бездна лежит между человеком и природой». А потому всякое «возвращение» к прошлым формам жизни, как, якобы, безусловно, непорочным, есть или лукавство или бессилие постигать духовную природу человека в постоянно изменяющихся исторических условиях.
Не была письменная византийская грамота враждебной бесписьменной речи и языку мирян, иначе христианство не было бы принято так естественно и, по сути, бесконфликтно. Как и не были византийские монахи «первыми интеллигентами» при всей условности этого понятия отнесённого к столь давней эпохе. «Традиция» сложилась так, что «интеллигентами» в последующем почитались бунтари, а не просветители. А потому, принимая предложенную поэтом О. Мандельштамом терминологию, «первыми интеллигентами» скорее следует считать волхвов, позже – еретиков, и уже гораздо позже – революционеров…
Не через отрицание христианства – возвращение к язычеству, словно это возможно, а через признание и дохристианского язычества, и христианства – вот естественный и единственно возможный путь постижения непостижимой тайны человеческого бытия. Ведь, как справедливо писал Лев Тихомиров, «свои духовные свойства человек не может помещать в среду явлений физических». Он-то и физические явления постигает только благодаря своей духовной природе, и никак не иначе.
В связи же с дохристианскими верованиями, скажу и далее его словами: «Язычество есть явление всечеловеческое, всемирное и представляет область огромной и сложной работы ума и чувств», язычество «нельзя рассматривать только как нечто первобытное, грубое, невежественное, некультурное». (Лев Тихомиров. «Религиозно-философские основы истории», М., 1997 г.). Добавлю, что в равной мере дохристианское язычество нельзя представлять как нечто идеальное, к которому якобы можно вернуться… Такое «возвращение» ничем не лучше спекулятивного порывания в «светлое будущее».
К этому можно добавить разве что суждение выдающегося лингвиста академика Олега Трубачёва: «Не на месте пустом и диком был выстроен величественный христианский храм… Историю русской культуры нельзя начинать с крещения Руси, как и выводить её из Византии. Это можно делать лишь не видя (или не желая видеть) её собственных корней… Новая вера не только искоренила и истребила всё нехристианское, она умела проявлять гибкость, искать и быстро находить, на что опереться в старом сознании, в старом языке народа». («В поисках единства». М., «Наука», 1992 г.).
В высшей мере примечательно, что понимание личности Олега Вещего в исторической, публицистической и популярной литературе, формирующими общественное сознание, является принципиально антипушкинским, прямо противоположным тому, как его постиг великий поэт в балладе «Песнь о вещем Олеге». Но что гений А.С. Пушкина с его абсолютной исторической чуткостью нынешнему самонадеянному идеологизированному, а потому – маргинальному сознанию, не признающему всей сложности человеческого бытия, вечно перестраивающему мир по своему упрощённому подобию и, тем самым, творящему всё новые и новые социальные катаклизмы…
В пушкинской балладе Олег Вещий, – вовсе не волхв и не кудесник, как в один голос твердят современные исследователи… И потом, будем помнить, что в церковном уставе современника Олега византийского императора Льва VI указана русская митрополия, что, конечно же, говорит о довольно обширном распространении христианства уже при Олеге Вещем. Попутно скажу, что неразличение в общественном сознании образного, художественного мышления и, обыденного, безусловно, является признаком кризиса человеческой цивилизации, свидетельством того, что она всё ещё не находит универсальную парадигму развития, из которой не исключалась бы духовная природа человека. Является свидетельством такого положения, когда блага прогресса оборачиваются не меньшими, а, может быть, ещё большими потерями для человека.
Ведь русская литература, уже на своих первых страницах, знает изображение волхвов, причём, именно князя-волхва. Имею в виду, конечно же, Всеслава в «Слове о полку Игореве», которому в древнерусской поэме уделяется столь много внимания.
Ну ладно, допустим, как считают современные исследователи, летопись подвергалась цензуре и редактированию со стороны «ортодоксальных» летописцев в угоду христианской догматике. В определённой мере, видимо, так и было. Но ведь «Слово о полку Игореве» такой цензуре не подвергалось. Перед нами – столь совершенное и глубокое по силе духа творение, какого ни одна литература мира того времени не знала. Между тем, князь-волхв Всеслав и в летописи, и в «Слове о полку Игореве» изображается по сути идентично, с точки зрения христианского миропонимания волховства как бесовства. Это первый и верный признак того, что всё, не укладывающееся в наше уже позднее позитивистское сознание сваливать на «ортодоксальных» христианских летописцев нет никаких оснований.
Автор «Слова о полку Игореве» даёт однозначно осуждающую характеристику Всеславу-волхву, причины крамолы и междоусобицы между братьями-князьями видит в его волховании. Собственно говоря, для того, чтобы вскрыть причины междоусобицы он и вспоминает Всеслава восемьдесят пять лет спустя после его смерти (умер Всеслав в 1101 году). Противопоставляет волхованию Суд Божий, который занимает в поэме центральное место, так как крамола и междоусобицы понимались им прямым следствием волхования. Упоминание же в поэме языческих богов с непременным добавлением «внуки» («Стрибожьи – внуци», «Даждьбожьи внуци») говорит о преемственности и непрерывности духовной жизни, что постиг и выразил безвестный автор поэмы. Такое опосредованное упоминание языческих богов не даёт абсолютно никаких причин усматривать в поэме языческую основу, как это делают многие современные исследователи, одержимые «спекуляцией язычествующего разума», ибо поэма насквозь пронизана христианским верованием и миропониманием. Даже заканчивается как молитва – «Аминь». Цель изображаемой в поэме борьбы – «побарая за христианы». Да и Суд Божий в поэме говорит сам за себя.
Суд же Божий по христианскому представлению состоял вовсе не в непременном наказании неправедного, но в выявлении праведности или греховности человека: «Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Евангелие от Иоанна, 3-19). И мы видим, что и с волхвами, и позже с еретиками ведётся полемика за их переубеждение, за торжество правого мироустройства и сущности человека. То есть борьба велась, прежде всего, исключительно словом. Не христианские исповедники, но власть применяла к ним силу, когда всё заходило слишком далеко, и над обществом нависала угроза духовного разложения и сползания в хаос. Иначе, прямо противоположно действовали волхвы. Они выдвигали такие идеи, согласно которым определённая категория людей должна быть непременно умерщвлена, иначе, по их понятиям, мир никак не устроится… Никакое это, конечно, не язычество в смысле дохристианских верований, но тот духовно мировоззренческий комплекс, который направлен против всякой веры, – не только против христианства, но и против язычества. Но так как этот комплекс не получал, и до сих пор не получает чёткого объяснения, противостоять его разрушительной силе сложно. Не случайно по какому-то странному попущению или умыслу всякая естественная попытка защиты своей веры у нас лукаво выставляется в общественном сознании как нетерпимость к иным вероучениям…
В чём упрекает автор «Слова» Всеслава? Как сказали бы сегодня, в двойных стандартах: «Всеслав князь людям судяше, князем грады рядяше, а сам волком в ночь рыскаше…». Иными словами, автор упрекает Всеслава в том, что для людей, для мира – он один, а на самом деле иной. Упрекает его за то, что тот поступает точно так же, как еретики более поздних времён, которые на людях, формально соблюдали христианские обряды, а тайно, в узком кругу, богохульствовали. И это было принципиальной позицией еретиков – не открыто, но тайно выступать против христианской веры. Как видим, это сказалось уже и в волхве Всеславе.
Автор «Слова о полку Игореве» приводит слова своего предшественника Бояна, из которых видно, что уже Боян, хотя и пел припевку Всеславу, понимал его волховскую натуру: «Ни хитру ни горазду, ни птицю горазду Суда Божия не минути». О как это перекликается со словами князя Ярослава, который, расправившись с появившимися в Суздале волхвами, согласно летописи, якобы сказал: «Бог посылает за грехи на любую землю голод или мор, или засуху, или иную казнь, а человек ничего не знает о том».
Летопись, безусловно, правили, о чём свидетельствуют столь значительные пропуски в ней, о которых мы уже говорили. Но вот кто именно и из каких соображений правил – на это нет пока ясного ответа. Сваливать же вину за пропуски в летописи только на «ортодоксальных» христианских летописцев выглядит неубедительно.
Князь Всеслав и по летописи, и по «Слову» не является никаким язычником, а волхвом и безбожником. Согласно летописи, таким он уродился, что и отмечено в летописи под 1044 годом его рождения: «Мать же родила его от волхования. Когда мать родила его, на голове его оказалась сорочка, и сказали волхвы матери его: «Эту сорочку навяжи на него, пусть носит её до смерти». И носит её Всеслав и до сего дня: оттого и не милостив на кровопролитие». Кстати эта запись сделана летописцем, как видно по всему, при жизни Всеслава, о чём свидетельствует ремарка «до сего дня». И летописец не прибегнул ни к велеречивости, ни к умолчанию, не убоясь княжеского гнева…
Об антихристианстве же Всеслава и безбожии вообще свидетельствует и то, что он снял колокола с собора святой Софии в Новгороде и пограбил убранство храма. Никакого отношения этот акт вандализма и безбожия к дохристианскому язычеству не имеет. Скорее тут Всеслав был движим тем специфическим состоянием сознания и души, которое было направлено против всех мировых религий.
Призвание и традиция русской литературы постигать духовную, а не только социальную суть явлений от «Слова о полку Игореве» продолжилась и в дальнейшем. Пророческие стихи наших великих поэтов А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова («Пророк» – «Духовной жаждою томим…» и «Пророк» – «С тех пор как вечный Судия…») имеют не гадательную основу, но христианскую. Пушкинский «Пророк» вообще, кажется, стихотворным переложением шестой главы «Книги пророка Исайи…».
Таким образом, можно уверенно говорить о том, что нет никаких оснований считать, что кудесничество, гадание, чародейство, магия, оккультизм – это и есть язычество… Нет хотя бы потому, что язычество, как дохристианское верование, оказалось поглощённым христианством, а эти явления существовали как в языческие времена, так и во всю историю христианства вплоть до нашего времени. Но, уподобляя их язычеству, искажают как язычество, так и их антихристианскую направленность. Это скорее – вечный искус окончательного познания и овладения миром, вне веры. Причём, наиболее простым, кратчайшим путём, который оказывается самым длинным и самым окольным. Но окончательного познания мира быть не может. Непостижимость мира – данность, с которой надо считаться.
Поскольку все летописные сообщения о волхвах приходятся на периоды междоусобиц, крамол и несчастий, нельзя не задаться вопросом не только об их взаимосвязи, но и о том – почему летописец вдруг вспоминает о волхвах, появление которых было давно? Значит, он видел в сообщении о них столь важный аспект жизни, без которого летописный рассказ об определённых событиях будет неполон или неверно понят. Кстати, вставками в летописи выглядят и другие сообщения о появлении волхвов в описании междоусобиц. Вставка о волхвах в Суздале не может быть случайной. Что-то хотел сообщить автор летописи этим… Определить эту запись как вставка и посчитать свою задачу выполненной, что и делали многие исследователи, не может быть принятой всерьёз. Между тем, смысл этого летописного сообщения кроется не столько в нём самом по себе, сколько в том летописном контексте о междоусобице, в котором оно приводится.
На примере летописного сообщения о появлении волхвов в Суздале под 1024 годом наглядно видна не самоцельность рассказа о них. Сообщение это является явной вставкой о междоусобице, после смерти Владимира-Крестителя, когда Святополк окаянный уже убил братьев Бориса, Глеба и Святослава, а Мстислав, до того отсиживавшийся в отдалённой Тмутаракани и не вступавшийся за братьев, вдруг пошёл на Киев, на брата Ярослава вместе с хазарами и касогами, до того, как известно, покорив касожского князя Редедю, о чём подробно сообщается в летописи и помянуто в «Слове о полку Игореве»: «Иже зареза Редедю пред полкы касожскими».
Но вернусь к сообщению о появлении волхвов в Суздале в 1024 году: «Ярослав находился в Новгороде, Мстислав же пришёл из Тмутаракани к Киеву, и не приняли его киевляне. Он же пошёл и сел на столе в Чернигове, Ярослав же был тогда в Новгороде. В то же лето поднялись (появились – П.Т.) волхвы в Суздале, избивали зажиточных людей, по дьявольскому научению и бесовскому действию, говоря, что они держат обилие. Был мятеж великий и голод по всей стране, и пошли по Волге все люди в Болгарскую землю, и привезли хлеба и ожили. Услышав о волхвах, Ярослав пришёл в Суздаль. Захватив волхвов, одних он изгнал, а других казнил, говоря: «Бог посылает за грехи на любую землю голод или мор, или засуху, или иную казнь, а человек ничего не знает о том». («Се повести временных лет», Арзамас, 1993 г.)
Упоминая о волхвах, автор летописи, надо полагать, тем самым стремился охарактеризовать духовно-мировоззренческое состояние общества и вытекающую из него политическую ситуацию, а вовсе не только для того, чтобы рассказать о том, кем были волхвы. Эта запись о волхвах оказалась ему необходимой для того, чтобы определить положение, сложившееся в связи с походом на Киев, на брата Ярослава Тмутараканского князя Мстислава. И, видимо, в целом – братоубийственную войну, разразившуюся после смерти князя Владимира-Крестителя в 1015 году. Такого, столь решающего периода в истории Руси, когда на кону стояло само её бытие, не будет потом долго, разве что около пятисот лет спустя во времена Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, когда сначала в Новгороде, а потом и при княжеском дворе в Киеве завелась ересь, и над Русью нависла опасность изменения этнической идентификации, то есть веры. Кстати сказать, отношение к волхвам было точно таким же, как потом к еретикам, что само по себе свидетельствует о том, что явления эти если и не идентичные, по-разному проявляемые в разные времена, то, во всяком случае, сходные.
Описание этой междоусобицы, как мне кажется, историками несколько упрощается, так как недостаточно акцентируется внимание на главном – что явилось её причиной, какова была её суть и какие последствия для Руси она могла иметь. В то время, как совершенно очевидно, что после смерти Владимира была предпринята явная и серьезная попытка смены веры на Руси. То есть всё, как и всегда, как и во все времена, определялось, прежде всего, пониманием ценностей этого мира и типом мышления или, как мы говорим теперь, менталитетом. Эта борьба за Русь, как видно по всему, началась ещё при жизни Владимира, но приняла открытие формы после его кончины. И, как всегда, – используя разногласия между братьями-князьями. Этот трагический, решающий период нашей истории подробно описан Львом Гумилёвым в книге «Древняя Русь и Великая степь» (М., «Мысль», 1989 г.) И что примечательно и особенно ценно – не с точки зрения реально-бытовой, то есть описания всех перипетий и подробностей войны, к чему, к сожалению, у нас зачастую и сводится история, и в которых она, по сути, тонет, а с точки зрения выявления тех смыслов, которые за ней стояли, тех побудительных причин и тех мотиваций, в результате которых она стала возможной.
Старшим сыном князя Владимира-Крестителя был Святополк. Ему по смерти отца доставался княжеский стол. Но отец недолюбливал его, связывая будущее княжеского стола с Борисом, которому накануне смерти и доверил командование войском против печенегов. И дело было не только в сомнительном происхождении Святополка, но в его духовной и мировоззренческой ориентации. Как писал Георгий Вернадский, «Святополк – сомнительного происхождения, сын вдовы Ярополка, на которой Владимир женился, когда она уже была беременной» («Киевская Русь», Тверь, «Леан», М., «Аграф», 1996 г.). По всей видимости, Святополк был усыновлённым племянником Владимира. Всё дело было в том, что Святополк, являясь, по словам Льва Гумилёва, первым русским западником, подпал под влияние католичества, готовя переворот в Киеве, о чём Владимир, по всей видимости, дознался. Сошлюсь на «Сказание о Русской земле» А. Нечволодова: «…Сын Владимира Святополк, женился на дочери польского короля Болеслава Храброго. Однако, выдав свою дочь замуж за православного князя, Болеслав стал действовать на Святополка через дочь, с целью склонить его к принятию католичества. Скоро Святополк очень поддался этому, что ему было особенно удобно, так как он сидел в Турове, городе, близко лежавшем к польской земле. Тогда Болеслав стал подучивать Святополка восстать против отца. Владимир заключил за это Святополка с женой в темницу, в которой они провели некоторое время.
По поводу этого заключения в темницу Болеславовой дочери – у нас в 1013 году началась с поляками война, которая, однако, окончилась, так как Болеслав поссорился с печенегами, которых навел на Русь, и ушёл к себе в Польшу». (Уральское отделение Всесоюзного культурного центра «Русская энциклопедия». Книга первая. 1991 г.). Впрочем, об этом прямо и недвусмысленно писал ещё Н. Карамзин: «Владимир усыновил Святополка, однако ж, не любил его и, кажется, предвидел в нём будущего злодея. Современный летописец немецкий, Дитмар, говорит, что Святополк, правитель Туровской области, женатый на дочери Польского короля Болеслава, хотел по наущению своего тестя, отложиться от России, и что Великий князь, узнав о том, заключил в темницу сего неблагодарного племянника, жену его и немецкого Епископа Рениберна, который приехал с дочерью Болеслава». («История государства Российского», том II, СПб, 1892 г.).
Словом, подробности жесточайшей междоусобицы, разразившейся на Руси, историками описаны верно и подробно. Не вполне только, как мне кажется, осознавались её причины и трагические последствия, в случае, если бы Святополку удалось произвести смену веры. О том же, что возможность навязать католицизм на Руси существовала реально, писал так же Д. Иловайский: «Но католическое духовенство по характеру своему не могло ограничиться одними дружескими отношениями с Русью и ещё при Владимире успело обнаружить свои неуклонные виды на присоединение Русской церкви к Риму. Поводом к этому послужил родственный союз Русского княжеского дома с Польским. Владимир женил одного из своих сыновей, Святополка Туровского на дочери польского короля Болеслава Храброго. Польская княжна прибыла на Русь в сопровождении Рениберна, епископа Колобрежского (Кольбергского). Последний по всем признакам, начал склонять к переходу в латинство Туровского князя и его приближенных, и не без успеха. Так как Святополк в это время имел старшинство между сыновьями Владимира, то ему принадлежало право на великое княжение Киевское по смерти отца, и, следовательно, католицизму открывалась возможность с его помощью и всю Русь отторгнуть от Греческой церкви. Замыслы эти втайне поддерживал тесть Святополка король Болеслав. Последний, по-видимому, желал, чтобы зять его захватил великое Киевское княжение, не дожидаясь смерти Владимира; причём, он, конечно, надеялся воспользоваться смутами, чтобы увеличить свои владения за счёт Руси. По крайней мере, Владимир узнал о каких-то замыслах Святополка и заключил его в темницу вместе с его женою и епископом Рениберном. Окончание этого дела неизвестно, но Святополк, вероятно, успел оправдаться: так как во время Владимировой кончины мы видим его на свободе». («Становление Руси», «Алгоритм», 1996 г.).
Но для современного читателя остаётся не вполне ясным то, почему Святополк, оказавшись на княжеском столе и располагая властью, вдруг начал убивать своих братьев. Ведь, казалось бы, по обыденной логике, он должен был добиваться их подчинения ему, но не убийства. Но в этом-то и заключается сакраментальный смысл крамолы, что она проявляется, прежде всего, не в обыденной и не в социальной сфере, но в духовной и мыслительной. Обладая формальной властью, Святополк не обладал властью сущностной, основанной на народной вере, а значит и на поддержке народа. Киевляне не могли простить ему католичества и бунта против отца, прозвав окаянным. Такое специфическое, агрессивное состояние человека, как видим, основанное на смене веры, признает только своё миропонимание. Другие же миропонимания мешают ему и изобличают его самим фактом своего существования, а, потому, по его логике, должны быть уничтожаемы. Причём, непременно и неизбежно. Так что междоусобная борьба, во всяком случае, в данной ситуации, велась не только за власть, как часто думают. Власть-то принадлежала и по закону, и по старшинству, и фактически Святополку и, тем не менее, он убивает братьев… Это очень важный момент для уяснения причин междоусобицы, как в прошлом, так и во всю нашу историю, вплоть до наших дней. По сути, Святополк убивает братьев по тем же причинам, по которым волхвы убивали «лучших жен» – духовная, мировоззренческая несовместимость и нетерпимость и убеждение в том, что только таким путём мир может устроиться. По существу, по тем же причинам люди убивают друг друга в период революционного беззакония и смуты. Тут ничего не изменяется в веках, разве что словесное обрамление происходящего.
Казалось, что только по какой-то счастливой случайности Ярославу удалось одолеть Святополка окаянного. Видя избиение братьев, Ярослав в панике уже, было, хотел бежать в Швецию. Но посадник Константин Добрынич приказал изрубить ладьи, на которых Ярослав намеревался бежать. Был организован поход на Киев, увенчавшийся успехом. Святополк бежал в Польшу и умер по дороге от психической болезни. Не от угрызения совести, конечно, но именно от психического расстройства, что тоже очень важно для уяснения того миропонимания, которое он исповедовал.
Читатели могут упрекнуть нас в том, что мы, вроде бы, отвлекаемся от темы, от «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина, уходя в духовно-мировоззренческие аспекты. Но это не совсем так. Ведь без чёткого уяснения сущности волховства и существа крамолы, по сути, невозможно объективно прочитать балладу А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
На многие неотступные вопросы наводит тот давний период зарождения крамолы и братоубийства. Поскольку это имеет чрезвычайно важное значение для нашего самосознания, остановимся на нём подробнее. Теперь с удивлением и изумлением приходишь к выводу о том, что если бы ответы на эти вопросы были бы даны своевременно, то, может быть, крамола и не распространялась бы на Руси с такой устойчивостью в последующие тысячу лет вплоть до сегодняшнего дня.
А вопросы эти такие. Прежде всего, истоки и причины крамолы и братоубийства в значительной мере явились следствием внешнего влияния, а вовсе не выходили из каких-то противоречий самой жизни на Руси. Католичество Святополка окаянного, которому он оказался подвержен и которое намеревался утвердить вместо православия на Руси, разве это не внешнее влияние? В житие Бориса и Глеба прямо говорится о том, что Святополк действовал «по научению злых людей».
Крамола оказалась пресечённой, в конце концов, князем Ярославом именно силой оружия и никак не иначе, отчего, как известно, отказался князь Борис, который под влиянием опасности ослаб телом.
Понятие кровного братства для убиваемого Бориса, как известно, оказалось выше родства духовного. Но это противоречит основному и главному положению вероучения о том, что родство по крови является ниже родства по духу. Так что чувство кровного братства Бориса не может быть аргументом и основанием для того, чтобы не оказать сопротивление Святополку окаянному, одержимому дьяволом… К тому же Борис, Глеб и Святослав, как известно, не были кровными братьями Святополку так как он был усыновленным племянником Владимира… Это и вовсе лишает логики непротивление князя Бориса. Конечно, есть житейская, историческая логика, а есть вера, в эту логику не укладывающаяся. Но данные-то факты таковы, что ни по логике житейской, ни по вере не могут не быть учитываемыми. И потом, если Святополк был одержим бесом, почему делается уступка непротивления ему, то есть бесу? – «Господи… рассуди меня с братом моим. И не поставь ему в вину греха сего, но прими с миром душу мою» («Страдания и чудеса святых мучеников Бориса и Глеба»). И главное – почему Борис и Глеб канонизированы, а брат их Святослав предан забвению?
И – с прославлением Бориса и Глеба крамола на Руси не прекратилась, продолжая терзать Россию вплоть до сегодняшнего дня. Но если так, что надеюсь, никто оспорить не может, то остаётся единственный выход. Для того, чтобы восстановить справедливость, Русской Православной Церкви необходимо вернуться к этому периоду первоначального зарождения крамолы, пересмотрев его. Если Борис и Глеб святые, то почему брат их Святослав, так же безвинно убиенный Святополком окаянным оказался забытым? Неужто, лишь потому, что не ждал смиренно расправы, а оказал пассивное сопротивление братоубийце бегством, в то время как непротивление было основным христианским догматом? Как известно, Святослав был настигнут у горы Угорской, когда бежал в Венгрию, и так же убит безвинно, как Борис и Глеб… Как сообщается в летописи, «Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал в Венгрию». А потому Русской Православной Церкви по всей вероятности, необходимо рассмотреть вопрос о канонизации князя Святослава, брата Бориса и Глеба в числе первых русских святых.
Князь Святослав занимает свое незаёмное место в русской истории. По первоначальному распределению уделов ему досталась Древлянская земля. Но есть версия, что распределение столов Владимиром между сыновьями состоялось позже, в 1010 году, и что князь Святослав до этого правил в Тмутаракани. (Гадло А.В. «Тмутараканские этюды» III, Вестник ЛГУ, 1990, вып. 9). Совершенно справедливо напрашивается вопрос о том, почему он не занимает своего исконного места в истории русской святости, если им так же, как и братьями его, Борисом и Глебом совершён духовный подвиг безвинной и мученической смерти…
Казалось бы, междоусобица стихла. Но, воспользовавшись ослаблением Руси войной между братьями – Святополком и Ярославом, – поднялись извечные и самые серьёзные противники – хазары, используя при этом добродушного Мстислава, княжившего в Тмутаракани. Реконструкция событий, предложенная в свое время Львом Гумилёвым в связи с походом Мстислава на Ярослава и на Киев, пожалуй, не вызывает никаких сомнений.
Под 1023 годом в летописи значится сообщение: «Пошёл Мстислав на Ярослава, с хазарами и касогами». А годом ранее, как известно, в 1022 году, князь Мстислав покоряет касогов, постоянных врагов хазар, убивая на поединке Редедю, о чём говорится в летописи, о чём пел славу Мстиславу Боян и о чём поминает автор «Слова о полку Игореве». Безусловно, Мстислав покоряет касогов по наущению и при поддержке тмутараканских хазар. Это подтверждается тем, что сразу же после этой победы он вдруг идёт на Киев, на брата Ярослава. Слишком уж несвоевременным был этот поход для Ярослава, только закончившего войну со Святополком окаянным. А потому совершенно прав Лев Гумилёв, усматривавший в этом походе намерение устроить на Руси химерическое государство по образцу Хазарии, когда правящая верхушка исповедовала иудаизм, а народ был другого вероисповедания: «Согласно летописной манере изложения, инициатива всегда приписывается князю, а влияние советников и давление общественного мнения опускается. Однако в свете описанной ситуации вернее считать, что на Русь пошли походом «хазары» и «касоги», а чтобы привлечь на свою сторону часть русских, привели с собой Мстислава Владимировича».
О том, что такой замысел был в действительности, писал и Георгий Вернадский. Правда, писал деликатно, не обнажая сути борьбы, но которая и через эту деликатность всё же проступает: «Правление Мстислава – это в определённом смысле, попытка заменить господство на Руси Киева господством Тмутаркани и возродить древнерусский каганат докиевских времён». То есть, сменить этническую доминанту на Руси – вместо православия насадить иудаизм. Во всяком случае, в правящей верхушке. Но киевляне отказались принять Мстислава с его хазарскими союзниками.
И тут, как обыкновенно бывало в истории Руси-России, включаются какие-то непредвиденные обстоятельства, казалось бы, случайности, сущие малости, которые и рушили все планы завоевателей. Как известно, Ярослав с наёмной варяжской дружиной и Мстислав с хазарами и касогами сошлись у города Листвена. Ярослав потерпел поражение и снова бежал в Новгород. Но победитель Мстислав вдруг просит мира у побеждённого Ярослава, признавая его старшинство: «Садись в своём Киеве, ты старший брат, а мне будет эта Черниговская сторона». Казалось, ни по какой логике этого не должно было произойти, и, тем не менее, всё произошло именно так. И сотворился мир на Русской Земле. Как писал А. Нечволодов, «братья съехались у города близ Киева и разделили Русскую Землю по Днепру: Мстислав взял себе восточную часть, со столом в Чернигове, а Ярослав – западную, с Киевом. Это было в 1025 году, и «начали» они жить мирно и миролюбиво, то – говорит летописец, – и перестала усобица и мятеж, и была тишина великая в Земле». Об этой, вроде бы, неожиданной перемене Мстислава писал и Н. Карамзин: «Он поднял меч на брата, но загладил сию жестокость, свойственную тогдашнему веку, великодушным миром с побеждённым и Россия обязана была десятилетнею внутреннею тишиною счастливому их союзу, истинно братскому».
Попытка создать на Руси хазарскую химеру не удалась. Как писал Лев Гумилёв: «Нет, попытка создать на месте Руси вторую Хазарию провалилась не из-за случайного неведения. Личные отношения с храбрым и доверчивым князем не могли восполнить той непопулярности, даже неприязни, которую вызывали иудео-хазары в киевлянах, ещё помнивших поход достопочтенного Песаха».
Как известно, побывав на Кубани, А. С. Пушкин намеревался написать поэму о Тмутараканском князе Мстиславе. Примечательно, что из многих князей, помянутых в «Слове о полку Игореве», именно на нём он останавливает внимание, причём, темой поэмы должно было быть испытание князя искушением. (Не в связи ли с восьмисотлетием сражения Мстислава с Редедей он замыслил эту поэму? Ведь именно в этот, 1822 год К. Рылеев тоже пишет балладу о Мстиславе, но вполне «традиционную»). Но поэма о Мстиславе так и осталась А. С. Пушкиным ненаписанною, но, в том же году А. С. Пушкин создаёт «Песнь о вещем Олеге». Как думается, поэма о Мстиславе не была написана по той причине, по какой замыслы художников не всегда совпадают с их воплощением, когда как бы сопротивляется материал, и чуткая душа художника вопреки замыслу и расчёту, постигает правду духовную, историческую, нравственную, человеческую. Поэма о Мстиславе не была написана А.С. Пушкиным по той же причине, по какой Л. Толстой, замыслив роман о декабристах, пишет «Войну и мир», А. Блок, так и не дописав поэму «Возмездие», создаёт «Двенадцать» и «Скифы», М. Шолохов, замыслив роман о корниловском мятеже, создаёт народную эпопею о казачьей жизни «Тихий Дон». Так и А.С. Пушкин, вознамерившись написать поэму о Мстиславе, создает «Песнь о вещем Олеге». Пишет балладу об Олеге, как бы с думой о Мстиславе, ибо то, что произошло с Олегом – искушение, жертвой которого он стал, того не произошло с Мстиславом…
Таким образом, главный подвиг Тмутараканского князя Мстислава состоял не в том, что с помощью хазар и под покровительством Божией Матери он в 1022 году покорил касогов и убил Редедю, что и осталось широко известным в истории. А его подвиг 1016 года – разгром крымских хазар с помощью Византии оказался как-то и вовсе незамеченным. Основной подвиг Мстислава менее заметен в истории, но имеет громадное значение для спасения Руси и её благополучия – это подвиг братолюбия. То есть, подвиг не столько военный, сколько духовный. Не потому ли автор «Слова о полку Игореве», похоже, иронизирует над Бояном, песнотворцем Мстислава, что тот пел славу своему князю не о главных его подвигах?
Но так странно складывается наша история, что предпочтение в ней отдаётся именно внешней, военной силе, а не внутренней, духовной, менее заметной, но более важной для народа и страны. Примечательно, что подвиг братолюбия Мстислава остаётся в тени, а его покорение касогов почитается и до сего дня, причём как явление Божьей Матери на Кубани в 1022 году. Мстислав-то действительно одолел в единоборстве Редедю, обратившись с мольбой к Богородице… В честь этого события под Краснодаром у посёлка Белозёрного, на берегу озера Лотосов в 1997 году возведена часовня. Цель возведения этой часовни в общественном сознании по причине «информационности» нашего общества, непонятна, а тот её потаённый смысл, о котором я говорю, конечно, и вовсе не ведом…
Примечательно, что сразу же за летописным сообщением 1023 года: «Пошёл Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами», летописец вроде бы вдруг вспоминает о появлении волхвов в Суздале. По нашей обыденной логике это описание появления волхвов в Суздале здесь кажется и вовсе ничем не мотивированным. Но летописец делает эту вставку для того, чтобы передать истинный духовно-мировоззренческий смысл событий в связи с походом Мстислава на Киев. Летописцу и понадобилось сделать эту, внешне вроде бы, не относящуюся к повествованию вставку. То есть, в данном случае, он преследовал не столько историческую, событийную цель, сколько духовно-мировоззренческую. А о том, что положение тогда складывалось действительно сложное, свидетельствует то, что Ярослав лично прибывает в Суздаль для успокоения и умиротворения людей и надо полагать, для оказания помощи им в связи с голодом, о чём прямо говорится в летописи.
Ни за какое якобы возвращение в лоно дохристианского язычества, как видно из летописных записей, волхвы, конечно же, не ратовали. На это нет даже никакого намёка ни в каких источниках. Как волховство, так и позже еретичество, представляло собой не инакомыслие, но полное отрицание христианской веры, составляя специфический мировоззренческий комплекс: «Иудаизм, смешанный с астрологией и обрывками проникших из ренессансных обществ Запада натурфилософских учений». Эту точную характеристику публициста Андрея Зубова приводил Вадим Кожинов.
О том же, что этот сложнейший и жесточайший период междоусобицы на Руси имел именно такой смысл свидетельствует то, что итогом его явился духовный и литературный памятник «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. В летописи под 1051 годом сообщается: «Поставил Ярослав русина Илариона митрополитом, собрав для этого епископов».
Странное дело, не укладывающееся в понятия обыденной логики: первый русский митрополит Иларион в своей страстной исповеди «Слове о законе и благодати», вроде бы, должен был обосновывать право Русской церкви на самостоятельность и независимость от Византии, так как до этого митрополитами на Руси были исключительно греки. Но он в своём слове не только не проявляет никакой конфронтации по отношению к Византии, но всячески подчеркивает преемственность от неё. Весь же полемический запал его слова направлен на обоснование права христианства на своё существование, свободного от влияния иудаизма и язычества; на обнажение той невидимой брани духовной, которая сопровождает человека во всю его жизнь, за сохранение его духовной природы.
И что характерно, на протяжении всех этих веков отношение к волхвам, так же как и к еретикам, остаётся неизменным: «Еретиков, всенародныя тишины возмутителей, праведному суду всяко предлежит предавати к наказанию».
Говоря же о «преемственности» между волхвами и еретиками, важно отметить обстоятельство, долгое время искажавшееся, состоящее в том, что как волхвы, так и еретики именно появляются, а не восстают. И уж тем более «восстают» не против якобы социальной несправедливости, возглавляя народное движение.
Как известно, ересь в Новгороде во времена Иосифа Волоцкого и архиепископа Новгородского Геннадия завелась после того, как в свиту литовского князя Михаила Олельковича с «еретической миссией» прибыл Схария, называемый «князем Таманским» (как тут не вспомнить Тмутараканских – Таманских хазар, приходивших с князем Мстиславом на Киев). С его деятельности и начался на Руси еретический захват высшей церковной и государственной власти. Речь шла не о какой-то альтернативной вере, но об отступничестве от православия, то есть духовном и моральном разложении общества, погружении его в состояние беззакония и смуты. И такая возможность в то время была вполне реальной, так как невестка великого князя Ивана III Елена Волошанка, подверженная ереси, жена наследника престола Ивана Молодого была матерью Дмитрия, после смерти отца провозглашённого наследником престола… В том и состояло величие подвига Иосифа Волоцкого, что ему удалось перебороть в общественном сознании отношение к ереси, грозившей катастрофическими последствиями. Ведь речь шла о сломе полутысячелетнего бытия Руси. К сожалению, идеологически ангажированные исследователи и публицисты и до сих пор представляют еретиков как какой-то кружок «вольнодумцев», одержимых «прогрессивными» идеями и исканиями…
С некоторым удивлением и даже растерянностью обнаруживаешь теперь, что почти каждое значимое духовно-мировоззренческое событие нашей многотрудной истории, а также выдающиеся личности в ней представлены в нынешнем общественном сознании в искажённом, а то и в прямо противоположном смысле. Эти искажения столь последовательны, что их никак нельзя отнести на счёт недосмотра или какого-то случайного стечения обстоятельств. Как искажена и, по сути, недоступна общественному сознанию выдающаяся роль в истории Руси великого князя Олега Вещего, так же искажён подвиг и преподобного игумена Иосифа Волоцкого. Либеральствующее сознание уже более позднего времени в целях идеологических противопоставило Иосифа Волоцкого Нилу Сорскому, представило их взаимоотношения как конфликт, как якобы представителей двух направлений мысли враждующих между собой, «иосифляне» и «нестяжатели», чего в действительности не было. Они были представителями не разных направлений мысли, а разных служений. Если Иосиф Волоцкий был представителем монастырского служения, то Нил Сорский «почитается основателем в России скитского жития в более строгом и точном его устройстве» («Преподобного отца нашего Нила Сорского предание ученикам своим о жительстве скитском», Санктпетербург, 1852 г.). Но, это уже иная и большая тема, имеющая прямое отношение к нашему нынешнему духовному состоянию, требующая самостоятельного рассмотрения.
Ещё раз вернусь к волхвам, которых современные исследователи так любят выставлять представителями и даже жрецами дохристианского язычества. Справедливо писал И.Я. Фроянов, что «дар ясновидения волхвов выразился в их способности найти между «лучшими женами» тех, кто «обилие держит». «Держит гобино» или обилие, то есть препятствует урожаю. Иными словами, эти «лучшие жены» или «старая чадь» дурно влияют на жизнь людей, нежелательны для коллектива, а потому и подлежали уничтожению. То есть «избиение волхвами «старой чади» носило ритуальный характер» (И. Я. Фроянов). Стоит отметить, что психоз, возбуждаемый волхвами в обществе был столь силен, что мужчины сами приводили для убийства своих жён и матерей… Ещё раз скажу, что психоз этот никакого отношения к дохристианскому язычеству не имеет, как и еретичество не имело никакого отношения к прогрессивным идеям и исканиям.
Итак, волхвы – это еретики более раннего времени. И гадатели, маги, кабалисты, оккультисты времён «просвещённых» – прямые наследники летописных волхвов. В наше время мировоззренческой растерянности их чаще называют целителями, хотя суть их прямо противоположна, ибо, как правило, они приводят человека к духовному и душевному недугу. Все эти разновидности волховства, по-разному называемые в разные эпохи, не признают тайны человеческого бытия, хотя и признают наличие «высшей силы», с которой можно вступить в общение при помощи определённых магических действий. Они однородны по типу сознания. Мир для них познаваем, так как тайна его, по их представлениям, находится не в самом человеке, а вовне, в отличие от представлений духовных: «Счастье лежит не вне человека, а в нём самом, и единственный путь к его достижению есть самопознание» (Н.С. Трубецкой). Наиболее популярен из них оккультизм, как общее название мистических учений. Вот его, так сказать, программные положения: «Задачей оккультизма является проникновение в тайны мироздания, жизни и смерти, и овладение секретами психического и так называемого сверхъестественного миров… Оккультизм решительно отрицает существование чего-нибудь сверхъестественного в мире… Явления, которые зовут сверхъестественными, просто ещё не поддаются объяснению, но таковых много и в области чисто материальной». (С. Тухолка. «Оккультизм и магия», С-Петербург, издание А.С. Суворина, 1907 г.)
Примечательно, что как волхвы вызывали духов в свой дом, так же и оккультисты вызывают «высшие силы». Ситуация абсолютно идентичная, несмотря на огромное временное расстояние. Более чем примечателен тот факт, что в наше идеологизированное время волхвов выставляли как предводителей революционных антифеодальных выступлений народа, хотя ни о каком феодализме тогда ещё не было оснований говорить.
В подтверждение «преемственности» от волхвов до революционеров нашего времени сошлюсь на поразительный документ, который, может быть сравним по своему значению, разве что, с летописным появлением волхвов в Суздале в 1024 году. Документ относится к началу революционного миновавшего ХХ века:
Приказ
Усть-Лабинского Революционного Комитета
№ 89
29 октября 1920 года ст. Усть-Лабинская
По станице разными тёмными личностями выпущена и распространяется очередная злая провокация; о каком-то народившемся в Екатеринодаре АНТИХРИСТЕ, и о том, что ученикам школ будет прикладываться Коммунистическая печать.
Провокация эта пущена с определённой целью, дурно повлиять на несознательные массы, играть на нервах неграмотного народа, подорвать значение школ и дело Народного Образования.
Отцы и матери! Не верьте этой наглой лжи, ведите в школы своих детей: НИКАКОГО АНТИХРИСТА нигде не народилось и не может народиться, а также никаких печатей и не кому не прикладывается: всё это новые выдумки врагов Трудового народа, распускаемые тайными агентами барона Врангеля и буржуазией, которые, потеряв надежду взять власть в свои руки силой оружия, прибегают к всевозможным средствам, если не свергнуть, то хотя бы подорвать Советскую Власть и насколько возможно задержать просвещение тех масс, которые они целые века держали в кабале. Эти шпионы отлично знают, что, дав народу избавление от темноты, им никогда не удастся осуществить свою заветную мечту.
Помните граждане, что ликвидация безграмотности есть верный путь к светлой будущей жизни.
Объявляя о сём, приказываю всех лиц, замеченных в распространении этих вредных слухов задерживать и доставлять в Ревком, где к ним будет применяться высшая мера наказания.
Вр. Предревкома САРАНЧА
Зав. отделом Народного образования и
Секретарь Ревкома ЕПИФАНОВ
Документ, конечно, поразительный по тому психологическому состоянию, которое неизбежно охватывает людей в периоды беззакония и революционного анархизма. Нетрудно заметить, что «тёмные личности» в этом документе и есть волхвы нового времени. И с ними точно так же поступали, как и с волхвами древними.
Читатели могут задаться вполне резонным вопросом, а правомерно ли моё сближение смут с древнейших времён до наших дней, по их характеру и типу? И здесь я должен уверить читателей в том, что такое сближение правомерно и единственно возможно для уяснения сути происходившего. Но, конечно, при условии, что мы общественное сознание принимаем в исторической непрерывности, не подменяя его сиюминутными соображениями, облечёнными в идеологические и политические догмы, на каждый час свои.
О том, что понимали и столь трагически переживали русские писатели в период революционной смуты, но что не вполне теперь понятно нам, что мы даже не осознали с какой сферой человеческой жизни имеем дело, свидетельствует в частности такой факт. Истолковывая появление волхва при князе Глебе в Новгороде в 1071 году современные историки усматривают в нём народный смысл потому, что: «И люди разделились надвое: князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли и встали за волхвом. И начался мятеж великий в людях». При этом подразумевается, что если большинство людей пошло за волхвом, то значит, он выражал некие народные чаяния и интересы. На самом же деле, такое явление психологического свойства парламентским большинством не решается, ибо не может быть, таким образом, верно оценено. Смутьянов, возмутителей спокойствия, заражающих своею болезнью всё общество, как мы знаем из истории, всегда единицы. На сей счёт есть даже русская пословица: «Паршивая овца всё стадо портит».
Как князь Глеб пресёк «мятеж великий в людях», вызванный появлением волхва, хорошо известно: «Глеб же с топором под плащом подошёл к волхву и сказал ему: «Знаешь ли ты, что случится утром и что до вечера?» Тот же сказал: «Знаю, наперёд всё». И сказал Глеб: «А знаешь, что будет с тобой сегодня?» «Чудеса великие совершу», – ответил тот. Глеб же, выхватив топор, рассёк волхва, и тот пал замертво, и люди разошлись. И погиб так телом и душой, отдав себя дьяволу». Последняя фраза по логике наших позитивистски настроенных исследователей, конечно же, дописана «ортодоксальным» христианским летописцем. Но и без неё, в контексте нашего повествования, суть происходящего ясна.
Но вернёмся к Олегу Вещему, к летописным сообщениям о нём и к пушкинской балладе «Песнь о вещем Олеге». Казалось бы, – как же мог столь многомудрый князь Олег, княживший более тридцати лет, так легко соблазниться на предсказания какого-то волхва и кудесника, по сути, случайно ему встретившемуся? Как мог Вещий Олег так легко поддаться обману? На самом деле ничего подобного с выдающимся князем Олегом Вещим не происходило. И эта обидная для русского самосознания коллизия может быть всецело отнесена на счёт странностей нашей истории. Точнее, изложения её.
Исследователи давно заметили, что после смерти Рюрика в 879 году, передавшем княжение родичу своему Олегу, а также поручившему ему судьбу сына своего Игоря, так как тот был ещё очень мал, следует длительный период княжения в семьдесят лет, отмеченный именами Олега и Игоря. Причем, в летописи этого периода существуют такие большие пропуски, что установить хронологию смены князей по её тексту невозможно. Справедливо писал Вадим Кожинов, что «в силу какого-то странного «консерватизма» летописные сведения об Олеге и Игоре до сих пор не стали предметом развёрнутого исследования, – хотя отдельные, частные соображения по этому поводу были высказаны целым рядом исследователей». («История Руси и русского слова», «Московский учебник – 2000», 1997 г.). И такое исследование, хронологическую реконструкцию этого сложнейшего и запутанного периода истории он предпринял. При этом литератор и историк пришёл к выводу, подтверждающему разрозненные и частные замечания предшествующих исследователей. По смерти Рюрика, вплоть до 912 года, правил Олег Вещий, безусловно, выдающийся человек. Друживший с Византией и заключивший знаменитый договор с греками, ни о каком «щите на вратах Цареграда» не помышлявший, ибо это противоречило его вере, убеждениям и проводимой им политике. Ведь невозможно же, в самом деле, одновременно вводить письменность на основе христианских богослужебных книг и бороться с христианством, что приписывается по какой-то странной логике ему исследователями. Потом правил Игорь. После Игоря правил Олег «второй», что подтверждается древними зарубежными источниками. Обратимся к выводам Вадима Кожинова: «Но в историографии давно уже было высказано мнение, что в летописном Олеге соединилось два лица (говорилось даже о нескольких). Особенно примечательно, что их соединение осуществилось в летописях не вполне, остались своего рода швы. Олег в летописях явно «раздваивается»: он выступает то в качестве воеводы при князе, то, как полновластный князь; смерть его и в Киеве, и «за морем»; сообщается даже о двух его могилах: – в Ладоге и в Киеве… Олег Вещий, который почти целиком «заслонил» другого, «второго» Олега, был родственником Рюрика и правил после его смерти. Однако сведения, согласно которым правил он от имени Рюрикова сына Игоря, неправдоподобны уже хотя бы потому, что вплоть до 918 года (когда Игорю было бы не менее тридцати трех лет) первым лицом в летописных сообщениях, о чём уже сказано, предстает не Игорь, а Олег».
Этот, «второй» Олег и подпал под влияние хазар, проводя выгодную им, а не Руси политику, ибо, как установила С.П. Плетнева, «хазары сохраняли всю правящую верхушку побеждённых народов, …связав её с собой вассалитетом». Это вовсе не домысел, а действительный факт, содержащийся в «Хазарском письме» десятого века. Отрывок из него в переводе А.П. Новосельцева Вадим Кожинов и приводил: «…Во дни царя Иосифа… злодей Романус послав большие дары Хлгу, царю Руси, подстрекнув его совершить злое дело. И пришёл тот ночью к городу Смкрии (позднее Тмутаракань – Тамань – В.К.) и захватил его обманным путём… И стало это известно Булшци (по-видимому, высокий хазарский титул – В.К.) он же Песах хмкр (иранский или, вероятнее, хорезмейский титул – В.К.) и пошёл тот в гневе на города Романуса (имеются в виду византийские города в Крыму – В.К.) и перебил всех от мужчин до женщин… И пошёл он оттуда на Хлгу и воевал с ним четыре месяца, и Бог подчинил его Песаху… Тогда сказал Хлгу, что Романус побудил меня сделать это. И сказал ему Песах: если это так, то иди войной на Романуса, как ты воевал со мной, и тогда я оставлю тебя в покое. Если же нет, то умру или буду жить, пока не отомщу за себя. И пошёл тот и сделал так против своей воли и воевал против Константинополя на море четыре месяца… И так попали русы под власть хазар».
Олег «второй» и воевал с Византией подневольно, а потом так же в походе, предпринятом не по своей воле, сгинул бесславно на Каспии, «за морем»… Но в исторической науке, а стало быть, и в общественном сознании, воззрения и деятельность князей оказались перепутанными. Война Олега «второго» против Византии с пресловутым «щитом на вратах Цареграда» отнесена на счёт Олега Вещего. В то время как по воззрениям людей той поры совершенно непонятно, почему этот «щит» должен быть признаком доблести для страны уже давно перенимающей христианство. Не является это доблестью и по понятиям сегодняшним. Даже Н. Карамзин приводил какую-то смехотворную мотивацию походов на Византию якобы Олега Вещего: «Но Олег, наскучив тишиною, опасною для воинственной Державы, или завидуя богатству Цареграда, и желая доказать, что казна робких принадлежит смелому, решился воевать с Империею». Может быть, эта аргументация потому столь и несерьёзна, что явно не соответствовала действительной истории. Ведь это говорится об Олеге Вещем, о котором сказано в летописи: «И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами». Странным образом мирная политика Руси при Олеге под пером историка превратилась в прямо-таки неудержимую и беспричинную воинственность Державы… Со скуки…
При этом, как видим, Вещий Олег выглядит прямо противоположно тому значению, какое он имел в истории Руси. Уже убедительно доказано, что Олег Вещий предпринял убийство Аскольда и Дира не ради богатства Киева, а потому, что эти князья подпали под влияние хазар, были проводниками их политики, тем самым, угрожая и Северной Руси. Но историки с давних времён видят таинственную смерть «от коня своего» Олега Вещего как месть ему за язычество, а не за христианство. На самом же деле причина оказывается прямо противоположной. Не за христианство Олег расправляется с Аскольдом и Диром, а за то, что они уклонились от христианства и стали «служить иным богам».
Разумеется, А. С. Пушкин не знал о двух Олегах, так как историческая наука того времени ещё не объяснила столь странные и значительные пропуски в летописи. А потому в его балладе «цареградская броня», то есть христианская вера относится к одному Олегу, а «щит на вратах Цареграда», то есть воинственность к Византии – относится к другому Олегу. Но великий поэт писал ведь не историю, но трагедию человека, принявшего смерть «от коня своего», поменявшего верного коня на другого, то есть поменявшего свою веру на иную. А в том, что смена коня здесь символизирует смену веры сомневаться не приходится.
Летопись под 912 годом сообщает о благодеяниях Олега вещего, о том, что «жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами». И тут же сообщается о его смерти «от коня своего»: «И пришла осень, и помянул Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться». И прожил он, не видя коня своего несколько лет, пока не пошёл на греков». Это сообщение противоречит предшествующему: «И установили не преступать клятвы – ни грекам, ни русским». Значит, Олег преступил клятву, пойдя на греков? Нет, речь здесь идёт об Олеге втором, который сменил коня своего по наущению или «предсказанию» волхва и кудесника, которого он спрашивал: «Отчего я умру?». Таким образом, всё, что произошло с Олегом вторым, не происходило с князем Олегом Вещим. В общественном же сознании, в том числе и благодаря балладе А. С. Пушкина, утвердилось, что «смерть от коня своего» произошла именно с Олегом Вещим. Конечно, это недопустимая несправедливость.
Есть даже основание полагать, что вся эта летописная история, связанная со смертью Олега «второго» «от коня своего», является притчей с явно назидательным значением; рассказом, который может иметь историческую основу, а может и не иметь, созданным воображением народа и летописца. Вещий Олег «в цареградской броне», то есть, в христианской вере противоречит Олегу обольстившемуся, уклонившемуся от веры и поверившему волхвам и кудесникам.
Даже историки сомневаются в историчности предания о гибели Олега: «Вряд ли можно доверять помещённому в летописи преданию, согласно которому его смертельно ужалила змия, выползшая из черепа Олегова коня» (В.Б. Перхавко в кн. «Воители Руси IХ–ХIII вв». М., «Вече», 2006). Слишком уж невероятный сюжет для события исторического. Скорее это образно-иносказательное предание, которое трудно воспринять буквально. Назидательный же её смысл состоит в том, что так обыкновенно бывает, когда люди меняют «коня своего», уклоняются от своей веры и «служат иным богам»…
Если это так, то эту летописную повесть о смерти князя Олега «от коня своего», можно считать одним из первых, замечательных творений русской литературы. И то, что гений А. С. Пушкин не прошёл мимо этой летописной повести, воплотив её в чудной балладе «Песнь о вещем Олеге», подтверждает, что эта повесть не столько факт истории, сколько факт русского самосознания. «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина убедительно свидетельствует о том, что истинный поэт, говоря об истории, говорит не только о ней, но о том, как обыкновенно бывает на свете во все времена.
Петр ТКАЧЕНКО
«Вот – срок настал. Крылами бьёт беда…»

«Новый человек» снова, как и всегда, грозит гибелью человечеству
Объяснение событий лежит
в духовной сфере.
И. Я. Фроянов
«Ещё ничего не прошло…»
Такой тревоги, такого внутреннего беспокойства и даже растерянности, такой «немой борьбы» (А. Блок), какие мы испытываем и переживаем теперь, люди, кажется, уже давно не испытывали и не переживали. Во всяком случае, наиболее чуткие из них, коих всегда большинство. Не переживали и такой невнятности происходящего, и такой ненужности и заброшенности своей в этом мире… Видимо, в мире действительно происходят какие-то значительные события, смысл и значение которых нам не вполне ясен.
Эта тревога и внутреннее беспокойство не только за нашу родину Россию, но и за судьбы мира постигаются, как и всегда, русской литературой:
Когда осилила тревога,
И он в тоске обезумел.
Он разучился славить Бога
И песни грешные запел.
А. Блок
И ныне, как ни изгоняют русскую литературу из общественного сознания, как ни подменяют её тем, что ею не является, как ни уничтожают её «рынком», в котором она уже вовсе не литература, а просто «книжная продукция», она всё-таки выполняет свою миссию постижения смысла человеческого бытия. Как, к примеру, в стихотворении «Половодье» одной из талантливейших поэтов нашего времени Светланы Сырневой:
Ещё ничего не осело,
ещё ничего не прошло,
но просится в лодку несмело
и пробует воду весло.
Старанья по-прежнему жалки,
бесплодны они, как вчера:
сегодня не будет рыбалки,
сегодня не будет добра.
Скрипят потемневшие сходни,
под воду ведут, в никуда.
Я к жизни вернусь не сегодня
и даже не знаю, когда.
В потоке вселенского света
болезненный мнится излом,
кренясь, цепенеет планета
в провальном витке холостом.
Как тягостно ждут сиротливо
весенней листвы деревца!
Люблю я речные разливы,
а нынче им нету конца.
…Так жизнь, в никуда убегая,
Торопится всюду поспеть.
Я знаю, настанет другая,
и следует лишь потерпеть.
Иссушит все воды по краю,
растратится всё колдовство.
Как много, как много я знаю,
как много я помню всего.
«Литературная газета», № 12, 2023 г.
Разве только в конце ХIХ-го, начале ХХ-го века, испытывались такие тревога и беспокойство, завершившиеся крушением России, уничтожением её государственности, неслыханным падением человека и довольно долгим периодом хаоса и беззакония. После чего, с восстановлением России в форме Советского Союза, уже на других мировоззренческих основах, установился новый порядок, новый образ мира.
Но оказалось, что его хватило только на два поколения. Уже внуки тех, кто строил «новый мир» с помощью западных «экономических доктрин», создавал «нового человека», как им казалось, более совершенного, разумеется, во имя блага, с негодованием отвергли всё, достигнутое такими большими трудами, страданиями и жертвами. Отвергли не только дело своих дедов, но стали открытыми врагами и этих «экономических доктрин», и своей страны. И что поразительно, они не выдвинули теперь уже своего «нового мира», не выдвинули новой «архитектуры» его, не выдвинули ничего, кроме варварского стяжательства и потребительства. А существующий человек в результате такого отвержения оказался со звериным оскалом. Объяснить это теперь, «на руинах великих идей» (Ю. Кузнецов), обыденным сознанием и «научными» средствами, пожалуй, невозможно. Мы ведь говорим не о внешнем, событийном порядке мира, а о внутреннем, о духе человеческом и народном, как и было всегда в русской литературе. Это главное, что необходимо иметь в виду, ибо без него невозможно ответить на вопрос о том, что же в действительности происходит теперь в мире и у нас в России.
Поскольку погружение в это внутреннее беспокойство, тревогу и растерянность пред всей сложностью и непостижимостью мира происходило на наших глазах, мы можем даже назвать время и причину их, когда и с чего это всё началось. Безусловно, с появлением и нещадным внедрением во все сферы жизни, во всемирном масштабе Интернета, нейросети, призванных выстроить единый глобальный мир, и не только информационный; единообразный, взамен и вместо естественного, природного его многообразия.
Казалось бы, явилось новое научное открытие, новое достижение ума человеческого для совершенствования жизни, что происходило и происходит постоянно, во всю историю и что неизбежно сопровождается переформатированием социального устройства мира. Но оказалось, что это достижение является вместе с тем и мощным информационным оружием. Кстати, изначально оно и создавалось именно как оружие, в США, в военном ведомстве. В отличие от предшествующих открытий, имевших добрые намерения, и только потом уже использовавшихся против человека. Вскоре обнаружилось и то, что это достижение является средством не прогресса, не развития человечества и совершенствования человека, а его деградации. Ведь это достижение при всех своих практических удобствах и выгодах является мощным средством влияния на человека, общества и государства, тотального контроля над ними, навязывания им, помимо их воли, своих смыслов, представлений о мире, своего образа жизни. Выяснилось, что это средство подчинения человека себе безо всяких привычных военных действий. То есть является изощрённой формой агрессии…
Но мир в своём глобалистском единстве существовать не может, так как «в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству «князя мира сего», к последним катаклизмам истории и к её катастрофическому перерыву» (Д. Андреев, «Роза мира»). Главное же состоит в том, что единое информационное пространство – нейросеть, управляемая из одного центра, нарушает иерархию ценностей, при которой познание мира и познание человеком самого себя немыслимо. Создано положение, когда всякая интеллектуальная несостоятельность, глупость, а то и просто неосведомлённость в нейросети имеют равные права на существование с действительными прозрениями человеческой мысли. Безо всякого их отбора. К тому же нейросеть создаёт параллельный, виртуальный мир взамен существующего. Мир упрощённый. А всякое упрощение неизбежно приводит к вырождению. Человек непроизвольно переходит из мира реального в мир виртуальный, призрачный. Так пресекается научная, художественная и всякая иная мысль. Происходит интеллектуальное вырождение, ибо без иерархии ценностей невозможно развитие мысли, науки, художества, немыслимо осознание человека в мире. Оказалось, что главным препятствием на пути таких глобалистских устремлений является сам человек, его духовная природа. Следовательно, надо его устранить, переделать, «перековать», как говаривали во времена наших дедов. То есть создать «нового человека», якобы более совершенного, а на самом деле, безропотно послушного этому несчастью, за чем неизбежно следует катастрофический перерыв в истории человечества. Это могло бы показаться каким-то странным, беспричинным и даже сумасбродным действом – ведь без человека никакого мира человеческого быть не может, – если бы это не происходило всегда, во всю историю человеческого бытия.
Ведь ни одно достижение и открытие ума человеческого не избежало участи быть использованным против самого человека, включая атомную энергию: «…(Стихийных сил не превозмочь)… /И неустанный рёв машины./ Кующий гибель день и ночь» (А. Блок). А потому драгоценно не само по себе достижение ума, не только восторг в связи с ним надо испытывать, но, прежде всего, озадачиться и озаботиться тем, как не употребить его на погибель человека, как использовать достижения во благо ему.
В такие периоды, когда подлинный смысл и значение открытий не вполне ясны, возникает потребность в новом взгляде на происходящее, как обыкновенно бывает. Об этом писал А. Блок в 1908 году в статье «Народ и интеллигенция»: «Требуется какое-то иное, высшее начало. Раз его нет, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного «богоборчества» декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением – развратом, пьянством, самоубийством всех видов».
Пока же мы видим кричащее несоответствие восторженных деклараций и заклинаний об успехах цивилизации – нейросети, искусственного интеллекта, цифровизации, способных якобы не то что организовать и облегчить жизнь человека, но даже заменить его вообще, и – реального положения дел, когда чуть ли не ежедневно приходят сообщения о катастрофах, каких при нынешнем уровне цивилизации, казалось, уже и быть не должно. Кричащее несоответствие достижений ума человеческого и массовой интеллектуальной деградации. И как следствие – деградации, пожалуй, во всех сферах жизни: «Происходит драматическое падение качества. Всего. В первую очередь – качества труда. Оно падает быстро, прямо на глазах удручённого наблюдателя… И вот прошло ещё три десятилетия, и теперь мы видим, что всё заточено на то, чтобы после гарантийного срока техника поскорее развалилась и клиент купил новую. Более прогрессивную, разумеется, и не важно, что он и на прежней не освоил половину функций. То есть дрянь клепают не только по неумелости, а принципиально» (Татьяна Воеводина. «Камин для брака», «Литературная газета», № 13, 2024 г.).
Но если такие открытия, такие достижения разума не только не способствуют обустройству жизни, но перекрывают пути познания мира человеком и самого себя, то есть тормозят подлинный прогресс, значит, дело не в этих достижениях, не в разуме, а в чём-то ином. Необходим иной или извечный взгляд на устройство этого мира, и на человека в нём, на саму его природу.
Контрольный чип в голову…
Средства массовой информации пестрят сообщениями о том, что учёные спорят – можно ли создать «сверхчеловека», «нового человека». На самом деле истинные учёные об этом вовсе не спорят. И они, и все здравомыслящие люди – философы, политологи, эксперты, писатели – в один голос говорят, что это не только невозможно, но и не нужно, так как грозит прекращению рода человеческого. Спорят о «новом человеке» средства коммуникации и те незримые силы, которые стоят за ними, и в руках которых эти средства находятся. Приведу лишь некоторые взволнованные свидетельства, крики вопиющих в пустыне: «Был ли, как сказал президент В. Путин, Интернет злонамеренным и блестяще исполненным замыслом Центрального разведуправления США, не был ли, но что от него, Интернета, определённое зло людскому роду вышло, выходит и ещё выйдет, – у меня нет сомнений… исчезновение из состава человечества фигур, которые до этого воспринимались как великие… Если среди следующих и намечались, то только для узкого круга, не вселенские» (Анатолий Найман, «Выветривание человечества», «Новая газета», № 40, 2014 г.).
Уже разрабатываются концепции «улучшения» человека: или редактирование его генома на зародышевой стадии, или «улучшать» человека надо, вживляя в него технические и электронные устройства. На это профессор Константин Северинов замечает: «Если пытаться решить задачу создания сверхлюдей, совершенно неясно, за что взяться. Можно так «подкрутить» гены здорового человека, что он превратится в тяжелобольного… Но мы не знаем, что надо редактировать… Нам придётся создавать наших сверхлюдей наугад, менять, практически вслепую многие гены, а затем определять, в правильном ли направлении мы движемся. Очевидно, что в таком открытом поиске будет большой процент неудач, когда редактирование приведёт не к желаемому результату, а, наоборот, к тяжёлым, непредсказуемым последствиям» («Российская газета», № 44, 2024 г.). Да и не может быть иначе, если «современная наука пока далека от абсолютного понимания, как работает человеческий мозг» (Наталья Покровская, «Контрольный чип в голову», «Вечерняя Москва», № 23, 2023 г.).
Лучшие умы теперь лихорадочно ищут ответы на извечные вопросы о том, как устроен мир, что есть человек в нём, и какова его природа, что происходит ныне? Осознавая, что предшествующие объяснения мира были не то что ложны, но явно недостаточны. И, судя по текущим публикациям, ответов на эти вопросы они пока не находят. Хотя ответы на них есть, давно известны. Дело остаётся за малым – поверить в то, что это и есть ответы на эти вопросы. Но это оказалось самым сложным, трудным и почти невозможным. Предшествующие «цивилизационные» догматы так въелись в разум и во всё существо человеческое, что освободиться от них оказалось не так просто. Но такое положение, такое состояние человека свойственно всем временам:
И Он идёт из дымной дали;
И ангелы с мечами с Ним;
Такой, как в книгах мы читали,
Скучая и не веря им.
А. Блок, «Сон», 1910 г.
Ведь самое главное, что происходит в жизни человека – это обретение веры или утрата её; сохранение своей духовной природы или отказ от неё… Всё остальное зависит от этого, в какой бы сфере деятельности он не пребывал. А человек, не признающий над собой никакой высшей первопричины, неизбежно провозглашает Богом самого себя, впадая в разъедающий душу эгоизм.
Осознаётся, что, теперь, как и ранее, необходимо некое новое начало, взгляд на бытие человеческое в его непрерывности и цельности, изначально и до сего дня, так как природа человека неизменна. Если, конечно, мы говорим о человеке, а не только об организации его социального устройства на земле, не только и исключительно о результатах его деятельности, нередко неприглядных.
Но в целях эмпирических, познавательных, мы опять, как и прежде, разделяем непрерывное течение бытия «на более мелкие части», на формации, фазы, эпохи и т .д. То есть упрощаем сложность мира, что само по себе перекрывает его познание. И говорим уже не о сложности мира, а ищем его «правильную» периодизацию. Но обязательно периодизацию и никак не иначе, следуя, как понятно, прежним догматам.
Георгий Малинецкий, пытаясь пересмотреть устройство человеческой цивилизации и жизни, пишет: «Традиционно складывающийся веками взгляд на мир связан с организацией, с представлением, что нашу реальность создали боги или какие-то внешние силы» (НГ – наука, № 13, 2022 г.). Не говорю о том, что это упрощённое, даже вульгарно-социологическое представление о Боге, ибо «Бога не видел никто никогда» (Евангелие от Иоанна, 1:18). Но ведь пишется это после целого века самого свирепого искоренения веры и торжества атеизма, тоже ведь представляющего собой своеобразную веру…
В целях эмпирических, по Г. Малинецкому, историю следует «спроецировать на какую-либо ось». Вот «Карл Маркс проецировал на ось, определяющую собственность на средства производства. И тогда мы получаем исторический материализм и социально-экономические формации от первобытно-общинной до коммунистической». А мы теперь спроецируем на науку, как «источник развития общества» и предложим новую, опять-таки периодизацию. Но наука – не безусловный показатель, ибо она существовала всегда и строго соответствовала уровню развития общества. Периодизация же теперь такова: доиндустриальная фаза, индустриальная и пост-индустриальная… В постиндустриальной фазе во главе угла и будет находиться человек, которого цифровая революция «избавляет от рутинного умственного труда». От всего «освобождённый» человек, наконец-то займётся самим собой, своим совершенствованием. Представление более чем наивное, ибо человек совершенствуется только в ходе своей деятельности. В таком случае, декларации о человеке ничего не значат, оставаясь просто красивостями. Ведь «постиндустриальная» фаза неизбежно вызывает постчеловеческую: Ф. Фукуяма, «Наше постчеловеческое будущее». Как и наивен вывод: «Когда будущее придёт, мы будем ко многому готовы». Но так в жизни человеческой не бывает. Самые, вроде бы, верные догматы для будущего бесполезны, ибо только тогда, когда это будущее наступит, будет ясно, что и как делать. И это будет очень даже отличаться от наших приготовлений к этому будущему. Впрочем, это извечный закон: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать». (Евангелие от Матфея, 10: 19).
«Мы, наш вид Homo sapiens – абсолютный хищник на планете. Причина этого в том, что мы в отличие от всех других видов на Земле – технологическая цивилизация» (Г. Малинецкий). Но технологии – дело ума и рук человеческих, а не некая независимая от нас реальность. А потому критерием оценки происходящего они быть не могут. Абсолютизация же их приводит к установке – видеть не то, до каких высот может подняться человек, но только то, до какой низости и безобразия он может опуститься. При этом декларации о том, что в «постиндустриальную» эпоху «во главе угла находится человек», как понятно, ничего не значат.
Но этот догмат разделения непрерывности бытия на формации и фазы столь овладел умами, что пронизал все сферы мысли – и научную, и даже художественную. Как, скажем, в искренних исповедальных стихах Михаила Попова:
…Угрюмую жизнь разнимая свою
На более мелкие части,
Ищу я ту линию или струю,
Которая выведет к счастью.
И не нахожу как ни тщателен я,
Ни в юные годы, ни позже,
Сплошной и тяжёлый недуг бытия,
Тревога гнетёт меня, Боже.
«Литературная газета», № 7, 2024 г.
Но такое разъятие не приводит не то, что к счастью, но и к познанию. Остаётся разве что возвратиться к «формуле» Е. Баратынского – «недуг бытия». То есть признать бытие, жизнь недугом, болезнью, которую надо лечить и от которой надо избавляться… Избавляться от собственной жизни. И заметим, не «жизни тяготенье» (М. Лермонтов), свойственное каждому живому и мыслящему человеку, а именно «недуг бытия»…
Поражает аргументация учёных, именно учёных. Как к некоему, не подлежащему сомнению источнику, они вполне серьёзно обращаются к фантастическим мечтаниям Стругацких: «Будет реализован сценарий, предложенный в повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» (Андрей Ваганов, НГ-наука, № 12, 2022 г.); «Обратимся к истории. В повести Стругацких есть важная фраза: «понять – значит упростить» (Георгий Малинецкий). Уже писания Стругацких – «история»…
Как только в целях эмпирических мы начинаем разделять непрерывное бытие человеческое на формации, фазы, части, мы начинаем уже говорить не о человеке, не о его природе, ибо природа его неизменна, а о тех условиях, в которых он пребывает в той или иной формации, которые являются делом разума и рук человеческих. И если для объяснения мира и происходящего сейчас мы не находим иных, более надёжных источников кроме фантастических мечтаний Стругацких, значит наши дела в науке плохи.
Ныне, как и всегда, необходимо иное начало, не отрицающее духовную природу человека, как сущую малость. Для познания необходима не только социальная сущность человека, но его духовная природа, помня о том, что «природа человека вечна» (В. Розанов). Если, конечно, человек не отступит от своей природы и не уничтожит самого себя, что не кажется таким уж невероятным. Ведь всемирный Потоп всё-таки был. И причиной его стало не какое-то природно-атмосферное явление, а вырождение человека, когда земля стала из-за него «растленной», «ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Бытие, 6: 12). Не сам Потоп стал катастрофой. Он был уже только следствием того, что произошло с человеком, следствием утраты им своей духовной природы, его вырождения. Это – «страшная болезнь», известная со времён древнего Рима, о чём писал А. Блок в очерке «Катилина», соотнося нравы древнего Рима со своим временем: «Это воспитание подготовляет к чему угодно, кроме самого главного и единственно нужного человеку; результат его был на глазах у всего Рима, он на глазах и у нас: большинство тупеет и звереет, меньшинство – хиреет, опустошается, сходит с ума. Глаза Рима, как и наши глаза, не видели этого; а если кто и видел, то не умел предупредить страшной болезни, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации: болезнь вырождения. За этим опошленным словом стоит довольно жуткое содержание». И заметим, причину этой «страшной болезни» великий поэт видел в искажении воспитания…
Ссылаясь на Священное Писание, я надеюсь на то, что нынешние читатели всё-таки понимают, что оно – не собрание каких-то случайных историй, но содержит архетипы человеческого бытия, не устаревающих, сопровождающих нас во всю историю.
Я преднамеренно ссылаюсь в своей аргументации и на свидетельства нынешних средств коммуникации, дабы представить, в каком состоянии находится нынешнее общественное сознание, ими формируемое, – где мы находимся, «на полях словесной войны» или нас всё ещё очаровывает «гуманистический туман» (А. Блок). Ведь ясно, что «лишь одержав верх в схватке концептов и слов – ускорим путь к победе… Пока не очистим от иномути наш язык, не проветрим сознание, короткий англосаксонский поводок, на котором нас водят от языка-сознания к антироссийским действиям, не ослабнет!» (Борис Евсеев, «Литературная газета», № 15, 2024 г.).
Редактирование человечества
Но поражает то, как старательно в своих размышлениях о происходящем, авторы обходят собственно человека, его духовную сущность, разумеется, непреднамеренно и не из злого умысла: после победы начнётся «куда более сложный этап внутреннего очищения от плесени и болезней 30-летия, прожитого в условиях полуколониальной зависимости от Запада» (Александр Нотин, «Божественная хирургия СВО», М., «Наше завтра», 2024 г.). Значит, надо полагать, можно одержать победу на сомнительных либеральных «ценностях» трансгуманизма и постмодернизма, а потом уже заняться собой. Но так в жизни не бывает. Так победа не достигается. Вся история свидетельствует о том, что победа является результатом пробуждения духа человеческого и народного. Более упрощённого представления об устройстве жизни человеческой, кажется, трудно придумать…
Каждая, отдельно взятая формация или фаза, которые мы выделяем из общего, непрерывного бытия имеет катастрофический, апокалиптический «сюжет» – гибель человеческой цивилизации. Но если этот «сюжет» перенести на всю историю человечества, то можно прийти к выводу, что оно идёт к гибели. Человечество же гибнет изначально и во всю свою историю и… не погибает. Во всяком случае, так было до нашего времени…
Имея в виду лишь своё время, – формацию, фазу, эпоху, – абсолютизируя их, можно, пожалуй, неизбежно прийти к выводу об апокалиптическом устройстве мира, его гибели. Как в популярной краткой истории будущего Юваля Ноя Харари «Homo Deus» (то есть человек богоподобный). Автор представил картину мира таковой, что элиты в будущем за счёт биологических и генетических средств «улучшат себя», станут богоподобными, появится искусственный интеллект, а значит, и новый человек, который будет лучше естественного. И они, в конце концов, решат избавиться от всего остального человечества, а на самом деле – от всего человечества. Ведь человечество – единый живой организм, состоящий из людей когда-то живших, живущих и которые будут жить, если, конечно, им такая возможность представится из-за деятельности их предков… И травма, нанесённая в какой-то его части, неизбежно поражает весь организм.
Однако история знает не только не сходную картину мира, а прямо противоположную, во всяком случае, со времён древнего Рима до нашего времени: элиты растлеваются, впадают в разврат и вырождаются, следствием чего является крушение и гибель обществ, государств, цивилизаций. Харари же, судя о своём времени, посчитал, что это и есть участь человеческой цивилизации вообще. Так же, как и в «Последней смерти» Евгения Баратынского – мир неотвратимо и неизбежно должен погибнуть. Если «Бог умер» (Ф. Ницше) и если наступил «конец истории» (Ф. Фукуяма), то это беда и интеллектуальная несостоятельность данных мыслителей, но не всего человечества. О том, что мир конечен и человечество должно погибнуть, нет абсолютно никаких доказательств: «Впредь, во все дни земли сеяние и жатва, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Бытие, 8; 22). Так было после катастрофы всемирного Потопа, причиной которого, как уже сказано, стало вырождение человека, которое может происходить и в форме «улучшения» его. Обыкновенно так и бывает.
А потому эсхатологическое, апокалиптическое сознание, вопреки мнению распространённому, вовсе не является пророческим. Ведь оно выходит из эгоистического представления: коль жизнь человеческая конечна, земное бытие каждого человека кратко, значит и мир погибает, должен погибнуть вместе со мной… Когда своё «я» дороже всего мира, тогда и приходит мысль о его конечности. Эсхатологическое сознание – это скорее беспокойство за судьбу мира. Может быть, это и есть способ удержания человеческого бытия от его катастрофического перерыва…
В книге Бытия указывается выход из этого апокалиптического тупика, который зачастую неведом цивилизованным и просвещённым умам: «И сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал» (Бытие, 8; 21). То есть зло – от несовершенства человека. Таким образом, здесь указывается путь человека на земле – путь его совершенствования. Не мир переделывать по своему усмотрению, который якобы устроен «неправильно», а совершенствовать себя. Но это было всегда и остаётся самым трудным.
Нельзя сказать, что эмпирическое разделение непрерывного человеческого бытия на формации, фазы, эпохи безосновательно. Давно замечено, что история совершается какими-то циклами и периодами, и люди пытались их рассчитать. К примеру, генерал Валентин Александрович Мошков (1852–1922), как его называли «русский Нострадамус», в своём обширном двухтомном труде «Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики» (Варшава, 1907 г.) описал механизм вырождения человека и «исторические циклы» развития человечества. По его расчётам, каждый цикл у всех народов без исключения, длится четыреста лет. И надо сказать, что его периодизация истории очень даже убедительна. По его расчётам, 1912–2012 – это железный век, упадок. Причина бунта разума, вызывающего расстройство во всех сферах жизни, в том числе декадентство, шулерство, порнография, разврат, – неведомы. По его расчётам с 2012 года в России происходит подъём. Нам же остаётся только утешиться тем, что настоящий подъём будет только в 2062 году… («Литературная газета», № 7, 2022 г.). Поразительная гипотеза развития человечества. Но нельзя не заметить, что в его теории цикличность предстаёт как некая объективная закономерность, безотносительно к человеку. Безотносительно к тому, что происходит с самим человеком: «Что ж, человек? – за рёвом стали,/ В огне, в пороховом дыму,/ Какие огненные дали/ Открылись взору твоему?» (А. Блок).
Между тем периодизация и цикличность истории человечества действительно существует. Она есть в «Откровении святого Иоанна Богослова», Апокалипсисе: «Зверь был, и нет его, и явится… Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель» (17: 8). И довольно внятно описаны периоды торжества зла. При всём при том, что Откровение «отнюдь не есть история земных событий… Оно есть символика этих событий» (Прот. Сергий Булгаков, «Апокалипсис Иоанна»). Зверь, зло приходит в мир на «малое время». И даже названа продолжительность торжества его, не календарная, конечно: «И дана ему власть действовать сорок два месяца». (13:5). После чего Ангел сковывает зверя на тысячу лет: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (20: 2). Это и есть мировая периодизация и цикличность, что «зверь был, и нет его, и явится»… Но заметим, что эта периодизация связана не с внешним социальным устройством жизни, а с человеком, с тем, что происходит с ним.
Традиционно и неисправимо мы судим о человеке, о самих себе в эволюционном развитии, полагая, что человек постоянно совершенствуется. Но это не подтверждается историей, ибо мы не можем сказать утвердительно, что человек становится лучше. Да, он адаптируется к изменениям в технологиях, но явно не приобретает умения находить оптимальные решения в сложных условиях. Да, он совершенствует свои социальные условия жизни. Но сказать о том, что вместе с тем он и сам совершенствуется, нет оснований. Во всяком случае, пока. Всё, конечно, зависит от критериев оценки. Но разве может быть более высокое мерило, чем сама духовная природа человека, чем сам человек: «Душа не больше ли пищи, а тело одежды?.. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от Матфея, 6: 25, 26). Но это же подрывает саму метафизическую основу глобалистов, и они отбрасывают его как сущую малость, как «опиум для народа», как уже бывало… А то, что мозг древнего человека больше мозга нынешнего человека и вовсе может поставить в тупик: «Объём мозга наших предков в верхнем палеолите (35–12 тыс. лет назад) был равен 1500 куб. см. Сегодня средние показатели объёма мозга мужчины равны 1425 куб. см., а у женщин – 1350 куб. см.» (Юрий Медведев, «Древние люди были умнее нас. Учёные утверждают, что телевизор и гаджеты делают человека глупее», «Российская газета. Неделя», № 33, 2024 г.). Но так как ответить на это невозможно, тогда и объявляется, что связь между размером мозга и умственными способностями человека не установлена… Но если такая связь пока не установлена, это не значит, что её вовсе нет…
Литератор Нина Ягодинцева пишет: «Сегодня на наших глазах разворачивается цивилизованный кризис, битва между буквой и цифрой, образом и числом, человеком и зверем – зверем не в биологическом, разумеется, понимании, а в духовном. Впрочем, если посмотреть на историю, битва за человеческое не прекращалась никогда… Фрагментированная средствами массовой информации реальность не даёт нам возможности представить себе цельную картину происходящего… Но если целью и смыслом становятся технологии, где оказывается в этом мире человек?» («Число букв», «Наш современник», № 7, 2021 г.). Это символическое соотношение буквы и цифры наиболее чуткие и одарённые люди чувствовали, понимали и выражали всегда: «А для низкой жизни были числа, /Как домашний подъяремный скот» (Н. Гумилёв). Для «низкой» жизни… Мы хотим устроить себе такую жизнь?..
Не учёные, а средства массовой коммуникации задаются риторическими вопросами, сможет ли редактирование генома помочь человеку в лечении тяжёлых заболеваний и даже победить старение, продлить жизнь человеку: «Опасность тут заключается в том, что современные методы редактирования геномов не дают стопроцентной гарантии. Спасая человека от одной мутации, можно внести другую, причём в случайное место... Однако ни сверхсилы, ни бессмертия, ни просто увеличения продолжительности жизни генная инженерия людям пока что обеспечить не может» (Никита Бессарабов, «Редактирование человечества». («Вечерняя Москва, № 15, 2024 г.). При этом всегда отмечается, что «пока». А если не «пока»? Учёные же на сей счёт, пожалуй, почти единодушны: «Вмешательства такого рода нарушают естественный порядок вещей и могут привести к непредсказуемым последствиям» (Ольга Шарапова). «Если эксперименты проводятся на стадии эмбрионального развития, то изменения могут перейти потомкам человека… мы покалечим не одного пациента, а весь его род… Мы не знаем, что случится с обществом через некоторое время» (Ольга Саввина). А потому над такими экспериментами с человеком и с самой её природой должен быть жестокий контроль. В наиболее развитых странах он уже осуществляется, о чём сообщил Никита Бессарабов в своей публикации: «В декабре 2019 года суд города Шэньчжэнь в Китае приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуй к трём годам тюрьмы и огромному штрафу за незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов».
Нельзя не заметить, что эти эксперименты над геномом человека, над самой его природой имеют своей целью не столько заботу о тяжело больных, которых иначе излечить нельзя, то есть рискнуть излечить хотя бы таким образом, сколько представляют собой соблазн и искушение «сильных мира» сего продлить себе жизнь… Но люди ведь думали об этом задолго до нас, в конце концов признав предел земного пребывания человека: «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет» (Бытие, 6: 3).
Человечеству на низших этапах его развития свойственно было искать «философский камень», который раз и навсегда ответил бы на все вопросы бытия. Но то, с какой настойчивостью наши беспечные современники, цивилизованные и просвещённые, не утруждая себя познаниями, делают по сути, то же самое, просто пугает… С усердием, достойным лучшего применения, сжигаемые эгоцентризмом, впервые в истории они пытаются «исправить» эту «несправедливость» устройства человеческой жизни на земле…
Поленья в костёр таких мнимых «споров» о «новом человеке» подбрасывают те, кто не утруждает себя познанием. Но формат сети таков, что они, как и все, имеют равные права на своё «мнение», вне зависимости от того, каково оно, пусть даже самое примитивное. Таким образом, с нарушением иерархии ценностей, средства коммуникации утрачивают своё предназначение совершенствования мысли, познания мира человеком и самого себя. И вообще – разрешения каких бы то ни было аспектов социальной жизни. Они начинают функционировать сами по себе, вне действительной реальности. За ними остаётся лишь одна функция влияния на общественное сознание людей по своему подобию и примитивному уровню. В самом деле, трудно ведь представить во времена предшествующие и не столь уж отдалённые, чтобы газеты, журналы, издательства являли бы на свет всё, что только ни придёт в редакции. Всего лишь на том основании, что оно туда пришло… Без всяких оценочных критериев. А потому нет сейчас более важной задачи, чем совершенствование сети, не оставляя её далее в таком варварском состоянии, когда всякий неуч, а то и просто невменяемый человек, коим должны заниматься врачи, а не информационная сеть, может запросто без всякого спроса, вмешаться в жизнь любого человека; когда самое упрощённое и примитивное представление получает преобладание в общественном сознании; когда, таким образом, открывается убийственный путь деградации и вырождения интеллектуальной мысли.
Достижения ума человеческого не предполагают «нового человека»
Учёные, политологи, эксперты чувствуют и высказывают то, что настало время основательного пересмотра предшествующих понятий и представлений, не говоря уже об истории, как череде тех или иных событий, особенно революционного ХХ века. Именно на метафизическом, смысловом, духовном уровне, а не только событийном. И для такого пересмотра, судя по невнятности происходящего во всех сферах жизни, назрела крайняя необходимость. Но, пожалуй, большинство исследователей, вроде бы, пересматривая историю и соотнося её с происходящим теперь, просто возвращаются к прежним социально-политическим противоборствам, хотя давно уже настало время рассматривать историю миновавшего века не только с точки зрения бытовой, но бытийной. Скажем, Сергей Кара-Мурза по той «традиции», что революция всегда имеет, безусловно, положительное значение, утверждает, что «мы, Россия, и сейчас живём в этой революции». В определённой мере да, ибо всё в истории и в мире взаимосвязано. И публицист находит выход для толкования нашего времени, всей его невнятицы, в В.И. Ленине, который «ключ к знанию и пониманию» («Трудно искать путь», «Наш современник», № 10, 2023 г.). Всё дело оказывается в том, что В. И. Ленин понимается неправильно. А вот сейчас поймём его правильно, и всё у нас наладится. Тем самым, автор ни о чём ином не говорит, кроме как о том, что новое торжество революционного сознания приведёт нас к благу. Может быть и так, но только почему всего того, что было достигнуто такими трудами, страданиями и жертвами хватило только на два поколения? От этого вопроса ведь не уйти, и он – иного порядка. Не только социально-политической сферы. Видимо, в той грандиозной и мощной конструкции нового устройства жизни не оказалось, может быть, самого главного предохранителя. Не оказалось человека…
Между тем, очевидно, что после всякой революции – буржуазной, социалистической, либерально-криминальной – неизбежно наступает период «реставрации», то есть, созидание новой жизни и новой государственности на руинах прежних и, кстати, никому пока не известных. А потому после революционности взывать снова к революционности, это если не какая-то безответственность, то догматичность. И потом, из нашей недавней истории помнится, к чему приводят нескончаемые, «перманентные революции». Общество, идеологией которого являются «революционные ценности», а не народные ценности и национальные интересы, рано или поздно обречено на крах.
Уже, наконец-то, приняты, во всяком случае, провозглашены Основы государственной культурной политики с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Нет, снова хочется революционности, на этот раз уж точно спасительной…
Некоторые исследователи даже в революционере В. И. Ленине усматривают теперь «национал-большевизм» (З. Прилепин). То есть, что якобы он изначально и всегда отстаивал национальные интересы и традиционные ценности. Но такой поворот к государственным интересам и национальным ценностям, как неизбежный, предсказывали «сменовеховцы». Да, В. И. Ленин, как гениальный политик, успел, так сказать, предначертать пути новой государственности, впервые в мире советской социалистической цивилизации, свидетельством чего явилось восстановление России в новой форме в дальнейшем. Похвально и благородно стремление авторов представить нашу трагическую историю в ХХ веке в её единстве, непрерывности и цельности, а не как череду случайностей, недоразумений и нелепостей. Но для этого вовсе не следует «подправлять» происходившее, и прежде всего в духовно-мировоззренческой сфере, ибо на неправде ничего устоять не может. Складывается впечатление, что у многих нынешних толкователей нашего времени нет большей заботы, чем представить обновление страны на тех же самых мировоззренческих основах, тех же самых «революционных ценностях», как говорится, тех же щей, да в иную посуду… Надеюсь, непроизвольно и непреднамеренно.
А правда теперь, как и всегда, для большинства исследователей непопулярна и даже обидна, о чём пишет политолог Дмитрий Евстафьев: «По большому счёту, несмотря на все последующие трансформации (сталинские, хрущёвские, брежневские), изначальный запал большевиков – переделать природу человека – сохранялся». И только в середине 1930-х годов, когда началось возвращение к традиции российской государственности, крушение концепций «перестройки человечества» стало вопросом времени» («Про человека», «Литературная газета», № 52, 2023 г.).
Как видим, всё это имеет самое прямое отношение и к искусственному интеллекту, и нейросети, и к цифровизации, так как на их пути препятствием снова становится сам человек, которого надо каким-то образом опять устранить… Замысел всё тот же – создание «нового человека», «сверхчеловека», вместо существующего.
Опять-таки, мы не против прозрений ума человеческого и достижений наук, постоянных и необходимых, но о том, как уберечься человеку в этом мире, как сохранить свою духовную сущность, отчего зависит всё остальное в его жизни. Мы всего лишь против очередных фетишей, абсолютизация которых загоняет человека в тупик, перекрывая ему путь познания. Мы всего лишь за то, чтобы определить этим достижениям подобающее им место, при котором, они могут выполнять свою задачу устройства человеческой жизни. Ведь искусственный интеллект, как справедливо отмечает учёный Александр Бухановский, «не мог потянуть всё разнообразие задач, присущих человеку». А нейросеть – «лишь удобная математическая конструкция для записи правил соответствия большого количества данных на входе и на выходе» («Литературная газета», № 12, 2024 г.). А потому «не нужно пугаться – просто следует соблюдать меры информационной гигиены». Всё так, только в реальной жизни мы наблюдаем и переживаем нечто совсем иное.
О том, что «новый человек» якобы идёт на смену существующему, и что именно так это воспринимается зачастую в общественном сознании, свидетельствует такой факт. Один из самых высокопоставленных чиновников на встрече с молодёжью 26 апреля 2023 г. со всей серьёзностью поведал, что «Homo sapiens» человек как вид изжил себя и на смену ему идёт homo «деятельный», что искусственный мозг возьмёт на себя многие задачи. Видимо, ему хотелось сообщить молодому племени нечто безусловно прогрессивное, передовое. Ну, ладно, сказал и сказал, дабы находиться в нынешнем тренде, хотя довольно порочном. Но ведь за этим следуют уже и практические действия: «В самом ближайшем будущем московский трамвай станет беспилотным… во второй половине 2024 года его планируется запустить на линию» («Вечерняя Москва», № 13, 2024 г.). Ну и что, что каждый день мы видим ужасные аварии на дорогах с пилотируемыми средствами. Ну и что, что с беспилотными средствами передвижения число аварий с гибелью людей возрастёт кратно, зато как всё это «прогрессивно». Конечно, то, что мы называем сегодня искусственным интеллектом, возьмёт на себя многие задачи и функции человека во многих сферах жизни. Но это совершенно не предполагает, что человек как вид, себя изжил…
«Искусственный интеллект» – неточное название и по всей видимости преднамеренно неточное. Таким образом, необходимое в научных вычислениях и в технологических производствах достижение переносится на понимание самой природы человека, и не иначе как оно якобы требует изменения самой природы человека, а то и уверенности в том, что вполне можно обойтись без него.
Искусственный интеллект – это способ обработки информационных величин. Без него сегодня не обойтись в технологиях, в производстве, во многих сферах нынешней жизни вообще. Потому вопрос о нём и рассматривается на правительственном уровне. Но само определение «искусственный интеллект» не совсем удачное, так как провоцирует понимать его, как взамен и вместо интеллекта естественного. Таким он зачастую и представляется в общественном сознании, – как «замена людей нейросетями» («ИИ сделает лучше», «Российская газета», № 54, 2004 г.). И вот уже как некое невероятное достижение предлагается создание дипфейков – подделку, имитацию человека. Если это дипфейк живущего человека, то он открывает невероятные возможности для мошенничества. В таком «оживлении» умершего человека, действительно есть нечто аморальное, так как исключает скорбь по ушедшему человеку. В таком случае так можно и не заметить, как настоящая жизнь с её печалями и радостями превратится в один громадный дипфейк» (Екатерина Рощина, «А царь-то ненастоящий», «Вечерняя Москва», № 13, 2024 г.).
Для чего человек «освобождается» от лишнего рутинного труда, а теперь, как говорят некоторые исследователи, и от труда умственного, в результате внедрения во все сферы искусственного интеллекта? У сторонников такого «освобождения» человека всегда есть готовый, не подлежащий сомнению ответ. Для того чтобы заняться наконец-то собой, своим совершенствованием, заняться науками, искусствами, литературой. Но поскольку истинные науки, искусства, литература и есть постижение человеком мира и самого себя, а не служит лишь развлечению, то такое «освобождение» человека оборачивается тем, что он оказывается лишним, не нужным в этом мире. Вместо искусств процветает шоу-бизнес, маргинальные поделки, а вместо литературы имитация её, где её определяют уже не писатели и не издатели, а воротилы «рынка», и критерием оценки является исключительно «рейтинг продаж», ну и вполне серьёзно всевозможные, не имеющие никакого общественного значения, премии. И это не есть только явление нашего дня. Надо сказать, что и сами писатели, порой даже очень значительные, попадали под влияние этого поветрия. Скажем, Л. Толстой: «Не годится писать художественное иносказание… Общество может заниматься искусством только тогда, когда все члены его сыты. И пока все члены не сыты, не может быть настоящего искусства». («Дневники (1895–1910)». Хотя вся история искусств и литературы свидетельствует об обратном и многие шедевры создавались именно в трагические периоды, когда, казалось, было «не до литературы»… «Сытые» не создают шедевров. Да что там, «стих, как Божий дух носился над землёй» именно «во дни торжеств и бед народных» (М. Лермонтов), а не «освобождаясь» от всего.
В конце концов, складывалось положение, известное по временам очень давним, выход из которого был уже только через социальные потрясения и войны: «Известно, что перед исчезновением всякого народа вначале вырождается и исчезает знать, а с нею литература; остаются только сборники законов, которые народ знает наизусть». (Милорад Павич, «Хазарский словарь», К., «София», 1996 г.).
Но мы всё-таки – о нынешнем «освобождении» человека в связи с искусственным интеллектом и тотальной цифровизацией. Ведь сейчас, как утверждают специалисты, и как провозглашает президент В. В. Путин, у нас дефицит кадров, специалистов, нехватка людей. В таком случае кого, как и зачем «освобождать»? И как вообще согласуется это якобы прогрессивное «освобождение» человека от всего, с реальным положением вещей? А никак, даже противоречит ему.
«Потому говорю им притчами…»
И если в технологиях и производствах большинством учёных всё-таки понимается, что никакой замены человека «искусственным интеллектом», «новым человеком» быть не может, так как за этим неизбежно зияет катастрофа перерыва в человеческой истории, то в сфере искусств, то есть в выражении души человеческой, это уже допускается. И даже настаивается на этом. Конечно, это является следствием утраты самой образной природы искусств и особенно литературы. Сначала с добавлением «пока»: «В вопросах искусства с учётом этических и эстетических факторов, пока ещё опираться на ИИ целиком невозможно» («Литературная газета», № 12, 2024 г.). То есть, оставляется «лазейка» для нашего изощрённого во всех хитростях разума: мол, если не сейчас, то когда-нибудь это непременно произойдёт. Не «пока», конечно, а принципиально невозможно. Имитация не является творчеством и ни о чём более не свидетельствует, как об общей цивилизационной деградации, о чём убедительно свидетельствует хотя бы такой факт.
Актёры, сценаристы, продюсеры Голливуда в США устраивают забастовки против использования нейросетей, обученных на творчестве, голосах и образах реальных актёров, против незащищённого интеллекта, против того, что использование нейросетей не должно вести к «замене человека». Использование же дипфейков, то есть копирование известных и узнаваемых людей ведёт именно к этому. Главное же состоит в том, что использование дипфейков пресекает развитие искусства, ибо при этом появление новых знаменитых и узнаваемых актёров и образов исключено. Развитие таким образом пресекается. Дипфейк лишь копирует прошлое или существующее, но не способен создавать нового… Но пресечение художественного образного мышления, пресечение литературы в обществе и лишь её имитация является верным признаком вырождения элиты. Со всеми неизбежными трагическими последствиями…
В высшей мере примечателен тот факт, что Священное Писание, в отличие от земной церкви, не только не отвергает художественное творчество, образное, иносказательное мышление, но считает его необходимым и неизбежным для человеческого существования, видит в нём проявление духовной природы человека.
В Ветхом Завете если и проклинается «произведение рук художника», то потому, что художник отступает от своего призвания славить Бога, употребляет своё дарование не во благо, а во зло, делает «литого кумира», то есть неживого бога: «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте» (Второзаконие, 27:15). Художество же всегда постигало высший смысл жизни: «Веленью Божию, о муза, будь послушна» (А. С. Пушкин).
Иисус объяснял ученикам своим, что притчевое, образное представление является необходимым условием познания человеком самого себя и мира: «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и, слыша, не слышат, и не разумеют» (Евангелие от Матфея, 13:13).
В «Откровении святого Иоанна Богослова», Апокалипсисе объясняется то, почему и в силу каких причин в обществе пресекается художество и изгоняется художник. Когда выветривается дух человеческий и народный. А вместе с пресечением художества прекращается и «шум жерновов», то есть хозяйственная деятельность. Когда Вавилон, город крепкий стал – «великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу»: «И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе» (18; 22). Вавилон – уже не только конкретный город, но символ, сохраняющий своё значение во все последующие времена: «Вавилон имеет значение собирательное, есть понятие не столько географическое, сколько морально-мистическое» (Прот. Сергий Булгаков. «Апокалипсис Иоанна»). Так же, как в стихах Анны Ахматовой, родной город, приневская столица уподобляется Вавилону: «…Приневская столица,/ Забыв величие своё,/ Как опьяневшая блудница,/ Не знала, кто берёт её…».
«И сделаем себе имя…»
Может показаться, что происходящее ныне, и прежде всего в сознании и душе человека, является чем-то ранее невиданным и неслыханными, что оно наступило только в наше время. На самом же деле ныне происходит то, что происходило всегда, во всю историю человечества, изначально и до сего дня. Разумеется, изменяя формы своего проявления, что собственно зачастую и не даёт возможности распознать его смысл и значение.
Оказалось, что современные, текущие задачи и проблемы нынешнего дня не разрешить без восприятия бытия человеческого в его непрерывности и единстве, без ответов на извечные вопросы, не смотря на предшествующий опыт о том, как устроен мир, что есть человек в этом мире и какова его природа. У человека всегда находятся причины отмахнуться от этих извечных вопросов. До них ли, в то время, когда… И тогда он неизбежно попадает в мучительное, неразрешимое состояние «недуга бытия», когда дар жизни, выпадающий ему только единожды, становится ему в тягость, как бы препятствием к чему-то неопределённому и якобы более важному и драгоценному, чем сама жизнь…
И поскольку то, что происходит теперь с человеком, происходило с ним всегда и объяснение событий в их непрерывности лежит в духовной сфере, припомним изначальную «архитектуру» устройства мира, выработанную десятками, если не сотнями тысяч лет и остающуюся, по сути, неизменной. Тем более, что «Вавилон книги Бытия (Быт: 11; 1–9) допускает возможность говорить о нём в современных понятиях. Тот Вавилон – он же и современный. Идея вавилонской стройки в современном мире возродилась, как только совпали и были соблюдены предварительные условия: оставление сыновства и отчизны, отвержение священства и царства, богоотступничество, идея построить свой мир на новой земле, научно-техническая революция…» (Е. А. Авдеенко, «Тема «Каин» в современном мире», М., КЛАССИС, 2014 г.).
При этом надо признать очевидный факт, что человечество изначально и до сего дня разделено на каинитскую цивилизацию, отпавшую от Бога, то есть от высшего смысла жизни и сифскую, сынов Божиих, оставшихся верными своей вере. Этот факт не то что не замечается, хотя в каждую последующую эпоху люди сталкиваются с ним, но ему не придаётся его истинное значение. Хотя соблазны и искушения всегда терзали умы представить человеческую цивилизацию единой, якобы во благо её – без разделения на национальности, народы, вероисповедания, найти «всемирную идею». Это было стремление к тому же, что сегодня мы называем глобализацией: «Все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания» (П. Чаадаев). И несмотря на то, что «стены», разъединяющие людей, не падали, народы не сливались в такое умозрительное и губительное для них единство, стремление к нему оставалось и остаётся и даже получает преобладание. И люди вновь и вновь предпринимают это всемирное строительство, получившее название Вавилонского. Снова строят башню (столп) до самого неба, тем самым как бы компенсируя своё безверие, в конце концов, пытаясь свергнуть небо на землю: «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеяться по лицу всей земли» (Бытие, 11: 4). Но оказывается, что такое строительство совершается неизбежно ценой отказа человека от самого себя, от своего имени, от своей природы. Оказывается, что на пути этого строительства стоит сам человек, что это строительство совершается не иначе, как ценой преодоления человека. «Сделаем себе имя» означает изменение своей человеческой природы, отказ от своего человеческого имени: «Вот она, самая суть всего предприятия с постройкой города и башни… суть происходящего не в башне, а в сердце строителей» (Е.А. Авдеенко). То есть замысел строителей означал желание изменить свою человеческую природу. Человек оказался целью в таком строительстве.
Такое всемирное строительство, существующее изначально и до сего дня, изменяя свои формы, не требует ни отрицания его, ни обличения. Его можно только понять. Е. А. Авдеенко делал существенные уточнения для понимания характера и цели этого строительства: «Они замыслили строить башню с ориентацией в небо: «И сказали, приидите, построим себе город и башню, её же глава будет до неба» (Быт 11: 4), греческий перевод. Древнееврейский текст помогает понять замысел башни: «И сказали: Давай построим себе город и башню, и начало (рош) её в небесах (Быт. 11:4). Греческий текст рисует картину стройки от земли к небу. Еврейский текст обнаруживает замысел стройки – от неба к земле… Человек, по замыслу строителей башни, может действовать как Бог: начало – рош башни – в небе».
Вавилонское строительство – прообраз глобализации. И как видим, Вавилонская глобалистская цивилизация гибнет не от внешних причин, а от самой себя, от вырождения человека, от стремления создать «нового человека». Отказ же человека от своей человеческой сущности, от своей духовной природы – это путь гибели человека, народов, стран, человечества вообще: «И сказали: приидите… и сотворим себе имя прежде, чем рассеяться /нам/ по лицу всей земли» (Быт. 11:4). Так в переводе на греческий – «прежде, чем рассеяться». В древнееврейском тексте – совсем другой смысл: «чтобы не рассеялись мы по лицу всей земли». Древнееврейский текст: «Сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли» – закрывает саму суть греховного прельщения вавилонских строителей: желание рассеять себя по всей земле – глобализм. Древнееврейский текст допускает такую интерпретацию: «Прославимся, чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли (перевод И. Ш. Ширмана) (Е. А. Авдеенко).
Нам же остаётся опять и снова сказать о том, что всемирное глобалистское вавилонское строительство неустранимо. Ныне оно продолжается в форме нейросети, цифровизации, искусственного интеллекта, цель которых всё та же: преодоление человека, устранение его, создание «нового человека»… Вся история человечества представляет собой борьбу за сохранение духовной, физиологической и социальной природы человека. Историк на это скажет, что история человечества – это история войн и иных событий и будет формально прав. Но все события являются уже следствием того, что происходит с человеком, с его духовной природой, с сохранением или утратой её…
Понятна тревога наиболее проницательных умов за судьбу мира, за участь нашей планеты, которая может погибнуть. Президент РАН Г. Красников говорит, к примеру, о том, что «главный инстинкт человека – самосохранение – не позволит процессу дойти до крайности» («Литературная газета», № 16, 2024 г.). Но искажение сущности человека убивает и его природные инстинкты. А в случае, если это искажение получит абсолютное преобладание, участь планеты и нашей цивилизации может оказаться катастрофической. Ведь всё свершается на уровне верований, вне зависимости от уровня интеллектуального развития человека. И весь вопрос состоит в том, каковы эти верования… Ведь и вавилонские строители, и нынешние глобалисты уверены в том, что именно они и только они спасают сегодня человечество…
«Современные западные мыслители опьянены глобализмом и не могут придумать ничего лучше сомнительной идеи о конце истории… Может быть, конец истории на самом деле является концом западной философской мысли?» (Стефано Ди Лоренцо, «Литературная газета», № 4, 2023 г.).
Да, западная цивилизация интеллектуально и нравственно разлагается и даже впадает в сатанизм. Да, «конец истории» – это конец западной интеллектуальной мысли. Во всяком случае, пока. Но это явление всемирное. И мы поступили бы опрометчиво, если бы посчитали, что это свойственно исключительно западной цивилизации…
Исследователи всё чаще задаются вопросом: что Россия может предложить миру? При этом зачастую имеется ввиду некий очередной проект социального и государственного устройства. Но теперь никто ничего миру дать не может кроме единственного – указать путь спасения человека, сохранения его духовной природы. Только при этом условии можно будет сказать, что «в руках России спасение человечества» (С. Караганов).
Россия предлагает миру традиционные ценности, справедливое и равноправное устройство мира в единстве его многообразия. Но в таком, лишь внешнем устремлении предчувствуется всё-таки неполнота, ибо нельзя же не задаться вопросом о том, а в какой степени в самой России сохраняются эти ценности? Ведь дать миру можно лишь то, что есть у нас. Но Россия уже дала миру то, что остаётся незыблемым, драгоценным и необходимым. Это – великая русская литература ХIХ века. Выдающийся поэт нашего времени Юрий Кузнецов считал, что «было три этапа в мировой культуре: первый – античность; второй – Ренессанс, третий – русская литература ХIХ века» («Творческие семинары. М., Литературный институт им. М. Горького, 2006 г.). В том положении и состоянии, в каком находится литература в нашем обществе, удушаемая «рынком», вот уже более четверти века, вызывает естественное опасение, а продолжается ли русская литературная традиция? В новых поколениях литераторов, кажется, утрачивается уже даже сама образная природа литературы…
Кроме того, так складывалась наша народная и государственная судьба, что литература зачастую толковалась или с точки зрения позитивистских «передовых» революционных идей или с точки зрения господствующей идеологии. До такой степени, что история литературы во многой мере оказалась подменённой историей революционного движения, «освободительного» движения в собственной стране. Ясно, что духовная и мировоззренческая сущность литературы при этом оставалась не постигнутой. А потому первейшей культурной задачей общества теперь является перечитывание классики, постижение её духовной основы, так необходимой нам сегодня для созидания новой России. А это предполагает совсем иную издательскую политику. Ведь безусловным показателем уровня развития общества, народа, страны является культура, и особенно литература, определяющая пути культуры. У нас ведь уже есть драгоценный опыт того, как преодолевалось «революционное похмелье» после крушения страны начала ХХ века, когда в начале 1930-х годов в спешном порядке «ковалось» национальное сознание, когда произошла «переоценка общей культуры», когда в общество возвращался патриотизм: «Годами сдерживаемое, даже удушаемое чувство любви к родине, столь человеческое, получило свободу своего выражения». И делалось это именно с помощью классической русской литературы, когда «ребёнок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы» (Г. П. Федотов, «Судьба и грехи России», Санкт-Петербург, 1992, т. 2).
А это ведь всё дела волевые и рукотворные, для которых в нашем обществе уже давно настал срок… И, если они всё ещё не наступают, значит для этого есть веские причины и преграды внутри нашего общества. Всевозможные имитации и прекрасные декларации при этом не в счёт…
«И этот путь есть сама Россия…»
Нарастающие тревога и беспокойство за нашу человеческую участь, за судьбу России и мира, как-то заслонили совсем недавние прения о спасительной для нас «идеологии», то есть некой «конструкции», очередной «экономической доктрине», которая упорядочит жизнь в стране, выведет её наконец-то из какой-то перманентной невнятицы.
Что же касается идеологии, то есть смысла нашего народного и государственного существования, то она выводится вовсе не из схоластических мечтаний, но давно и хорошо известна: признать Россию уникальной геополитической цивилизацией, волею истории и судьбы оказавшейся между иными цивилизациями – Востоком и Западом. И, кстати, она давно постигнута русской литературой. Именно поэтому литература и «мешает» теперь глобалистским устремлениям как вовне, так и внутри страны. Уже Н. Гоголь вполне определённо постигал это: «И этот путь есть сама Россия». А. Блок повторяет эту «формулу» в трагическое революционное время. А в стихотворении «Скифы» более чем определённо постигал наше положение в мире, нынешнее положение, а не только в 1918 году:
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Вот – срок настал. Крылами бьёт беда,
И каждый день обиды множит.
И день придёт – не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжёт, и губит!
Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Разве это не о нашем нынешнем положении и состоянии?
Юрий Кузнецов в стихах 1980 года, задолго до нынешних катаклизмов, постигал смысл происходящего и мировоззренческие пути выхода из неопределённости и невнятности:
Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напоил лошадей.
Мы поскачем во Францию-город
На руины великих идей.
Мы дорогу найдём по светилам,
Хоть светила сияют не нам.
Пропылим по забытым могилам,
Прогремим по священным камням.
Нам чужая душа – не потёмки
И не блеск Елисейских Полей.
Нам едино, что скажут потомки
Золотых потускневших людей.
Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие священные камни,
Кроме нас не оплачет никто.
Пётр ТКАЧЕНКО
«Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам...»
«Поэма без героя» Анны Ахматовой

Все, кто блистал в тринадцатом году –
Лишь призраки на петербургском льду.
Георгий Иванов
Пускай же всё пройдёт неспешно,
Что в мире свято, что в нём грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Александр Блок, «Возмездие»
«Мне голос был. Он звал утешно…»
Есть всё-таки некая устойчивая закономерность в том, кто из классиков русской литературы становится теперь нам особенно близким и необходимым. Видимо, потому, что их творчество, их миропонимание каким-то загадочным, неведомым нам образом соотносится с нашей нынешней жизнью, делая их наследие даже злободневным. Кроме того, «Нам не дано предугадать,/ Как слово наше отзовётся» (Ф. Тютчев), а «произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп», как отмечал А. Блок в дневнике 1 декабря 1912 г. Литература же является историей духа человеческого и народного, а не только историей тех или иных событий, так или иначе отразившихся в их творчестве. То есть потому и становится тот или иной классик теперь нам особенно близок, что «узоры человеческой жизни расшиваются по вечной канве» (А. Блок), что он своё время воспринимает не иначе, как в общем течении человеческой жизни и народной судьбы. И, прежде всего, постигает духовную природу человека, а не только историческую, социальную или какую-то иную.
Почему вдруг возникла необходимость перечитать поэта Анну Андреевну Ахматову (1889–1966)? Вовсе не вдруг, но именно её. И именно её «Поэму без героя», над которой она работала более двадцати лет, как бы подводя итог своего творческого пути. Хотя, конечно, речь пойдёт не только о поэме. Но прежде, чем обратиться к этой уникальной поэме, совершенно необходимо сказать о положении Анны Ахматовой как поэта в трагическом революционном двадцатом веке. Тем более что, как мне кажется, несмотря на многочисленные исследования её творчества, это прояснено недостаточно внятно.
Главное же состояло в мировоззрении и миропонимании А. Ахматовой, встретившей либеральное революционное крушение страны в феврале 1917 года, когда была свергнута монархия, разрушена государственность, а народ ввергнут в хаос и беззаконие, в зрелом, двадцативосьмилетнем возрасте. И её воззрения не претерпели тех радикальных изменений, каким подверглось подавляющее большинство её современников. Радикальных изменений, как понятно, под воздействием революционной идеологии, начавшейся ещё с революционных демократов ХIХ века, и тех «экономических доктрин», которые навязывались народу огнём и мечом вместо его естественной и природной христианской веры. Такой духовный стоицизм из её современников был свойствен разве только А. Блоку. Но он рано ушёл из жизни (7 августа 1921 г.).
Разумеется, творчество А. Ахматовой со временем и с возрастом изменялось, о чём она и сама писала. Разумеется, она не избежала тех духовно-мировоззренческих поветрий, которые были тогда распространены в образованной части общества. Да и кто мог избежать их в «беспамятстве смуты», по её же выражению, и в революционном психозе, в «повальном сумасшествии» (И. Бунин)?..
Но она избежала декадентства, того беспросветного упадничества и нигилизма, которое было свойственно в тех условиях многим, даже большинству её современников. Избежала и литературных школ и направлений, в частности акмеизма, хотя и находилась в кругу приверженцев этого направления. Тем более что Николай Гумилёв, её муж был его «теоретиком». Но литературные школы никогда не определяли литературу, о чём писал Георгий Адамович, один из самых талантливых критиков русского зарубежья: «Никогда манера письма не была и не будет решающим признаком для оценки чьего-нибудь творчества. Пора на этот счёт перестать обольщаться … Манера сама по себе ничего не значит. Уцелело во времени только то, что оживлено и согрето изнутри личным огнём, иногда в согласии с господствующими в данные годы теориями, иногда вопреки им» («Одиночество и свобода», М., «Республика», 1996). А. Блок посвятил акмеизму целую статью «Без божества, без вдохновенья», в которой писал, что «всё большее дробление на школы и направления, всё большая специализация – признаки такого неблагополучия». Но А. Ахматова, несмотря ни на что, оставалась верной русской литературной традиции. Именно на этом основании он сближал её с А. Блоком: «Эфемерных знаменитостей везде и всегда бывает много. Удивительнее и показательнее то, что Ахматовой с её такими на первый взгляд «дореволюционными», такими «старорежимными» стихами удалось в нашей литературе удержаться».
Отдавая должное дарованию акмеистов, А. Блок вместе с тем писал, что они «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма, …они замалчивают самое главное, единственно ценное, душу …хотят быть знатными иностранцами». В этой статье об акмеистах он отмечал: «Вообще Н. Гумилёв, как говорится, «спрыгнул с печки»: он принял Москву и Петербург за Париж». А по свидетельству К. Чуковского говорил Н. Гумилёву: «То, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы – слишком литератор, и притом французский» («Александр Блок, как человек и поэт», П., 1924). Даже М. Горький так отзывался о Н. Гумилёве: «Жаль только – не русский он писатель. Настоящий француз в манжетах». Всё это к тому, какая мировоззренческая атмосфера преобладала среди акмеистов, и вообще в творческой среде, в которой находилась А. Ахматова.
Но примечательно то, что из этой писательской среды А. Блок изначально и решительно выделял А. Ахматову. В дневнике 7 ноября 1911 года отмечал: «А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня: стихи, чем дальше, тем лучше)». А в упомянутой статье «Без божества, без вдохновенья» отозвался о ней вполне определённо: «Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова».
Именно этот духовный стоицизм Анны Ахматовой, то, что она осталась верной русской литературной традиции, позволил ей, как увидим далее, на всех крутых поворотах трагического ХХ века, быть довольно точной в понимании сути происходящего, и прежде всего, – его духовной основы, так как все грандиозные потрясения в истории имеют именно духовную природу. Иные же причины, скажем, социальные являются лишь сопутствующими, а точнее – следствием духовного состояния человека, которое, в конечном счёте, и вызывает те или иные исторические события.
Ведь истинный поэт не просто «изображает действительность», как утверждают критики позитивистского толка, но так или иначе, несмотря на предшествующий опыт, отвечает на главные вопросы бытия: как устроен этот мир, что есть человек в нём, какова природа человека, что происходит ныне. И отвечают не декларативно, а образно. И толкует происходящее не с точки зрения тех или иных господствующих идеологических догматов, но с точки зрения духовной природы человека. А на такие вопросы обязано отвечать каждое поколение. Если же по каким-то причинам оно на них не отвечает, тогда происходит трагедия вырождения человека, известная изначально, изложенная уже в книге Бытия Ветхого завета, когда «всякая плоть извратила путь свой на земле…».
Примечательно то, как откликнулась Анна Ахматова на революционное крушение страны 1917 года. Сразу скажем, в отличие от большинства поэтов её современников. Есть у неё стихотворение «Когда в тоске самоубийства…», которое имеет довольно странную историю его публикации. А потому привожу его в авторском виде, в каком его создала А. Ахматова:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берёт её, –
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух.
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Можно встретить утверждение, что стихотворение это существует в двух вариантах. На самом деле никаких «вариантов» этого стихотворения не существует. Так как это дело не авторское, а публикаторское и издательское. Впервые опубликованное в эсэровской газете, оно вышло без последней строфы. В последующем оно публиковалось без двух первых строф и начиналось строчкой «Мне голос был. Он звал утешно…». К примеру, в массовом издании Анны Ахматовой «Избранное» (М., «Художественная литература», 1974). И ясно, почему столь настойчиво в публикациях этого стихотворения опускались первые строфы. Ведь в них А. Ахматова говорит о том, что именно произошло в России. И говорит не с точки зрения идеологической, но духовной. А это не только не вписывалось в то, как понимал происшедшее новый правящий класс, и в каком виде оно преобладало в общественном сознании, но радикально противоречило ему.
Собственно это и определило дальнейшую писательскую и человеческую судьбу Анны Ахматовой. И не только в связи с этим стихотворением. Андрей Платонов, уже позже, откликаясь на её сборник «Из шести книг» («Советский писатель», 1940), писал, что «голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности: в сборнике помещены стихи, подписанные последними годами. Мы не знаем причины такого обстоятельства…». Но вместе с тем, отвечал на вопрос о причинах этого «обстоятельства»: «Необходимо, прежде всего, преодолеть заблуждение. Некоторые наши современники – литераторы и читатели – считают, что Ахматова несовременна, что она архаична по тематике, что она слишком примитивна и прочее – и что поэтому, стало быть, её значение, как поэта, невелико, что она не может иметь значения для революционных, советских поколений новых людей…» («День поэзии», 1966).
Итак, Анна Ахматова в этом стихотворении говорила о том, что именно произошло в России. А также – о причинах происшедшего. А причины эти оказались извечными, сопровождающими человечество во всю его историю: утрата веры, отказ человека от своей духовной природы, отпадение от Бога: «И дух суровый византийства/ От русской церкви отлетал». Утрата же веры неизбежно приводит к «тоске самоубийства». Об этом говорится уже на первых страницах истории человечества, в книге Бытия. Каин добровольно отпадает от Бога, отказывается от своей духовной сущности. Человечество разделяется на две цивилизации: каинскую без Бога и на сифскую – цивилизацию сынов Божиих. Иной организации общества, иной «архитектуры» изначально и до сего дня человечество не знает. Разумеется, изменяя внешние её формы и мотивации порой до неузнаваемости. Ведь человек является существом не только природным и социальным, но и духовным. Духовная же его природа проявляется и реализуется только через веру. Отнимите у него Бога, он поверит во что угодно, с такой же искренностью и неистовостью. Но без веры он жить не может.
Утрата же веры, отпадение от Бога неизбежно приводит к тому, что «приневская столица», любимый город, Петербург, «забыв величие своё», превращается в блудницу: «Как опьяневшая блудница/ Не знала, кто берёт её». Здесь А. Ахматова уподобляет свой город Вавилону «Откровения святого Иоанна Богослова»: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу… ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы» (18:2).
Но Вавилон – город уже не конкретно-исторический, а символический, образный, духовный, сопровождающий человеческое общество во все времена: «Вавилон имеет значение собирательное, есть понятие не столько географическое и политическое, сколько морально-мистическое». А потому не следует видеть событие, однажды в нём происшедшее, «как единократное и индивидуально-историческое, – напротив, типологическое, повторяющееся с разной силой и в разных образах – в разные эпохи» (Прот. Сергий Булгаков, «Апокалипсис Иоанна», М., Православное Братство трезвости «Отрада и утешение», 1991).
Но, прежде чем обратиться к природе блудницы, к её «биографии», надо сказать о том, что мы привыкли объяснять мир и человеческое устройство на земле лишь историей, понимаемой как чередование событий или категориями социальными. Но человек – «не материальная скотина» (Н. Гоголь). Он существо, как уже сказано, прежде всего, духовное, выделенное душой и разумом из природы по образу и подобию Божию. Основным содержанием его бытия является стремление остаться на той духовной высоте, на которую он вознесён. Всё остальное в его земной жизни зависит от этого. Люди духовного звания называют это бранью духовной. Кстати, в книге Бытия говорится о том, что человек стал душою живою. Но ничего не говорится о его разуме. Наоборот, Господь, не полагаясь на разум человека, подробно рассказал Ною, как именно надо строить Ковчег для его спасения. Но это – уже отдельная тема.
Постичь же человеческое бытие в полной мере можно, только помня о духовной природе человека. Во всяком случае, игнорируя её, это сделать невозможно. Скажу словами выдающегося историка нашей эпохи И. Я. Фроянова (1937–2020): «Объяснение событий лежит в духовной сфере». А значит, «история не есть лишь хронология, отсчитывающая чередование событий, она есть жизненный опыт, опыт добра и зла» (Сергий Булгаков). Почему человеческое сообщество периодически сотрясают социальные катастрофы, революция и войны? Что является их первопричиной? Объяснить это только «экономическими доктринами», тем, что «верхи» не могут, а «низы» не хотят, невозможно. Невозможно объяснить это и имущественным неравенством людей, ибо равенство их в принципе невозможно. Это всегда понимали светлые умы. К примеру, талантливый критик Валериан Майков (1823–1847), проживший всего двадцать четыре года: «Ни безусловное разделение имуществ, ни распределение богатств по способностям к труду нимало не подвигают общества на путь к благосостоянию, а ещё напротив того, представляют перспективу таких бедствий, которые превосходят сумму зол, рождаемых неравенством» (Сочинения В. А. Майкова в двух томах, Киев, 1901, том второй).
Человеческое сообщество периодически сотрясают катастрофы главным образом потому, что происходит нечто с самим человеком. Наиболее чуткие люди, истинные поэты понимали, что первопричина кроется в самом человеке, что и предопределяет ход событий, что внешние обстоятельства уже только вовлекают наиболее слабых и безвольных людей в соблазнительные социальные движения. Определяли они это в самых общих чертах, как, скажем, А. Блок, называя это «музыкой», не в буквальном смысле, а как некая духовная субстанция, стихия, в которой пребывает человек. В дневнике 1913 года он отмечал: «Мораль мира бездонна и не похожа на ту, которую так называют. Мир движется музыкой, страстью, пристрастием, силой».
Почему человека периодически охватывает тревога и тоска («тоска самоубийства», как у А. Ахматовой), которая выбивает его из привычного, нормального состояния? Как в стихах А. Блока.
Когда осилила тревога,
И он в тоске обезумел,
Он разучился славить Бога
И песни грешников запел.
Анна Ахматова, как истинный поэт, тоже исчисляла время не по календарю, а по тем процессам духовного порядка, которые происходили в обществе. Так ХХ век по её представлению, начался с 1913 года. Попутно отметим, что и наш ХХI век начался тоже не по календарю, а раньше – с 1991–1993 гг. Этим как раз и доказывается, что жизнь человеческая и народная свершается по неким духовным путям, не укладывающимся всецело в какие бы то ни было социальные теории. Это и постигают, прежде всего, поэты, хранители гармонии, ибо призваны постигать не внешний, а внутренний порядок мира. Впрочем, как и нарушение этого внутреннего порядка мира…
ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА
В стихотворении «Когда в тоске самоубийства…» Анна Ахматова уподобляет, сравнивает свой город, «приневскую столицу», вдруг забывшую «величие своё», с «опьяневшей блудницей». То есть уподобляет его «великой блуднице» Вавилону, который есть жена Откровения святого Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Вот основной духовный смысл и значение несчастья, происшедшего в России в феврале 1917 года: великий город, «великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Но это событие в представлении поэта не является по своему содержанию и смыслу сугубо историческим, относящимся только к этому году. Оно, как уже сказано, известно извечно. А потому совершенно необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на этом духовном явлении, на феномене блудницы, как он представлен в Священном Писании и в опыте человеческой истории. Это необходимо как для уяснения смысла и значения происходившего и происходящего всегда и ныне, так и для постижения поэтического наследия Анны Ахматовой.
Но прежде надо сказать о природе социальных революционных катастроф, которые периодически сотрясают человеческое сообщество. Тем более что объяснения их столь отличаются, как во времена А. Ахматовой, так и в более поздних оценках. Здесь надо иметь в виду главное, то, что объяснение событий лежит в духовной сфере. Ведь всякие революции в истории никогда не достигали декларируемых ими целей. Выходило то, чего мало кто предполагал, так как революции не имеют положительного содержания, их цель – разрушение существующего уклада и порядка вещей: «Понятие революции отрицательное, оно не имеет самостоятельного содержания, а характеризуется лишь отрицанием ею разрушаемого» (Сергий Булгаков, «Вехи», М., 1909). Совершенно прав историк: «События далёкого 1917 года выступают во всей своей сложности и противоречивости. Им нельзя дать… однозначную, сугубо положительную оценку» (И. Я. Фроянов, «Октябрь семнадцатого», издательство Санкт-Петербургского университета, 1997).
Разумеется, нельзя принижать историческое значение драмы революции в России, уже хотя бы потому, что она радикальным образом изменила жизнь народа и страны. Мы же говорим о духовной природе этого грандиозного потрясения. Кроме того, все революционные потрясения в истории однотипны. Они имеют, по сути, один и тот же сюжет, архетип, который изложен в книге пророка Даниила. Царю Вавилонскому Навуходоносору снились сны, которых не могли разгадать тайновидцы, гадатели и чародеи. А халдеи прямо сказали ему, что «нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю» (2:2). Это подвластно только Богу: «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». И тем не менее находится некто Даниил из пленных сынов иудейский, который «разгадывает» сны Навуходоносора. Причём, как бы от имени Бога. А снился царю истукан, по толкованию Даниила неправильный бог, не настоящий, не живой. А это значит, что «царство отошло от тебя» и ты должен быть убит. Впрочем, как и отец его «был свержен с царского престола своего и лишён славы своей» (5:20). Даниил убеждал царя в том, что он прославляет не настоящего Бога, а значит, ему надо поверить в другого бога, и тогда царство его сохранится, и он останется жив: «Ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил» (5:23).
Вот и весь архетип всяких потрясений и завоеваний в последующие времена. Но он ведь ничем не отличается и от нынешнего, когда США утверждают, что у них есть безусловная ценность – демократия, которую они должны нести миру для процветания народов. На самом же деле эта «ценность» является лишь предлогом для завоевания стран и народов. Но для того, чтобы это произошло, люди должны отказаться от своей веры и уверовать в эту эфемерную «ценность»… Как видим, всякое социальное потрясение, всякое завоевание является, прежде всего – бунтом против Бога, который может быть прикрыт какой угодно декларацией, скажем, и такой: «Душа моя страданиями человеческими уязвлена стала»…
Это уже потом, на руинах былой жизни, неимоверными усилиями, страданиями и жертвами народа созидается новый уклад жизни и новая государственность, никому пока неведомые. Это, собственно, и происходило у нас в стране в советское время с начала тридцатых годов. Это и было основным содержанием эпохи.
И потом, когда свершаются такие грандиозные события, как крушение страны, государственности и всего уклада жизни, все люди без исключения погружаются в революционный анархизм, беззаконие и психоз, ибо такие трагедии охватывают всё существо человеческое. Не только социальную сферу, но и физиологическое их естество. При этом «правых» и «виноватых» уже нет, так как за такой цивилизационный срыв ответственны все, кому довелось жить в это время, хотя мало кто это вполне осознавал. Это срыв общества в целом, а не только какой-то его части, как полагали многие.
После такого крушения страны и общества борьба шла уже не между «старым» и «новым» укладами жизни, не между прежним самодержавием, уже разрушенным, и чем-то невиданно новым. Противостояли уже две иные силы: февральская, либеральная, совершившая разрушение самодержавия и государства, и тоже революционная советская. Конечно же, при сохранении прежней идеологии, которую уже невозможно было отбросить, а можно было только национализировать, что и произошло.
И весь вопрос тогда состоял в том, кто укротит и успокоит этот анархический бунт и психоз народа, тот и окажется исторически правым. Как известно, это сделала советская власть. Не беря этого в расчёт, невозможно понять драмы русской истории ХХ века, да и начавшегося ХХI-го. Но игнорирование этого, умышленное или по убеждению, это уже не столь важно, происходило в последующем, даже после Великой Отечественной войны. На это можно сказать разве что стихами выдающегося поэта нашей эпохи Юрия Кузнецова: «Впрах гражданская распря сошла, но закваска могильная бродит».
К сожалению, в этой «могильной закваске» во многой мере пребывало наше общественное сознание вплоть до нового революционного крушения страны, до очередной, на этот раз либерально-криминальной революции начала девяностых годов миновавшего века. Как понятно, так произошло не само по себе, а в результате той идеологической обструкции страны и народа, которая была предпринята как внутри страны, так и извне.
Итак, Анна Ахматова в своём стихотворении постигла и выразила то, что произошло в России в феврале 1917 года, с точки зрения духовной. Любимый город, «приневская столица» превратилась в «опьяневшую блудницу». О причине этого бедствия она говорила вполне определённо: «дух суровый византийства от русской церкви отлетал», то есть причина состояла в утрате веры. За этим неизбежно следует вырождение человека, как существа по природе своей духовного. Но об этом – ниже, так как это и составляет содержание «Поэмы без героя». Пока же скажем, что для человека нет более значимых событий во всю его жизнь, чем обретение веры или утрата её, обретение Бога или отпадение от Него, когда человек непременно и неизбежно сам дерзает быть богом… Всё остальное зависит от этого, все его «проблемы», какие он только не разрешает в своей земной жизни…
Как и должно при таком подходе, А. Ахматова не называет происшедшее грандиозное историческое событие революцией, но даёт его духовный смысл – явление блудницы: «Великая блудница есть здесь общее и предварительное качественное обозначение царства зверя» (Сергий Булгаков). Зверь же, согласно Откровению, он же – дракон, диавол и сатана.
Когда же это стихотворение «Когда в тоске самоубийства…» публикуется без первых двух строф о блуднице и начинается со строчки «Мне голос был. Он звал утешно…», то становится совершенно не понятно, почему «голос был», чей это голос. Почему он звал к столь странному – покинуть Россию навсегда? Причём, звал «утешно», то есть участливо и увещевательно, дабы облегчить горе и страдания. То есть голос был обманным, так как тем самым горе и страдания только приумножались. Это так же, как в стихах Сергея Есенина: «Если крикнет рать святая:/ «Кинь ты Русь, живи в раю»/ Я скажу: не надо рая./ Дайте родину мою». Что это за «рать святая», которая кричит о столь странном и неестественном: кинуть Русь? Видимо, это следствие всё того же, что «дух суровый византийства от русской церкви отлетал».
Согласно Откровению святого Иоанна Богослова, в начале является в небе великое знамение – жена, облечённая в солнце» (12:1). Но на неё обозлился дракон и пошёл на неё войной. И не только на неё, но и на её потомство. Пошёл именно потому, что она осталась верной своей вере: «И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (12:17). В результате стали поклоняться зверю наиболее слабые духом и волей, «все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни» (13:8).
Но зверь, как и блудница, его прообраз, приходит в этот мир не навсегда, а на «малое время», которое указано в Откровении, хотя оно не является временем календарным: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». После чего зверь сковывается Ангелом на тысячу лет: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (20:2).
Зло же в мире неустранимо. Оно не уничтожается однажды раз и навсегда, а как бы воспроизводится. И каждое поколение людей преодолевает его в брани духовной. Об этом говорит Откровение: «Зверь был, и нет его, и явится» (17:8). Господь же не только осудил блудницу, но и взыскал с неё за дела её: «Он осудил ту великую любодейку, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов Своих от руки её (19:2). «Ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (18:5). Прегрешения же блудницы были велики, если «и цари земные любодействовали с нею и купцы земные разбогатели от великой роскоши её» (18: 3).
После этого приходит истинная жена, невеста Агнца: «Возрадуемся и воздадим ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» (19:7). Можно сказать, что Анна Ахматова во всём своём творчестве проходит этот путь жены: «светлая жена» – блудница – невеста Агнца…
Но чей голос ей «был»? Голос был с неба о том, чтобы не подвергнуться язвам блудницы, надо не участвовать в её грехах и выйти от неё: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её, и не подвергнуться язвам её» (18:4). Вот трагедия, вот драма, в том числе и в этом стихотворении Анны Ахматовой. Надо не участвовать в грехах блудницы, (она же – город), и выйти из неё. Но это невозможно, так как это означало бы оставить Россию навсегда, которая есть «город крепкий»…
Видимо, надо сказать и о природе изначальной, ветхозаветной блудницы книги Бытия, потому что это не некий «догмат», и не «история» в её привычном понимании, но то, что пребывает в человеческом сообществе всегда. Это приблизит нас и к пониманию А. Ахматовой, коль она так свободно и для своего времени начала ХХ века так естественно обращалась к этому библейскому образу. Тем более что это связано с первой катастрофой гибели человеческой цивилизации – Всемирным Потопом.
Потоп, конечно, грандиозная трагедия, но важно знать, что стало его причиной. В книге Бытия, говорится о том, что причиной его стало вырождение человека, то, что «земля растлилась», наполнилась злодеяниями, и плоть человеческая извратила свою природу, «путь свой на земле»: «Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями» (6:11); «И воззрел Бог на землю, и вот, она растлена: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (6:12). И поскольку пришёл конец плоти, люди должны быть истреблены: «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот Я истреблю их с земли» (6:13). Обратим внимание на то, что Господь защищает землю от «них», от растлившихся людей, но не самих людей. Наоборот, земля растлилась от людей, извративших свою природу. Это свидетельствует о том, что первоосновой человеческого бытия является земля.
Что значит: «ибо всякая плоть извратила путь свой на земле»? Это значит, что сыны Божии, представители сифской цивилизации, последователи Авеля, оставшиеся верные Богу, стали брать в жёны «дочерей человеческих», представительниц каинитской цивилизации: «И тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал» (Бытие, 6:2). Следствием этого события и стал Великий потоп, то есть истребление рода человеческого с земли. Это обстоятельно изложено в книге Е. А. Авдеенко «Тема «Каин» в современном мире» (М., КЛАССИС, 2014). «…Каиниты и сифиты жили раздельно на два рода»: потомки Каина (убийцы Авеля) или каиниты – и потомки Сифа, или сифиты. Поскольку сифиты призывали имя Божие, на них и запечатлелось имя Божье: Св. Писание называет их – «сыны Божии» (Быт. 6:2). До какого-то времени каиниты и сифиты жили раздельно, потому что Каин захотел «скрыться от лица Божия» (Быт. 4:14), и он понял, как это можно сделать. Каин должен был уйти «за границу». Черта, за которую ушёл Каин, существовала поначалу только в его уме, однако Каин верно выбрал направление движения. Он не пошёл от Бога, имя которому «Восток», не пошёл на запад… Каин пошёл на Бога, на Восток (Быт. 4:16), против Бога.
Каин ушёл, а потомки Сифа жили, где родились. Сыны Божии могут жить без каинитян. Они живут на своей земле и в своём отечестве, и пока они «сыны Божии» – они Церковь, они не уязвимы. Некоторая черта стала разделять два рода: каинитян и сынов Божиих. Они жили раздельно, однако в шестом или в седьмом поколении (от Адама) уяснилось, что потомки Каина не могут жить, как хотел Каин, изолированным сообществом: тем или другим путём они должны внедряться в сообщество сынов Божиих. Каинитяне стали неудержимо стремиться назад, само их выживание зависело от того, удастся ли им проникнуть за черту оседлости, где жили сифиты. Каиниты должны были каким-то способом воздействовать на сифитов». Способов для этого несколько. Но главным был – женщины, которые стали проникать в сифскую цивилизацию.
В каинитской же цивилизации женщины стали мистическим и ритуальным служением. Первая из них, храмовая блудница, посвящённая в служение, была безмужняя Ноема. С неё родство стали передавать не по отцу, а по матери: «женщина-каинитянка – это мировоззрение. Пленение сынов Божиих было духовной катастрофой (переворотом, революцией). Не Потоп был мировой катастрофой, а то, что ему предшествовало между сынами Божиими и дочерьми Каина» (Е. А. Авдеенко). Это была поистине мировая революция. А «всякая революция есть повальный блуд».
Цивилизация каинитян была попыткой восполнить отсутствие Бога. Поэтому они предпринимали строительство Вавилонской башни, строительство которой, изменяя свои формы, продолжается до сего дня. Но это строительство предпринималось ценой отказа от имени и облика человеческого: «Сотворим себе имя» (Бытие, 11:4). Таким образом, эта цивилизация стала преодолевать человека, который оказался главным препятствием на пути этого строительства. Сам человек – вот цель этого строительства. «Самые страшные богоборческие движения в человечестве будут связаны с попыткой уйти от самой человеческой природы, создать нового человека» (Е. А. Авдеенко). Иными словами, основная дилемма человеческого бытия есть сам человек, его духовная природа, то, как она сохраняется или не сохраняется в мире.
Конечно, не только А. Ахматова чувствовала, постигала и выражала это вырождение человека в результате грандиозной социальной революционной катастрофы. А. Блок, уже написав поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы» и статью «Интеллигенция и революция», то есть уже, постигнув смысл и значение грозных событий, очевидцем которых ему довелось быть, вроде бы вдруг, в 1918 году с увлечением пишет статью «Катилина», «эпизод из кровавых событий Древнего Рима», напрямую соотнося его, со своим революционным временем. Называет – Люция Сергия Катилину «римским революционером». И отмечает, что «век отличался вообще, как принято говорить у филологов, повсеместным падением нравов и ростом самого ужасного разврата». Обратившись к древней истории, поэт, видимо, почувствовал, что всё, созданное им о своей революционной эпохе, будет неполным без этой ужасной физиологической стороны жизни. Ведь этот век породил «царицу цариц», блудницу Клеопатру и «промотавшегося беззаконника и убийцу» Катилину.
Вместе с тем со своей духовной и этической высоты А. Блок оговорился: «Я не хочу множить картин бесстыдства и уродства», выявляя основное, преобладающее содержание как древней, так и своей эпохи: «Страшная болезнь, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации: болезнь вырождения. За этим опошленным словом стоит довольно жуткое содержание». Вместе с тем он отмечал, что это не людьми делается, а с людьми происходит: «Но напрасно думать, что «сеяние ветра» есть только человеческое занятие, внушаемое одной лишь человеческой волей. Ветер поднимается не по воле отдельных людей; отдельные люди чуют и как бы только собирают его: одни дышат этим ветром, живут и действуют, надышавшись им; другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут и действуют, несомые ветром». Но великий поэт видел и выход из этой злой «стихии», о чём он писал, к примеру, А. Белому ещё 23 сентября 1907 года: «Если бы я был уверен, что мне суждено на свете поставить только «Балаганчик», я постарался бы просто уйти из литературы (может быть, и из жизни). Но я уверен, что я способен выйти из этого, правда, глубоко сидящего во мне направления».
Анна Ахматова тоже «дышала этим ветром» эпохи и тоже, как и многие её современники, была «несомая ветром» того времени. И этого никогда не скрывала: «Все мы бражники здесь, блудницы, / Как невесело вместе нам!». Это – «чёрный ветер», как в поэме А. Блока «Двенадцать», и как у неё в стихотворении 1921 года «Кое-как удалось разлучиться…»: «Чёрный ветер меня успокоит,/ Веселит золотой листопад». И позже, в стихах 1961 года: «В чёрном ветре злоба и воля».
И будет помнить об этом и позже, как в этих стихах бесстрашной искренности, написанных в Ташкенте в 1942 году:
Какая есть. Желаю вам другую,
Получше.
Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики…
…Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вторгалась
В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих – безутешная вдова.
Но в этом «беспамятстве смуты», когда всё было столь переменчивым, неопределённым и зыбким, что оставалось в поэтическом мире А. Ахматовой неизменным и непоколебимым? Если следовать логике библейского образа, это, конечно, – земля. Она же – город, который может стать и «блудницей», из которого нельзя выйти, чтобы не участвовать в блудодеяниях её. Неслучайно у А. Ахматовой много стихотворений, посвящённых городу, в его разных состояниях. Но это – и страна, Россия, которую невозможно покинуть.
«За то, что я верна осталась печальной родине моей…»
Есть у Анны Ахматовой стихотворение, написанное в 1922 году, удивительного гражданского и патриотического накала, «Не с теми я, кто бросил землю…». Стихотворение, созданное в трагический период истории России, когда обнажился весь ужас революционного крушения страны, всего предшествующего уклада жизни. Вместе с тем – в трудный и мучительный период её жизни и писательской судьбы, когда надо было твердо и решительно определяться: как теперь быть.
По своему гражданскому пафосу это редкое стихотворение в русской литературе. Редкое потому, что в нашей литературе как-то так повелось издавна, а в особенности с революционных демократов ХIХ века, что гражданственностью в литературе стали почитаться почти исключительно бунт и протест, а не любовь к Родине, родному краю, родному городу… Когда гражданственностью и патриотизмом стало считаться всякое, говоря словами А. Пушкина, «сатирическое воззвание к возмущению», а каждое «очень посредственное произведение, не говоря уже о варварском слоге», выдавалось повсеместно чуть ли за некое откровение. Когда ещё в самом начале смуты декадентствующие поэты в отчаянии и с какой-то поразительной безответственностью вещали: «Довольно, не жди, не надейся – /Рассейся мой бедный народ… Исчезни в пространство, исчезни Россия, Россия моя!» (А. Белый, «Отчаянье», 1908 г.). Это ведь тоже блуд, блуд интеллектуальный, так сказать, поэтический…
После Февральской революции для А. Ахматовой всё осложнялось ещё и тем, что её муж, поэт Николай Гумилёв оказался во Франции, в составе Русского Экспедиционного корпуса, который царское правительство направило в 1916 году воевать за Францию в обмен на поставки оружия. В переписке он предлагал ей с сыном приехать к нему в Париж. После трудной и мучительной внутренней борьбы она отказалась, так как не мыслила себя вне России. Остатки этого корпуса с неимоверными трудностями вернулись в революционную Россию в 1920 году, понятно, никем не замеченные, униженные и оскорблённые.
А к 1922 году почти все, кто считал возможным покинуть Россию, были уже в эмиграции. Отмечаем это вовсе не в осуждение их, ибо не дай бог никому оказаться в таком революционном хаосе и в «беспамятстве смуты». Мы говорим не о них, а поэте Анне Ахматовой, о том, как она считала возможным и необходимым поступать. Тем более что нам довелось пережить второе в одном веке крушение страны начала девяностых годов со всеми его миазмами и человеческими жертвами, кардинальным образом изменившего жизнь страны и каждого человека.
Как уже увидели, Анна Ахматова понимала не только историческое и социальное, но и духовное значение происшедшей в стране государственной катастрофы и народной трагедии, о чём она писала в стихотворении 1920 года «Петроград. 1919»:
И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озёра, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.
Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.
В стихотворении же 1922 года был уже некоторый вызов тем, кто не устоял в смуте, так как в нём уже намечались пути выхода из этой смуты. Именно выход, а не невозможный возврат к прежней жизни, какой был в подавляющем большинстве эмигрантов:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.
И уже не столь важно, кому именно она посвящала стихи, с кем именно связано их появление. С Николаем Гумилёвым ли, как в этих строках 1917 года:
Всё ветер западный приносит
Твои упрёки и твои мольбы.
…Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.
Или же с художником Борисом Анрепом, которого она, кажется, по-настоящему любила. Исследователи полагают, что это стихотворение связано именно с ним, хотя в нём нет посвящения. Даже гневное стихотворение, написанное в июле 1917 года в Слепнёве:
Ты – отступник: за остров зелёный
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Для чего ты, лихой ярославец,
Коль ещё не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?
Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.
Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.
Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.
После Февральской революции Борис Анреп, будучи убеждённым западником, покинул Россию навсегда. Уехал в Англию, потому что любил «покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред». Впрочем, как и Артур Лурье, муж «легендарной» Олечки Судейкиной, героини «Поэмы без героя», будучи комиссаром музотдела Наркомпросса, в 1922 году бежал за границу» (Александр Недошивин, «Шестое окно» Ахматовой, «Литературная газета», № 24, 2002).
А. Ахматова ведь писала не биографии близких ей людей, но постигала их духовное состояние. Так же как общества и народа в целом. Филологическая же наука не должна и не обязана считать конечной своей целью установление прототипов. На это есть другие сферы исследований. А потому действительно не столь важно, к кому она обращалась в стихах 1921 года:
Нам встречи нет. Мы в разных странах,
Туда ль зовёшь меня, наглец,
Где брат поник в кровавых ранах,
Принявши ангельский венец?
И ни молящие улыбки,
Ни клятвы дикие твои,
Ни призрак млеющий и зыбкий
Моей счастливейшей любви
Не обольстят…
Этот диалог её с «отступниками» не отпускал её потом всю жизнь. Как в этих стихах уже годы и годы спустя, стихах из «чёрных песен» 1961 года:
Слова, чтоб тебя оскорбить…
И. Анненский
I
Прав, что не взял меня с собой
И не назвал своей подругой,
Я стала песней и судьбой,
Ночной бессонницей и вьюгой.
Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.
II
Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне…
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,
Как плакальщица выл…
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог…
Я без него могла.
Это был диалог уже не с «тенями», а с самой собой, со своей совестью: «Одни глядятся в ласковые взоры,/ Другие пьют до солнечных лучей, / А я всю ночь веду переговоры/ С неукротимой совестью своей».
Вроде бы только любовные истории, каких у неё, как у человека страстного, было немало, побуждали её к таким стихам. Но за этим всегда стояло главное, не только её собственная судьба, но и судьба страны и народа. Как в стихах 1917 года:
Ты говоришь – моя страна грешна,
А я скажу – твоя страна безбожна.
Пускай на нас ещё лежит вина, –
Всё искупить и всё поправить можно.
Так и гораздо позже, в стихах 1958 года:
Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Что ж, прощай. Я живу не в пустыне.
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни,
В остальном я сама разберусь.
А. Ахматова, может быть, как мало кто из поэтов ХХ века подтвердила мысль А. Блока о том, что несовременного искусства не бывает. Г. Адамович писал, что «но связана она с той Россией, которая «была», а не есть. Новая Россия её не прочтёт и поймёт, во всяком случае, по-другому, чем читатели-сверстники. Им-то, современникам, всё кажется безвозвратно далёким, им не всегда легко понять и принять, что с революцией не всё оборвалось. Как сказал поэт, им порой чудится, что
Все, кто блистал в тринадцатом году,
Лишь призраки на петербургском льду».
Приводя эти строки Георгия Иванова, Г. Адамович вступал в полемику с Анной Ахматовой, по сути, отрицая всё то, что она переживала, чем так долго мучилась в «Поэме без героя». Всё это, видите ли, им только «чудилось». Отрицал то, что все потрясения в истории человеческой цивилизации происходили главным образом от вырождения человека, а не по каким-то социальным причинам, что эти причины были уже только следствием этого несчастья падения человека…
Озабоченный в большей мере проблемами эмиграции, чем судьбой народа и страны, Г. Адамович ошибся. Анну Ахматову читали и читают. Видимо потому, что она «умела говорить на языке тех культурных поколений, с которыми время сводило её на протяжении долгой жизни» (Лидия Гинсбург, «День поэзии», 1977). Она имела полное право сказать о себе: «Я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны» (1965 г.). Заметим – «ритмами», а не «проблемами» и не «задачами», ибо истинный поэт во все времена служит не внешнему, а внутреннему порядку мира…
Можно уверенно сказать, что на всех поворотах истории ХХ века, свидетельницей и участницей которых была Анна Ахматова, она оказывалась на такой высоте понимания происходящего в судьбах народа и страны, какой достигали совсем немногие её современники.
В своё время А. Ахматова обижалась на эмигрантскую критику: «Они хотят запихнуть меня в десятые годы. А у меня есть «Реквием», у меня есть «Поэма». Я никогда не переставала писать стихи» («Литературная газета», № 1, 1989). Почему эмигрантская критика в большинстве своём поступала так, понятно. Потому что в большей мере была занята не судьбой России и её народов в трагический период истории, а проблемами самой эмиграции.
Но удивительно, что и сегодня наша критика, даже филологическая наука занята, по сути, тем же. То есть настойчивым возвращением её в десятые годы, вычленяя из её наследия только этот период «беспамятства смуты», период «блудницы». Разве не для того, чтобы внести его в современную жизнь? Вольно или невольно – это уже не столь важно. Настойчивое её возвращение в тот период, от которого она сама открещивалась («Как будто перекрестилась,/ И под тёмные своды схожу»), который радикально пересматривала, выявляя его истинный смысл и значение, что и явилось её главной темой «Поэмы без героя».
Между тем как таким переосмыслением десятых годов, того образа жизни, в котором она тогда пребывала, А. Ахматова выражала духовное и нравственное состояние народа в его временном развитии. Как во многих стихах, так и прежде всего в «Поэме без героя».
Такой попыткой вернуть А. Ахматову в десятые годы, отсекая всё её последующее творчество, является, к примеру, публикация доктора филологических наук Адиле Эмировой «Вселенная ритмов» («Литературная газета», № 51-52, 2015). И никакая терминологическая оснастка типа «герменевтики», на связи читателя с текстом, «ассоциаций», «рецепции», «редукции», «рефлексии и медитации» не может заслонить указанной направленности публикации. Это видно уже по перечню «любимых стихов» филолога: «Тебе покорной? Ты сошёл с ума!..», «Мне ни к чему одические рати…», «Долгим взглядом твоим истомлённая…», «Это просто, это ясно…», «Разрыв», «Ржавеет золото и истлевает сталь…», «Что войны? Что чума? Конец им виден скорый». В основном как раз те стихотворения, в которых А. Ахматова выражала то неблагополучие своего времени, которое она потом преодолевала и которое, как оказалось, имело трагические последствия для народа и страны, да и для каждого человека: «Я пью за разорённый дом, за злую жизнь мою…», «Мне молиться и за тебя? Для чего же, бросив друга/ И кудрявого ребёнка…», С такой женщиной А. Ахматова и сама не хотела бы встретиться, о чём писала в «Поэме без героя», «С той, какою была когда-то/ …Снова встретиться не хочу». Но именно с «той» женщиной предлагается сегодня встретиться читателям, а не с той, умудрённой, какой она стала позже. На это можно сказать разве что словами В. Ходасевича: «Люблю Ахматову, а поклонников её не люблю».
В стихах 1911–1913 гг. А. Ахматова изображает, конечно же, блудницу, в чём она и сама признавалась. Но величие её в том и состояло, что она в отличие от многих и многих своих современников, которые ностальгировали по «тем» временам, когда всё было «можно», это вполне осознавала, этим мучилась, это преодолевала. А как же иначе, если «Поэму без героя» она писала более двадцати лет, а подходила к ней задолго до неё во многих стихотворениях…
Станислав Куняев описал примечательный случай о встрече, как видно, уже с потомками первой волны эмиграции: «Однажды в одном из австралийских университетов, в среде русских преподавателей и студентов я прочитал вслух знаменитое стихотворение Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам…», думая, что стихи взволнуют моих слушателей и введут разговор в сложное многогранное русло. Но вдруг одна из женщин яростно бросила мне в лицо обвинение Анне Ахматовой в том, что она чуть ли не большевичка и прислужница режима, предательница России. Ахматовой, которая писала о своей судьбе: «Муж в могиле, сын в тюрьме – помолитесь обо мне»! Она осудила Ахматову только потому, что Анна Андреевна в начале двадцатых годов сделала как русская женщина свой патриотический выбор:
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как осуждённый, как больной,
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
Я изумился и буквально потерял дар речи. Вот она, фанатичная обоюдоострая нетерпимость, её застарелое эхо! Мы были уверены в том, что все, кто эмигрировал – предатели России. Они – в том, что предатели все, кто остался… Было это уже в 1991 году. Вот какие страсти ещё недавно бушевали в эмигрантских русских душах» («Поэзия. Судьба. Россия». Книга 2, М., «Наш современник», 2005). Но, как видно по последующим событиям, страсти эти не отбушевали, и не могут отбушевать, коль в среде граждан России появилась новая, очередная волна «эмигрантов», именно тогда, когда России объявлена война на наше народное и государственное уничтожение… Эти страсти, как видим, возобновляются и воспроизводятся. Как и во веки веков, как и всегда, ибо дело вовсе не в прописке и не в принадлежности к «эмиграции», так как эмигрантом «можно» быть и в своей стране, желая ей поражения. Не «режиму», а именно стране, своей Родине. Всё дело в тех духовно-мировоззренческих ценностях, которые люди исповедуют, вне зависимости от того, где они, волею судьбы и истории оказались…
Поэт Владимир Корнилов писал же об этой исповеди А. Ахматовой: «Вот они, главные стихи, в которых Ахматова объясняет, почему она не покинула Родину… Мощь этих стихов, разумеется, учетверена историей. Но, возможно, они сегодня звучат так насущно именно потому, что в своё время были так современны» («Советская Россия», № 144, 1989). И потом, совершенно очевидно, что идеология первой волны эмиграции была выстроена не на трудах самых талантливых и одарённых её представителей. А наоборот, самых посредственных, маргинальных, но соответствовавших определённым идеологическим догматам. Конечно, энтузиасты издадут потом, к примеру, стихи Николая Туроверова, в которых прежде всего – сострадание к несчастным пилигримам: «Своих страданий пилигримы, скитальцы не своей вины». Но это произойдёт гораздо позже публикаций трудов и мемуаров всех персонажей эмиграции, как правило, тенденциозных.
Что теперь мы можем и что смеем?
Полюбив спокойную страну,
Незаметно медленно стареем
В европейском ласковом плену.
…И почему мне нет иного
Пути средь множества путей,
И нет на свете лучше слова,
Чем имя родины моей?
Или – в стихотворении Николая Келина «Родине»:
Страшась, тянусь я издалёка
И, ненавидя я люблю,
Но тенью резкого упрёка
Не брошу в Родину мою.
…Россия… Слова нет дороже
Для нас, оторванных от ней;
Тяжёл наш путь средь бездорожий,
Без сил, надежд и без огней.
Но ведь идеология эмиграции в своём абсолютном преобладании была совсем иной, даже прямо противоположной. Вплоть до неслыханной гордыни и эгоизма на фоне такого страшного революционного крушения страны: «Мы унесли с собой Россию». То есть настоящая Россия теперь там – на Западе, в зарубежье, а не здесь, где она испокон веку пребывала. Отсюда: «Привет из старой России…» (В. Лихоносов), то есть из эмиграции, откуда якобы единственно и должно прийти спасение. И это проповедовал писатель, отец которого погиб в Великую Отечественную войну, которого он, судя по его писаниям, не особенно и помнил…
В подтверждение этого приведу один литературно-исторический факт, поразительный по своему смыслу и значению. У Г. Адамовича есть статья «Вклад русской эмиграции в мировую культуру». Не в российскую, а прямо-таки – в мировую. В ней он обращается к издателю и в прошлом политическому деятелю В. В. Вырубову с изложением своих соображений «о неотложной необходимости составления и издания книги-памятника русской эмиграции», «Золотой книги русской эмиграции»: «Такая книга – наш общий долг» – писал он, должна стать «нашим оправданием». И убеждал издателя в том, почему такая книга является неотложной необходимостью: «Рано или поздно новые русские поколения спросят себя: что они делали там, на чужой земле, эти люди, покинувшие после революции родину и отказавшиеся вернуться домой…». Почему новые поколения должны спросить об этом себя, а не их – это чрезвычайно характерная оговорка или описка. Хотя Г. Адамович, как человек образованный и разумный, оговаривался: «Не будем, однако, поддаваться нелепому, хоть, увы, довольно распространённому эмигрантскому ослеплению, не будем утверждать, что там, в России, со времени революции ничего ценного создано не было и что, не будь нас, страну нашу можно было бы без урона для человечества списать со счетов цивилизации…». Но в том-то и дело, что такое «ослепление» в эмигрантской среде было определяющим.
Был создан специальный комитет для подготовки такой «Золотой книги русской эмиграции», разосланы обращения ко всем желающим принять участие в издании. Статья Г. Адамовича вышла брошюрой в Париже в 1961 году. Но книги русской эмиграции, оправдывающей её, так и не получилось. Такой логически, вроде бы, замечательный замысел осуществлён не был… И помешали этому не какие-то бытовые причины, но сущностные, то, что большинству людей оказавшихся в изгнании, проблемы эмиграции заслонили трагедию России и её истинный смысл. Г. Адамович писал, что если такой замысел не удастся, «то было бы это для эмиграции несчастием, значение которого по-настоящему окажется учтено и понято лишь в будущем». Не книги не получилось, а не получилось оправдания...
Пишу это опять-таки вовсе не в осуждение эмиграции. Весь вопрос состоит в точном определении её исторического значения, не приписывая ей не свойственного и невозможного. Ей можно было сострадать и сочувствовать, но не выставлять же в качестве эталона патриотизма, как это произошло в значительной мере в литературной среде. Все и не могли и не должны были поступить, так как Анна Ахматова – остаться в России. Это было невозможно, так как не каждому человеку была доступна такая сила духа.
Но и не замечать этой духовной высоты или умалять её было несправедливо, ибо это приводило неизбежно к продолжению трагедии. Разумеется, в иных формах. Когда началось очередное либерально-криминальное разрушение России (Советского Союза), провозглашаемое как её «возрождение», решили «подвести черту» в трагедии страны ХХ века, которая свелась к «воссоединению культурного наследия русских» («Русское зарубежье», М., «Роман-газета», 1993 г.). Внешне это было привлекательно и красиво, но оборачивалось своей противоположностью, так как свелось, по сути, к возвращению и насаждению эмигрантской идеологии, как якобы спасительной, когда уже сама принадлежность к «зарубежью» становилась как бы знаком качества, вне зависимости от текстов. Словом, вышла всё та же, но уже в более коварной форме, губительная идеология западничества, в литературе обстоятельно изученная. Разумеется, под патриотическими декларациями. Такое «воссоединение» невозможно, так как мир изначально устроен иначе. Каин и Авель никогда не могут оказаться в братских объятиях. Так уж устроен мир. Кто же пытается «соединить» их в братстве, так или иначе, вольно или невольно, но неизбежно становятся на путь оправдания Каина…
И такой конформизм, то есть отсутствие собственной позиции, беспринципное следование любому образцу, обладающему большей силой, обернулся тем, о чём с вполне естественной полемичностью писал один из талантливых поэтов второй половины миновавшего ХХ века Юрий Беличенко:
На Лубянке не стреляют,
на Литейной – тишина.
Эмиграция гуляет
как неверная жена.
Всё забылось, всё простилось,
всё отмылось добела,
и в заслугу превратилось,
что со многими спала…
К сожалению, не только в среде либеральствующих литераторов, но и в среде, вроде бы, патриотически настроенных, а значит и в общественном сознании так и не произошло осмысления драмы России в ХХ веке. Вплоть до нового крушения страны начала девяностых годов. Был навязан догмат о том, что это «большевики» разрушили страну, и ввергли её в хаос и беззаконие. Этот догмат охранялся особенно ревностно, да и сейчас охраняется. А потому поэт, мой ровесник, доживший до седин, с искренней наивностью, пишет о стихотворении А. Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю…»: «Вот скажите, о каких «врагах» говорится хотя бы в этом ахматовском стихотворении» (Евгений Артюхов, «Мой поэтический календарь». Книга 2, издательство «Культура», 2022). Но в стихотворении А. Ахматовой говорится о тех врагах (без кавычек), кто сверг монархию и устроил «глухой чад пожара» в феврале 1917 года. В феврале, а не в октябре. Казалось, что за целый век после событий, можно было уже разобраться в их истинном смысле и значении…
Насколько этот догмат охранялся, свидетельствует то, что когда уже в конце девяностых годов выдающийся историк И. Я. Фроянов посмел честно и обстоятельно изложить то, что происходило в феврале, а что в октябре в книге «Октябрь семнадцатого» – либеральной жандармерией ему была устроена неслыханная обструкция с самыми жесткими оргвыводами…
Ведь когда А. Ахматова писала о том, что «полынью пахнет хлеб чужой», она имела в виду хлеб не в буквальном смысле слова, но «хлеб жизни» хлеб веры: «Я есмь хлеб жизни… Хлеб же, сходящий с небес таков, что ядущий его не умрет» (Евангелие от Иоанна, 6:48, 50).
Более поздние толкователи Анны Ахматовой и особенно во время новой смуты начала девяностых годов настойчиво пытались свести всё её наследие к политическому протесту, коль она являлась автором трагической поэмы «Реквием». Она имела полное право, как биографическое, так и социально-историческое, сказать: «Я была тогда с моим народом,/ Там, где мой народ, к несчастью, был». Но писала она, прежде всего, об извечной участи поэта. Тем более у нас в России. И уж тем более в такое трагическое время:
Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.
«Уже судимая не по земным законам…»
Первые наброски «Поэмы без героя» Анны Ахматовой относятся к осени 1940 года, о чём она писала в «Вместо предисловия» к ней: «Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав как вестника ещё осенью один небольшой отрывок. Я не звала её. Я даже не ждала её в тот холодный и тёмный день моей последней ленинградской зимы».
Сюжет поэмы таков. В новогодний вечер в Фонтанный Дом автора вместо того, кого ждали, приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых, в масках и шутовских нарядах. Приходит «адская арлекинада тринадцатого года». Те её покойные современники, с кем она общалась, литераторствовала, буйствовала и, по обыкновению того времени блудила, о чём сама признавалась в стихах. В поэтическом кабаре «Бродячая собака», на «Башне» Вяч. Иванова и везде. Вроде бы возвращалось то, «с чем давно простилась» она. Нет, теперь они приходят не на тот же сатанинский бал, но на суд автора. И судит она их сурово. Впрочем, как и саму себя.
«Из года сорокового» она смотрит на былое, «как будто перекрестилась». Это ведь уже «Крещенский вечер». Наступает такая ночь, когда «надо платить по счёту» за всё, что было тогда. Потому что «всё равно приходит расплата». Но теперь уже – «Господняя сила с нами». И главное – причину всех происшедших с тех пор трагедий в России и в мире, в том числе и начинающуюся Великую войну, она видит в 1910-х годах. Это, вроде бы, неожиданное для неё самой открывшееся обстоятельство и побудило её к «Поэме без героя». Ведь нравственное разложение образованного слоя общества, тех, кто должен и обязан духовно окормлять людей, приводит к разложению народа, при котором катастрофа страны становится неизбежной.
Она их уже не ждала, не хотела их видеть, полагая, что они, «одержимые бесом» сгинули уже навсегда:
Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки!
Но меня не забыли вы…
Да ей и самой уже не хотелось быть прежней, такой, какой она была вместе с ними в тринадцатом году:
С той, какою была когда-то
В ожерелье чёрных агатов
До долины Иосафата
Снова встретиться не хочу.
То есть не хотела оставаться грешницей до Судного дня, до долины Иосафата, до предполагаемого места Страшного Суда… Она их не ждала, жестоко, уничтожающе осуждая их. Но они, эти тени, снова являются к ней из небытия, с того света:
Значит, хрупки могильные плиты,
Значит мягче воска гранит.
Они явились потому, что такие тени, такая тёмная сила по самой природе человеческого бытия не уничтожается раз и навсегда. Она обладает свойством возвращаться помимо воли людей. А потому каждый человек, приходящий в этот мир, каждое поколение людей с ней неизбежно сталкивается. Преодолевая её в брани духовной, или же падая под её бременем, сдаётся ей.
И чья очередь испугаться,
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замаливать давний грех?
Пришли те, кого не ждали. А кого ждали? Ждали героя. Но он не появился, так как не мог проникнуть в тот зал, где правится сатанинский бал: «Человек что не появился/ И проникнуть в тот зал не мог». Герой, «гость из будущего» лишь предполагается в «грядущем веке»:
И тогда из грядущего века
Незнакомого человека
Пусть посмотрят дерзко глаза,
Чтобы он отлетающей тени
Дал охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.
Потому поэма и без героя? То идеальное представление о герое, как в стихотворении А. Пушкина «Герой», ушло из жизни: «Оставь герою сердце. Что же он будет без него? – Тиран». А в надвигающейся, а потом и разразившейся смуте он и вовсе потерялся, что чувствовали наиболее проницательные люди, поэты: «Герой уж не разит свободно. Его рука в руке народной» (А. Блок, «Возмездие»); «Для нас условен стал герой, Мы любим тех, кто в чёрных масках» (С. Есенин). Хотя необходимость героя в обществе всегда чувствовалась, как, к примеру, в стихотворении Я. Полонского «Неизвестность» (1865 г.): «Кто этот гений, что заставит/ Очнуться нас от тяжких снов…/ Придёт ли он как утешитель/ Иль как могучий, грозный мститель». Ну и в классическом, поразительном по своему пророчеству стихотворении шестнадцатилетнего М. Лермонтова «Предсказание» («Настанет год, России чёрный год,/ Когда царей корона упадёт») 1830 года. О том, что неизбежно бывает, «когда царей корона упадёт»: «смерть и кровь», беззаконие («Когда детей, когда невинных жён/ Низвергнутый не защитит закон»). Тогда и появляется неизбежно герой. И вовсе не таким, каким он представлялся: «В тот день явится мощный человек,/ И ты его узнаешь и поймёшь/ Зачем в его руке булатный нож: /И горе для тебя! – Твой плач, твой стон/ Ему тогда покажется смешон». Такова общая закономерность выхода из смуты, расплата за неё, возмездие… На это можно негодовать, такого героя можно проклинать, да только ничего изменить невозможно… Здесь же, в «Поэме без героя», то ли героя действительно нет, то ли он остаётся неразличимым… Напоминаю же об этом потому, что в основе «Поэмы» лежит именно эта закономерность.
Кстати сказать, не только Анна Ахматова почувствовала необходимость переоценки предреволюционной эпохи, своей молодости, когда, как оказалось, сеялся ветер разрушения. Георгий Иванов ещё в 1922 году писал:
Январский день. На берегу Невы
Несётся ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Соломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году –
Лишь призраки на петербургском льду.
Вновь соловьи засвищут в тополях,
И на закате, в Павловске иль Царском,
Пройдёт другая дама в соболях,
Другой влюблённый в ментике гусарском…
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени.
Здесь уже появляются персонажи «Поэмы без героя» – Олечка Судейкина, «блиставшая» в тринадцатом году и Всеволод Князев – гусар и поэт, покончивший жизнь самоубийством, то ли из ревности к этой Олечке, то ли по другим причинам, потому что эпидемия самоубийств становилась страшным обыкновением.
Но суд А. Ахматовой над эпохой, своими современниками и над собой очень даже отличается от того революционного суда, который тогда вершился. Суд этот менее всего можно рассматривать с точки зрения торжества «социальной справедливости». Ведь у поэта иной суд, ибо дело его «совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира», о чём писал А. Блок в завещательной статье «О назначении поэта»: «Дело его – внутреннее – культура, – это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога». А потому «Поэма без героя» – о том, что духовное разложение образованной части общества, как ныне говорят «элиты», или тех, кто незаслуженно находится в этом статусе, неизбежно приводит к разложению народа и катастрофе крушения страны.
«Поэма без героя» в своей сюжетной основе не столь уж сложна. Другое дело, что не столь проста для постижения её духовно-мировоззренческая основа. Между тем, она очень важна как для понимания людей начала ХХ века, так злободневна и сегодня. Об этом писала в предисловии к поэме сама А. Ахматова: «Кто-то советует сделать мне поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит».
Сам биографический характер «Поэмы без Героя» то, что она «создавалась на твёрдой фактической основе, она почти документальна» (Н. Банников), побуждает рассматривать её с точки зрения прототипов, как конечной цели её исследования и постижения: кого и как изобразила А. Ахматова, кто есть кто в поэме. Но такой подход, создавая все внешние признаки, вроде бы, научности, не касается главного – её духовно-мировоззренческой основы. Является, по сути, позитивистским. Такое пристрастие к прототипам перекрывает путь постижения духовного смысла творения. Неслучайно он был столь распространён в литературоведении в советский период истории. К тому же персонажи поэмы, реальные люди легко узнаваемы, чего автор и не скрывала. Но не они нас интересуют в первую очередь, а то, почему А. Ахматова подвергла столь радикальному пересмотру и переоценке период своей молодости. В этом кроется основной смысл поэмы, а вовсе не в том, насколько её персонажи соответствуют прототипам. А потому всякая «расшифровка» персонажей поэмы является имитацией литературного подхода к ней, не задевая её сути.
«Первое посвящение» – Памяти Вс. К. и «Второе посвящение» – О. А. Г.-С. – о реальных, конкретных людях – Всеволоде Князеве, поэте, «драгунском корнете», «драгунском Пьеро», покончившем жизнь самоубийством. И Ольге Глебовой-Судейкиной, «блиставшей» в тринадцатом году, «Путанице-Психее», которая была «похожая на куклу, с прелестной и какой-то кукольно-механической грацией танцует «полечку» – свой коронный номер» (Г. Иванов). Она эмигрировала в 1924 году и умерла в Париже. А перед отъездом оставила А. Ахматовой свой архив, стихи и письма к ней Всеволода Князева, что как видно по посвящениям, и побудило её к написанию поэмы. Судьбы этих людей, видимо, предстали пред ней, характерными для той эпохи. Как говаривали когда-то типическими в типичных обстоятельствах.
Такой же прелестной и беспечной она предстаёт и в «Поэме без героя». Но уже с беспощадной её характеристикой, теперь «козью пляшет чечётку»:
Всех наряднее и всех выше,
Хоть не видит она и не слышит.
…Как копытца, топочут сапожки,
Как бубенчик, звенят серёжки,
В бледных локонах злые рожки,
Окаянной пляской пьяна…
Но вместе с тем автор признавала, что «Ты – один из моих двойников», «Не тебя, а себя казню». И главное даёт ей, и такому типу женщин вообще беспощадное, но точное определение:
Ты в Россию пришла ниоткуда,
О моё белокурое чудо,
Коломбина десятых годов.
«Ниоткуда», то есть никак не связана с той российской жизнью, в которой она «блистала». Что и стало причиной её трагедии. Так же, как в стихотворении А. Блока «Снежная Дева» 1907 года, с точной биографией этой «ночной дочери»:
Она пришла из дикой дали –
Ночная дочь иных времён.
Её родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.
…Всё снится ей ночной Египет
Сквозь тусклый северный туман.
По сути так же, как и в «Египетских ночах» А. Пушкина, где указание на «царицу царей», на Египет было определением блудницы.
Полным воплощением «петербургской чертовни», сатанизма, «содомского смертоносного сока» предстаёт в «Поэме без героя» поэт Михаил Кузьмин.
Хвост, запрятав под фалды фрака…
Как он хром и изящен…
Однако,
Я надеюсь, Владыку Мрака
Вы не смели сюда привести?
Маска это, череп, лицо ли –
Выражение злобной боли,
Что лишь Гойя мог передать.
Общий баловень и насмешник,
Перед ним самый смрадный грешник
Воплощенная благодать…
Даже при такой убийственной характеристике поэта А. Ахматова соблюдает понятную деликатность. Поэту Евгению Рейну она говорила: «Я ведь очень хорошо помню, какое замечательное предисловие Кузьмин написал к моей первой книге. И всё-таки… Знаете ли, он иногда любил делать зло только из одного любопытства посмотреть, что из этого получится. Много за ним греха» («Литературная газета», № 9, 2016).
Даже свидетельствовала, что он, «вероятно, родился в рубашке», что он, один из тех, кому всё можно. «Я сейчас не буду перечислять, что было можно ему, но, если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом».
И в «Поэме без героя», и в прямых высказываниях А. Ахматова расценивала гомосексуализм, содомство поэта, впрочем, как и предельную распущенность его, однозначно отрицательно. Ведь он был из той незваной арлекинады, о которой она сказала в поэме: «И не им со мной по пути». Тем удивительнее годы и годы спустя, уже в наше время, когда очередная «арлекинада» девяностых годов, кажется, идёт на убыль, увидеть в М. Кузьмине «феномен этого ни на кого не похожего человека», «нашёптывающего под аккомпанемент рояля или гитары свои «стишки», не стыдящегося своих гомосексуальных романов, без труда проговаривающего невозможные откровенности, зовущие жить легко и празднично» (Александр Панфилов, кандидат филологических наук, «С мечтою о голубом цветке», «Литературная газета», № 41, 2022). Хотя филологу пристало говорить, прежде всего, о поэзии М. Кузьмина, скажем, о том, что «с птичьего полёта он ни на что не взглянул» (Г. Адамович), а не впадать в оправдание гомосексуализма, для поэзии якобы благотворного. Примечательна аргументация филолога для этого. Он ссылается на Г. Чулкова, известного всему Петербургу ловеласа. Дескать, совмещение в поэме несовместимого «не было механической смесью, а органическим единством… всё это было в Кузьмине чем-то внутренне оправданным и гармоничным». Но Г. Чулков сам принадлежал к той «арлекинаде». Это А. Ахматова помнила крепко из своей литературной молодости, если многие годы спустя по просьбе П. Лукницкого назвала его в своём «донжуанском списке», в числе мужчин, с которыми она была близка. Помнила потом всю жизнь Г. Чулкова и Л.Д. Менделеева, жена А. Блока, так сказать «друга» поэта… Но коль находится оправдание такого, это дела уже не далёкого «тринадцатого года», а нашего девяносто первого, с такой же арлекинадой. Это и называется множить безобразия и уродства… Между тем, как брошенное А. Ахматовой, вроде мимоходом о Кузьмине, что он «вероятно, родился в рубашке», является вовсе не оправданием, наоборот, точной характеристикой его, которая имеет глубокие корни в русском самосознании. Тем самым она называет известное поверье, отразившееся в летописях и в «Слове о полку Игореве» о Полоцком князе Всеславе, олицетворявшем не христианское, а «языческое» понимание мира. В тексте древнерусской поэмы прямо говорится о том, что он уклонялся от Суда Божия, о чём вещий Боян пел ему припевку: «Ни хытру, ни горазду… Суда Божия не минути». Всеслав родился от волхования и в рубашке, о чём в «Повести временных лет» под 1044 годом есть поразительное поверье». «В то же время умер Брячислав Изяславович, внук Владимира, отец Всеслава, и сел на столе сын его Всеслав, которого мать родила от волхования. Когда мать родила его, у него на голове была кожица. Волхвы же сказали матери его: «Эту кожицу навяжи на него, пусть носит её до конца дней своих». И носит её на себе Всеслав и до сего дня; потому и не милостив на кровопролитие».
Так что выраженье «родиться в рубашке» означает вовсе не неуязвимость, как порой полагают, а имеет совсем другой смысл. И, конечно же, не случайно А. Ахматова употребляла это выражение, говоря о М. Кузьмине.
Таков был «дух эпохи» в образованной части общества, о чём писал В. Ходасевич: «Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обострённости, в лихорадке …были сложнейше запутаны в общую сеть любовей и ненавистей, личных и литературных… Можно было прославить и Бога и Дьявола» («Некрополь», Париж, 1939). «Что это была за жизнь? – задавался вопросом Г. Адамович. – Были ли это годы высокого напряжения человеческого духа? Оставят ли они какой-то след в искусстве? Не думаю. Но была в эти годы особая сладость жизни, какое-то смутное предчувствие близких бед и крушений. Оттого все торопились жить, все были ветрены и романтичны». Поэты видели своё призвание в том, чтобы, «Проплясать пред Ковчегом Завета или сгинуть!..», как в поэме А. Ахматовой. Или как у Ф. Сологуба: «И верен я, Отец мой дьявол»: «Тёмная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами… И добро, и зло, и Бог, и дьявол – только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе». Для литературной среды это было особенно характерно. В дневнике 17 октября 1911 года А. Блок отмечал: «Происходит окончательное разложение литерат. среды. Уже смердит».
Людям последующих времён трудно понять, как складывался такой «дух эпохи». Признавалась же Э. Герштейн, что «не понимает тогдашних любовных отношений», что эпоха А. Пушкина была в этом отношении намного понятней. Этот «дух эпохи» можно было осознать, что видно по стихам А. Ахматовой того времени, но из него невозможно было выйти. А тот предупреждающий гул был еле слышен:
И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Непонятный таился гул…
Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души,
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи,
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек…
Главным содержанием «духа эпохи» стала утрата веры и как следствие этого – утрата высшего смысла существования. Наступает прямо-таки эпидемия самоубийств, что отмечал А. Блок в дневнике 1911 года: «Последние дни – учащение самоубийств, – молодёжь, гимназисты». И размышляет об этом страшном поветрии в дневнике 1912 года, в связи с тем, что стали собирать мнения писателей о самоубийствах: «Собирают мнения писателей о самоубийцах. Эти мнения будут читать люди, которые нисколько не собираются кончать жизнь. … В самом деле, почему живые интересуются кончающими с жизнью? Большей частью по причинам низменным (любопытство, стремление потешить свою праздность, удовольствие от того, что у других ещё хуже, чем у тебя, и т. п.). В большинстве случаев люди живут настоящим, т.е. ничем не живут, а так – существуют. Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее, знают, что десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми этими причинами стоит одна, большинству живых не видная, непонятная и неинтересная. Если я скажу, что думаю, т.е. что причину эту можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шее; а «деловые люди» только лишний раз посмеются; но всё-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки».
Реальный персонаж «Поэмы без героя» Всеволод Князев заканчивает жизнь самоубийством по причине ревности, неразделённой любви, на пороге возлюбленной: «Он на твой порог! Поперёк». И здесь Анна Ахматова отступает от биографической точности. Переживший роман с М. Кузьминым, Вс. Князев, покончил жизнь самоубийством в Риге и по неизвестным причинам… Драгунский корнет погибает, «Не в проклятых Мазурских болотах,/ Не на синих Карпатских высотах», где он, как человек военный мог скорее погибнуть, а «с бессмысленной смертью в груди». Получился частный несчастный случай, а не общее неблагополучие утраты смысла жизни. Кто знает, почему она приглушила в поэме духовную и социальную остроту этой трагедии. Может быть, она, столь беспощадно судившая себя, «Уже судимая не по земным законам», помнила всё-таки подобные трагедии и в своей жизни…
Сюжет «Поэмы без героя» собственно заканчивается в «Части первой». В «Части второй», помеченной как «интермеццо», представляется уже другой, вроде бы, самостоятельный сюжет. Неслучайно она называется «Решка», то есть оборотная сторона того, что было в первой части. Во второй части автором постигается и изображается, как живёт далее то, что изображено в первой части, так как оно не является лишь прошлым и «историей»… Да уже и в первой части, когда к автору явилась нежданная арлекинада, рядом, «Через площадку», не в прошлом, а в настоящем происходило то же самое. Об этом говорится во вставке «Интермедия»:
Санчо Пансо и Дон Кихоты,
И, увы, содомские Лоты
Смертоносный пробуют сок.
Афродиты возникли из пены,
Шевельнулись в стекле Елены,
И безумья близится срок.
И опять из фонтанного грота,
Через призрачные ворота
И мохнатый и рыжий кто-то
Козлоногую приволок.
«И опять…», как и в тринадцатом году… Во второй части поэмы А. Ахматова уже со всей определённостью говорит о том, что эта тёмная сторона жизни, как и зло в этом мире неустранимы. Потому и невозможно «отбиться от рухляди пёстрой». Злу следует ставить преграды каждому человеку в каждую эпоху. И как видно из второй части, «Поэма без героя» является её попыткой преодоления зла, «разделаться с бесноватой», чего никак не может понять «редактор», человек новой позитивистской эпохи:
«…Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой, –
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?»
Автор убеждает «редактора» и читателей в том, что «призраков рой» существует всегда. И не их наличием определяется жизнь, «дух эпохи», а тем, какую духовную силу мы им можем противопоставить:
И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалёка заслышав вой.
Всё надеялась я, что мимо
Пронесётся, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвой.
Не отбиться от рухляди пёстрой.
Это старый чудит Калиостро –
Сам изящнейший сатана…
Автор даже говорит, что она тут «не причём», потому что «столетняя чаровница/ Вдруг очнулась и веселиться/ Захотела./ Я не при чём». Она была «при чём» в тринадцатом году, в чём сама признавалась, беспощадно казня себя, пытаясь «разделаться с бесноватой» и преодолеть «безумья срок».
…Я пила её в капле каждой
И, бесовскою чёрной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой…
«Поэма без героя» Анны Ахматовой и стала её творческим подвигом преодоления духовного разложения образованной части общества, за которым неизбежно приходит крушение страны…
Да, она любила те ночные «сборища», о чём и писала в стихах 1917 года:
Да, я любила их, те сборища ночные, –
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над чёрным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжёлый, зимний жар.
Весёлость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.
Но уже тогда, как и в этих стихах 1913 года, понимала потаённый, для многих неведомый, губительный смысл происходящего, то, что это – пляски пред Ковчегом Завета:
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
…О, как сердце моё тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
Но нельзя не заметить, что для неё, по её же словам, «и грешной, и праздной», эта любовь уже тогда была какой-то невесёлой, безрадостной и уж тем более не была счастливой. Это и «проклятый хмель», и «бешеная кровь», и «постылый огонь», и недуг горестный, в котором «томится плоть». А то и вовсе предстаёт злом: «И как преступница томилась/ Любовь, исполненная зла». Хотя, что делать: «Слишком сладко земное питьё/ Слишком плотны любовные сети».
И в этом «беспамятстве смуты» она, как могла, берегла своё сердце и душу:
Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьёт,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжёт.
…Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце моё берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.
У А. Ахматовой, по сути, нет контраста между творчеством тех, десятых годов с последующим творчеством, вплоть до «Поэмы без героя». Нет, логически, вроде бы, ожидаемого разочарования в этой эпохе, отречения от неё. Но есть её беспощадная и бесстрашная оценка – расплата, возмездие за неё.
Анна Ахматова не отделяла себя от тех, с кем довелось ей жить в «беспамятстве смуты», всех, в том числе и себя, называя «бражниками» и «блудницами». Как большой поэт, воспринимающая жизнь во всей её целостности и полноте, понимая, что, то время ни забыть, ни тем более вычеркнуть из своей судьбы невозможно. Его можно только осмыслить, понять и тем самым преодолеть его «бесстыдства и уродства». Причём, постичь и понять, прежде всего, его духовную основу.
Женщину своего времени и своего круга общения, с «холодком настоящей свободы» А. Ахматова постигла и представила в своём творчестве убедительно и даже блестяще. А потому здесь следует говорить не столько о том, что и она принадлежала к этому кругу женщин, ибо тут всё понятно, о чём она и сама писала. Главное состоит в том, что это за тип женщины и чем обусловлено его появление. А потому мы и обратились к изначальному образу блудницы, к её духовной «биографии», к её феномену, когда любовь может быть злом:
Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась,
И как преступница томилась
Любовь, исполненная зла
(«О жизнь без завтрашнего дня»).
Если бы А. Ахматова сказала только: «Я научила женщин говорить…», то это было бы в духе феминистских поветрий, уже тогда дававших о себе знать, не менее, чем позже. Но она тут же пишет: «Но, Боже, как их замолчать заставить!» И так во всём – многозначность и многомерность, то есть вся полнота жизни…
Она не только не отделяла себя от тех, кто «блистал» в тринадцатом году, от той эпохи, которая и стала причиной последующих трагедий, но и себя считала виноватой во всём происходящем. И в поэме: «Ну а как же могло случиться,/ Что во всём виновата я?», «Разве я других виноватей?». И в стихотворении 1960 года «Подражание Кафке»:
Другие уводят любимых, –
Я с завистью вслед не гляжу
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.
…Неужто я всех виноватей
На этой планете была?
И в этом – этическая и нравственная высота поэта. Неужто полвека, то есть по сути, всю творческую жизнь? Да, она имела полное право сказать так. Ведь главным, основным, что не позволяло ей «вписаться» в преобладающее в обществе мировоззрение, было её традиционное христианское, православное миропонимание, которое никак не могло сочетаться с официальными догматами и «революционными ценностями». И пусть «времён суровость» смягчилась (Я. Смеляков), всё равно это оставалось основным противоречием общества. Да что там, четверть века спустя после кончины А. Ахматовой российские поэты издавая традиционный, ежегодный альманах «День поэзии» в 1968 году, в год 1000-летия Крещения Руси, так и не смогли, не посмели произнести название, имя столь значимого в истории русского народа и страны событие – Крещение Руси. И назвали дату «1000-летием отечественной культуры». Что уж говорить об эпохе А. Ахматовой. Можно лишь подивиться её стоицизму и последовательности в отстаивании христианского понимания мира.
Так полагает, так думает и так поступает истинный поэт. На обыденном и обывательском же уровне все представляется совсем не так, иначе. В подтверждение этого приведу поразительный документ времени, говорящий столь о многом. Это письмо Надежды Яковлевны Мандельштам, подруги А. Ахматовой, жены Осипа Мандельштама к драматургу А.К. Гладкову. Дело в том, что в самом начале 1967 года, уже после кончины Анны Андреевны, Надежду Яковлевну посетил Евгений Эмильевич Мандельштам, брат поэта, и показал ей воспоминания Лютика. То есть воспоминания Ольги Ваксель, любовницы О. Мандельштама, из-за которой Надежда Яковлевна чуть, было, не развелась с мужем. Воспоминания, содержащие подробности эротического характера, тех «бесстыдств и уродств», в атмосфере которых они тогда жили.
Как поступает Надежда Яковлевна? Так, как и должно на обыденном уровне. Она предпринимает неимоверные усилия для того, чтобы нейтрализовать эти воспоминания, уничтожить их любыми средствами, не допустить их к огласке и публичности, так как она была оскорблена и унижена этими воспоминаниями. Теперь ей представилось, что в них изображена постыдная страница её жизни. И пишет письмо А. К. Глазкову:
«Дорогой Александр Константинович! У меня к вам трудное и сложное дело. Оно настолько интимно, что должно остаться между нами. Почему-то у меня появилась надежда, что вы сможете мне помочь… Дело в том, что героиня нескольких стихотворений О.М. («Жизнь упала как зарница», «Я буду скитаться по табору улицы», «Возможна ли женщине мёртвой хвала») вышла замуж за какого-то норвежца (29–30-31 год), умерла в Осло (самоубийца, выстрелила себе в рот), а перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары. Муж отвёз их сыну, живущему в Ленинграде (сплошная патология и она, и муж, и мемуары!). У того культ матери, который выражается в том, что он всем раздаёт её мемуары и фотографии (они были у Анны Андреевны и у многих других). Хочет меня видеть. Хорошо бы обойтись без меня… Но выяснилось, что мне нужно увидеть эти мемуары, надиктованные мужу. Ужас публичной жизни заключается в том, что все выходит наружу, да ещё в диком виде. Я ничего не имею против варианта, что О.М. мне изменил. Мы хотели развестись. Но потом остались вместе. Дело же обстоит серьёзнее.
Женщина эта, видимо, была душевно больной. Ося расстался с ней безобразно. После встречи в гостинице (это и его, и её версия) он вернулся домой и застал меня со сложенным чемоданом, через минуту за мной пришёл Татлин. (Всё это только вам: не говорите даже Эмме). (Про Татлина – он всегда один, и я знаю не один случай, когда женщина, меняя мужа, или выбирая себе второго, временно сходилась с Татлиным). Произошла лёгкая сцена, Татлин пожаловался, что ему уже сорок лет и у него нет жены, а Ося увёз меня в Детское Село, где мы ссорились, и я рвалась уйти; потом приехала Анна Андреевна и как-то всё забылось. Вот грубое содержание этой драмы.
Это был 1925-й год. Я тогда посоветовала Татлину поискать жену на Украине – там их много. А его как раз приглашали туда. Он послушался и поехал, расставшись со мной. Итак, я сыграла роль в его жизни не только постельную… После О. М. среди толпы других она жила с Евг. Эмильевичем. Он возил её на Кавказ (именно после этого она к нам пришла в Детское). Евгений Эмильевич недавно явился ко мне и рассказал про дневник, а я слегка испугалась. Кажется, она мстит в нём Оське за это дикое прощание.
Несколько слов об этой женщине. Её звали Ольга Ваксель. Дочка Львовой – бывшей фрейлины. Хороша была как ангел. Ничего подобного в жизни я не видела… Теперь чего я боюсь. Всё началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробней говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в её дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать)… Единственная её способность : она ходила по Ленинграду и давала всем и все. Лютик, как её звали.
Вот моя просьба: я хотела знать подробно, что в этом дневнике (вместе с эротикой). Противно это безумно, но надо это сделать… Почему я обращаюсь к вам. Проклятая, как я называю это, публичность может вытащить эти мемуары наружу… Дико ворошить всё это на старости лет. Но что делать? Помогите, если можете… Чертова молодость: сколько осложнений она оставляет в жизни».
В последующих письмах к А. К. Гладкову Надежда Яковлевна уточняет свою просьбу: «Чего бы я хотела – это избежать реалий и выключить себя из этой игры. Проклятое легкомыслие и распутство юности – и ещё остатки десятых и двадцатых годов… Не думаю, чтобы она любила О. М.: к этому времени она была уже половой психопаткой и жила с целой толпой…». А. К. Гладков удивился такой просьбе, назвав в дневнике её письмо «страннейшим» (Надежда Мандельштам. «Об Ахматовой», издание второе, исправленное. М., «Три квадрата», 2008).
Так поступает обыватель, «исправляя» свою биографию, наивно полагая, что это возможно. Совсем иначе понимала свою судьбу, своё предназначение, своё поручение, данное ему свыше, истинный поэт. Тем более большой поэт, каковым была Анна Ахматова.
Примечательно, что после «Поэмы без героя», те, кто жил в то время и пребывал в распутстве, не замечая ненормальности и порочности его, вдруг прозрели. Обнаружили, что поэма трагична потому, что ценности заколебались ещё в ту эпоху, на которую А. Ахматова смотрела «из года сорокового», что «крестный путь», выпавший на долю людей этого поколения и стал расплатой за потерю ценностей. Заметили даже, как в человеческие души возвращаются ценности.
Хотя «Поэма без героя» и начата Анной Ахматовой в 1940 году, к ней она подходила задолго до этого, судя по её более ранним стихотворениям. Так О. А. Глебовой-Судейкиной она посвящает стихотворение 1913 года «Голос памяти» («Что ты видишь, тускло на стену смотря…»). Ей же посвящает стихотворение 1921 года «Пророчишь горькая, и руки уронила…». Уже тогда вполне определённо постигая образ такой женщины. Но не отделяла ещё от неё себя, как в стихотворении 1913 года «Все мы бражники здесь, блудницы…».
Как лунные глаза светлы и напряжённо
Далёко видящий остановился взор.
То мёртвому ли сладостный укор,
Или живым прощаешь благосклонно
Твоё изнеможенье и позор?
В цикле «Три стихотворения» 1917 года, терзаясь своей причастностью к «адской арлекинаде»:
Не оттого ль, уйдя от лёгкости проклятой,
Смотрю взволнованно на тёмные палаты?
Уже привыкшая к высоким, чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам,
Я, как преступница, ещё влекусь туда,
На место казни долгой и стыда.
И вижу дивный град, и слышу голос милый,
Как будто нет ещё таинственной могилы,
Где у креста, склонясь, в жары и холода,
Должна я ожидать последнего суда.
И что примечательно и удивительно, А. Ахматова не только продолжает работать над поэмой тогда, когда она, казалось, уже завершена, но параллельно пишет стихи о той же эпохе, снова обращается к образам и теням тех людей, с которыми её сводила судьба. В стихотворении «Тень» из небольшого цикла «В сороковом году», с эпиграфом из О. Мандельштама: «Что знает женщина одна о смертном часе?»
Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет,
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стёклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь чёрные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года –
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили… А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!
В стихотворении «Надпись на портрете» 1946 года с посвящением «Т. В-ой»:
Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всей камей.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.
И эти стихи, создававшиеся одновременно с поэмой, в определённой мере дополняют её.
Что же касается образа блудницы в «Поэме без героя», то будем помнить, что эта тема в русской литературе вовсе не нова и вполне, так сказать, естественна. В связи с этим вспоминаются, прежде всего, «Клеопатра» и «Египетские ночи» А. Пушкина, о последней царице Египта, покончившей жизнь самоубийством. В определённой мере к этой теме можно отнести и «Тамару» М. Лермонтова, героиня которой к исторической царице не имела никакого отношения. И, конечно же, наиболее глубоко образ блудницы постиг современник А. Ахматовой А. Блок. И в «Незнакомке», и в «Снежной Деве», и особенно в «Клеопатре». Стихотворение возникло в связи с тем, что в 1907 году в Петербурге был открыт паноптикум, музей восковых фигур, среди которых была выставлена и фигура египетской царицы Клеопатры.
Открыт паноптикум печальный
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим… В гробу царица ждёт.
И что очень важно, А. Блок не отделял себя от толпы пьяной и нахальной:
Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз,
Пришёл взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ,
Так же, как и А. Ахматова не отделяла себя от «адской арлекинады».
«…Тогда я исторгала грозы,
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта – слёзы,
У пьяной проститутки – смех».
Но главная дума поэта о том, что «тлетворный дух» Клеопатры уже привнесён в Россию, что неизбежно влечёт за собой разложение общества и крушение страны: «Ты, видишь ли, теперь из гроба,/ Что Русь, как Рим, пьяна тобой…».
Понимали ли так же глубоко образ блудницы с её «тлетворным духом», как А. Блок и А. Ахматова, другие их современники? Да нет же. Написал же поэму в шести главах В. Брюсов: «Обработка и окончание поэмы А. С. Пушкина «Египетские ночи»… Так сказать, «продолжил» и «поправил» великого поэта, не осознавая, что это невозможно. Его блудница уже может быть и не блудницей, а проявлять похвальное человеческое чувство сострадания… (Валерий Брюсов, с. в семи томах, т. 3, М., «Художественная литература», 1974).
Нельзя, наконец, не сказать о том, почему А. Ахматова уже после Великой Отечественной войны, оказалась, по сути, изгнанной из литературы на довольно длительное время. После постановления ЦК ВКП(б) 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград». И доклада А. Жданова. Мировоззренческой причиной стало якобы недопустимое сочетание в её творчестве «блудницы» и «монахини»: «Не то монахиня, не то блудница, а скорее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой». Вроде бы хотелось предельной определённости: или «блудница» или «монахиня». Но ни то, ни другое никак не вписывалось в преобладающее мировоззрение в обществе.
Но это уподобление «не то монахиня, не то блудница» принадлежит литературоведу Б. Эйхенбауму. Почему же в таком случае, это сравнение в устах А. Жданова – это глумление, а в устах Б. Эйхенбаума как бы только констатация факта и не несёт в себе ничего глумливого? Неужто тут повинна только недопустимо грубая форма обвинения А. Жданова, если суть одна и та же? Нет же. Исследователи, начиная с Б. Эйхенбаума, точно уловили в творчестве А. Ахматовой такое сближение «блудницы» и «монахини». Причем, это не могло быть объяснено оксюморонностью, то есть совмещением несовместимого, как художественного приёма, так как касалось мировоззренческой и духовной сферы. Литературовед Б. Эйхенбаум был совершенно прав, как, впрочем, вослед за ним был прав и партийный руководитель А. Жданов. А. Ахматова не просто давала повод для такого уподобления, это было одной из основных мировоззренческих особенностей её мировоззрения и творчества. Можно привести много примеров в доказательство этого. Но приведём хотя бы одно её стихотворение 1912 года:
Протёртый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно.
И густо плющ тёмно-зелёный
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы…
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.
А сердцу стало страшно биться,
Такая в нём теперь тоска…
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.
В таком, казалось бы, несочетаемом сочетании и проявилась трудная и мучительная духовная борьба того времени – между верой и безверием, борьба поэта по преодолению сатанизма тринадцатого года и той «адской арлекинады», к которой она когда-то тоже ведь принадлежала…
А. Ахматова всегда стремилась постичь происходящее с точки зрения высшего духовного смысла. И если причину трагедии крушения страны она видела в 1913 годе, то есть в разложении образованной части общества, то её начало – в Первой мировой войне, о чем – её стихотворение «Июль 1914» («Пахнет гарью…»).
Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».
…Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
«Ранят тело Твоё пресвятое,
Мечут жребий о ризах Твоих».
Вот истинные причины происходящего, когда люди утрачивают веру, вновь распинают Христа и делят его ризы: «Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий» (Евангелие от Матфея, 27:35). Всё происходящее потом, после этого уже неизбежное следствие того, что жизнь превращается в карнавал, арлекинаду, теряет смысл. Именно это имел ввиду Андрей Платонов, когда, откликаясь на её сборник «Из шести книг» («Советский писатель», 1940), писал о силе её стихов, «облагораживающих натуру человека» («День поэзии», 1966).
Она воспринимала свою жизнь в общем течении человеческого бытия, несмотря на деление его на эпохи и поколения. Так же понимала и своё творчество – в общей картине поэзии. Как в этом обращении к Музе:
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
Главная причина насторожённого отношения к А. Ахматовой уже позже, уже, по сути, в конце её творческого пути, что обернулось долгим замалчиванием её в русской литературе, оставалась всё та же – по признаку отношения её к вере, религии, Богу. Именно эта, а не какая-то идеологическая. За этим угадывалась глухая, но жёсткая борьба в обществе по мировоззренческому признаку. Даже в 1961 году, уже после Великой войны, когда было предпринято издание А. Ахматовой в престижной серии «Библиотека поэта», этот вопрос оказался главным, о чём она сама писала о редакторе В. Орлове: «Он требует в стихотворении: «Я научилась просто мудро жить/ Смотреть на небо и молиться Богу», заменить чем-нибудь Бога. Чем же прикажете? Служить единорогу?» Даже А. Сурков, принявший активное участие в выходе этой книги А. Ахматовой, написавший послесловие к ней, что было для этой серии исключением, защищавший её, вынужден был отметить: «Чтобы не подставлять Ахматову под ненужные удары придирчивой критики, я бы рекомендовал исключить религиозно окрашенные стихи». То есть исключить религию, веру, то, без чего ни один народ жить не может. Кроме русского…
Но заметим, что в этой издательско-редакторской уловке А. Сурков, олицетворявший тогда писательскую власть, не предъявлял А. Ахматовой каких-то претензий, а пытался обезопасить её от «придирчивой критики». В таком случае надо задаться вопросом о том, что это была за «придирчивая критика», а не тем, о каких «врагах» она говорит в стихотворении «Не с теми, я, кто бросил землю…», которых якобы не было и быть не может. То есть разрушение страны есть, «глухой чад пожара» есть, а врагов всё это свершивших, как бы и нет. Странная, если не сказать больше – лукавая логика.
В своей «Поэме без героя» А. Ахматова не просто прощается с тем, с чем уже давно простилась, но «погребает» его. Хоронит эту эпоху, которая несла гибель («Гибель где-то здесь очевидна. / Но беспечна, пряна, бесстыдна/ Маскарадная болтовня»). Об этом в её небольшом цикле «В сороковом году»:
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит.
…А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, –
Но матери сын не узнает,
И внук отвернётся в тоске.
И её героиня (О. Глебова-Судейкина) тоже «всплывает», «как труп на весенней реке»: «Зачем всплываешь ты со дна погибших лет»… Она казнит себя в то время, как её незадачливые современники всё ещё тосковали по тем невозвратным блудным временам, когда всё было «можно»…
Чрезвычайно большое значение имеет тот факт, что Анна Ахматова посвятила «Поэму без героя» не тем, с кем «блистала» в далёкие десятые годы, не теням их, явившимся к ней нежданно в 1940 году. А людям, погибшим во время великой драмы блокады Ленинграда. Слышала их голоса, а не тех, кто «блистал в тринадцатом году». Тем самым свидетельствовала, что трагедия крушения России и эта великая драма войны стали результатом того, тогда казавшегося безвинным «блистания»: «Я посвящаю эту поэму памяти её первых слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время блокады. Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи».
«Я над ними склонюсь, как над чашей…»
«Поэму без героя» Анны Ахматовой надо читать и воспринимать совместно с циклом её стихотворений «Венок мёртвым». Ведь в своей поэме она пересматривала, переосмысливала и переоценивала не только то время, когда она могла горделиво декламировать «Все мы бражники здесь, все блудницы…», но пересматривала и переоценивала наследие поэтов, своих современников, с которыми её сводила судьба и с которыми она жила в «беспамятстве смуты».
Впрочем, «Поэму без героя» надо воспринимать в единстве и с поэмой «Реквием». И не только потому, что они создавались, по сути, одновременно, но потому, что они имеют единую мировоззренческую основу, связаны причинно-следственной последовательностью: то, что происходит в «Реквиеме», стало неизбежным последствием того, что происходит в «Поэме без героя», точнее – то, что происходило в 1913 году.
Цикл «Венок мёртвым» состоит из стихотворений разных лет и охватывает довольно большой временной период – от 1938 года до 1961-го. То есть он складывался у неё столь же долго, как и «Поэма без героя». Поэтический же дар, дар песнопенья был для неё превыше всего. Высшей способностью человека различать вещи этого мира по их истинным именам. А потому уточняя значение поэтов, своих современников в литературе, она говорила не о литературе только, а о смысле происходившего и происходящего. И прежде всего о духовном смысле. А уточнение масштаба дарования поэтов и их значения в литературе в её «Венке мёртвым» оказались очень существенными, подчас даже радикальными.
Первое стихотворение этого цикла «Учитель» 1945 года имеет посвящение «Памяти Иннокентия Анненского». Посвящение довольно необычное, так как такие посвящения делаются обычно в связи с кончиной человека, но не тридцать шесть лет же спустя… Как она и посвящала стихотворения этого цикла «Памяти М.А. Булгакова» (1940 г.), «Памяти Бориса Пильняка» (1938 г.). В то же время стихотворения, посвящённые О. Мандельштаму (1957 г.), и «Борису Пастернаку» (1960 г.) – уже без добавления «памяти», словно они оставались для неё живыми. Значит, в стихотворении «Учитель», памяти Иннокентия Анненского, основным было не столько «памяти», сколько переоценка его поэзии:
А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошёл, и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье –
И задохнулся…
Куда уж более жёсткий упрёк учителю, если он «весь яд впитал», «всю эту одурь выпил» и вдохнул во всех болезненное «томленье»…
В стихотворении «Памяти Бориса Пильняка» 1938 года она вспоминает его «беззаботный смех», которому ответствуют и лес, и камыши в пруду «каким-то странным эхом». Она тужит не только над ним, а завидует тем, кто может плакать «о тех, кто там лежит на дне оврага». То есть над многими современниками, разделившими его участь. Его же оплакала как-то совсем скупо:
О, если этим мёртвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своём, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, что там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
О своём поколении она сказала во втором стихотворении этого цикла, выделяя то главное, что определило его судьбу и путь:
Две войны, моё поколенье,
Освещали твой страшный путь
Причём, в контексте цикла это относится и к тем, кто до Второй мировой, Великой Отечественной войны не дожил.
В стихотворении «О. Мандельштаму» 1957 года Анна Ахматова не даёт оценки его творчеству, хотя, как известно, с большим пиететом относилась к его стихам, часто цитируя их. Здесь поэтов всецело сближает общая трагическая эпоха:
Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть –
Окровавленной юности нашей
Это чёрная нежная весть.
Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.
В отличие от Бориса Пастернака, которому она даёт самую высокую духовную оценку, называя его «провидцем», которому выпала крестная смерть. И его последний вздох – «евангельский» и «гефсиманский»: «Могучая евангельская старость/ И тот горчайщий гефсиманский вздох», хранимый «высшею волей»:
Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьётся путь золотой и крылатый,
Где он высшею волей храним.
Можно предположить, что Михаил Булгаков сыграл какую-то важную роль в создании А. Ахматовой «Поэмы без героя». Тем более, что она встречалась с ним и слушала в его чтении главы из «Мастера и Маргариты». Но это влияние было не таким однозначным, что она якобы в своей «Поэме» размышляла в русле булгаковского романа. Скорее, наоборот. В стихотворении «Памяти М. А. Булгакова» она упрекает рано ушедшего из жизни писателя за то, что он «гостью страшную», то есть нечистую силу, блудницу «сам к себе впустил/ И с ней наедине остался»:
Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донёс
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне…
Само стихотворение А. Ахматовой «Памяти М.А. Булгакова» было – «взамен кадильного куренья». И это понятно. Автора, покощунствовавшего и в пьесе «Батум», и в «Мастере и Маргарите» она определила точно. Но ведь эти стихи кроме того и «взамен могильных роз». А это уже беспощадная характеристика, так как означает, по сути, отказ от такого естественного почитания усопшего – положить цветы на его могилу…
А. Ахматова в своём стихотворении явно спорит с М. Булгаковым, не соглашаясь с ним. Ведь он в своём путанном и неточном, с точки зрения религиозной, романе «Мастер и Маргарита», как, впрочем, и в «Собачьем сердце», во многой мере постигал то, как морок безверия и сатанизма овладевал человеком и миром. Его больше занимало то, как мир становится безбожным, как происходит духовное падение человека. А. Ахматова же в «Поэме без героя» и во многих стихотворениях, как впрочем, и в «Реквиеме», постигала то, как живая человеческая душа сопротивляется этому мраку безверия, как она противостоит ему и преодолевает его. То есть была занята тем, к чему испокон веку стремился поэт в России – не «множить картин бесстыдства и уродства» (А. Блок), а несмотря ни на что, ни на какие потрясения, постигать гармонию этого мира…
Не потому ли вокруг романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», впервые опубликованного в журнале «Москва» в 1966 году, позже, накануне нового крушения страны, был возбужден неслыханный ажиотаж и даже психоз. При всём при том, что понять его и протолковать в тогдашней атеистической среде могли совсем немногие. Но было достигнуто такое положение в образованной части общества, что прослыть «передовым» и «интеллектуалом» можно было, только прочитав «Мастера и Маргариту». Слыханное ли дело, чтобы книга выходила почти двухмиллионным тиражом (Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», М., «Художественная литература», 1988).
Но наиболее жёсткую оценку Анна Ахматова давала Марине Цветаевой в прижизненном стихотворении, ей посвящённом, «Поздний ответ». Причём, предпослав к нему в качестве эпиграфа строчку из М. Цветаевой о том, как та понимала А. Ахматову: «Белорученька моя, чернокнижница». Это было столь далеко от А. Ахматовой, что, надо полагать не могло не возмутить её, что и проявилось в стихотворении. Какая уж там «белорученька» при её судьбе. Да и «чернокнижница» была далека от Ахматовой.
Поздний ответ
М. И. Цветаевой
Белорученька моя, чернокнижница…
Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в чёрных кустах,
То забьёшься в дырявый скворечник,
То мелькнёшь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идём,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
Это уже даже не диалог с поэтессой, а довольно жёсткий спор. И опровержение и «белорученьки», и «чернокнижницы». И – убийственная ирония над тем, что вещала поэтесса из «Маринкиной башни». Стихотворение «Нас четверо» (1961г.) также свидетельствует о том, что А. Ахматова вела с ней не диалог, а спор, вынося ей, в конце концов, довольно жёсткую оценку: «Тёмная, свежая ветвь бузины…/ Это письмо от Марины». В отличие от других поэтов, с ней «голосов перекличку» она не ведёт. Нам же остаётся отметить тот факт, что эта оценка А. Ахматовой очень уж отличается от той восторженно-немотивированной оценки М. Цветаевой, которая стала преобладать в последующем. Впрочем, не только Ахматова давала ей такую оценку: «Марина Цветаева постоянно жаловалась в эмиграции на то, что её не ценят и не понимают… Имеет ли основание, имеет ли даже право поэт красоваться своей избранностью?» (Г. Адамович). Ведь истинный талант всегда не право, а обязанность.
Кстати сказать, почему именно «башня»? Это очень важный образ в мире А. Ахматовой, к которому она обращалась неоднократно и которым поверяла как себя, так и других поэтов. К примеру, в 1914 году, в стихотворении «Уединение»:
Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Или в 1916 году, в Слепневе:
На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет…
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.
И во «Вступлении» к «Поэме без героя» 25 августа 1941 года:
Из года сорокового,
Как с башни, на всё гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась,
И под тёмные своды схожу.
Башня в мире А. Ахматовой – это та безусловная духовная величина, к которой должен стремиться каждый истинный поэт: «Башнею поставлю Я тебя среди народа Моего, чтобы ты знал и следил путь их» (Книга пророка Иеремии, 6:27). И прямо-таки, словно обращаясь именно к ней, к Анне Ахматовой: «Дочь народа моего! Опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом; сокрушайся, как бы о смерти единственного сына, – горько плачь, ибо внезапно придёт на нас губитель» (Кн. Пр. Иеремии 6:26).
Вот почему такая ирония к «Маринкиной башне». Разве с этой Башни говорят такое, а не самое важное, самое главное? Не вещать же с неё такую горделивую самонадеянность. И пред кем, пред «родными пашнями», пред Родиной. «Вернулась домой» вот «за это случилось со мной» всё остальное – и утрата любимых, и разрушение родительского дома. Но у А. Ахматовой всё оказалось, как раз наоборот, ей «белорученьке» пришлось столь многое испытать и пережить «за то, что мы остались дома», «За то, что я верна осталась печальной родине моей».
И, словно не всё высказав о М. Цветаевой, А. Ахматова в стихотворении «Нас четверо» этого же цикла «Венок мёртвым», ещё раз обращается к ней. Уже позже, в 1961 году. К этому стихотворению она предпосылает три эпиграфа: из стихов О. Мандельштама, Б. Пастернака и М. Цветаевой. Она сама – четвёртая. Но странное дело, в стихотворении она слышит перекличку только двух голосов, а голоса М. Цветаевой не слышит:
…И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.
Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.
Двух? А ещё у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Тёмная, свежая ветвь бузины…
Это – письмо от Марины.
Вот последнее письмо от Марины, последняя о ней ветвь – «ветвь бузины»… Разумеется, А. Ахматова хорошо знала творчество М. Цветаевой, как видно по всему жалея её, ибо была в их общении немногословной. Но не могла же она согласиться с тем, что «Тоска по родине: Давно/ Разоблачённая морока!/ Мне совершенно «всё равно – / Где совершенно одинокой/ Быть…». Не могла же не видеть, что в её настойчивых декларациях «Ибо мимо родилась. Времени вотще и всуе…», «Отказываюсь быть./ В Бедламе нелюдей/ Отказываюсь жить» – и духовный надлом, и интеллектуальный срыв, закончившиеся трагически – самоубийством…
Духовная высота Анны Ахматовой была совсем иной. Все, кто помощи душевной просил у неё, с ней «своей делились силой»…
Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете, –
Все юродивые и немые,
Брошенные жёны и калеки,
Каторжники и самоубийцы, –
Мне прислали по одной копейке,
Стала б я «богаче всех в Египте»,
Как говаривал Кузьмин покойный…
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой,
И я стала всех сильней на свете,
Так, что даже это мне не трудно.
Покойный Кузьмин, по обыкновению своему, пророчил ей участь «царицы цариц» в Египте, то есть «блудницы»… Она же пошла совсем иным путём, к народу и Родине. Это вовсе ведь не то, что бесшабашное цветаевское: «Хотенье женское моё – / Вот всё именьице моё»…
К этой, если можно так сказать, иерархии поэтических ценностей своей эпохи, выстроенной А. Ахматовой как в цикле «Венок мёртвым», так и в других стихотворениях, следовало бы отнестись повнимательней, так как она не вполне соответствует иерархии, выстроенной филологами в истории литературы. Да и понятно, ведь филолог обязан охватить всё, что ни является на свет Божий, и нередко вне его поэтического уровня. Иерархия же, выстроенная А. Ахматовой, ценна именно с точки зрения поэтической и литературной, а не какой-то иной, скажем, «исторической», «социальной» или «корпоративной». И мы не можем сказать, что эта иерархия поэта неточна. Она-то и представляется теперь наиболее точной.
Примечательно, что не в связи с «Поэмой без героя», а именно в связи с циклом «Венок мёртвым» А. Ахматова, по сути, подводила итог своего творческого пути:
Справлена чистая тризна,
И больше нечего делать.
Примечательно ещё и то, что А. Ахматова, столько раз обращавшаяся в стихах к А. Блоку, стихи о нём в «Венок мёртвым» не включила. Ну, хотя бы «Три стихотворения» 1944–1960 годов. Нет, не включила, так как глубоко осознавала значение «трагического тенора эпохи», то, что, он над всеми, что он «Прославленный не по программе/ и вечен вне школ и систем» (Б. Пастернак). Но над всеми ими, поэтами, своими современниками, одних любя восторженно, других – требовательно до жёсткости, она в равной мере благодарно склонялась, как над чашей, о чём и писала в стихах.
Поэтов того поколения, к которому принадлежала А. Ахматова, в общественном сознании и даже в филологии, принято определять понятием «поэты серебряного века». Понятием расхожим, постоянно повторяемым, как некий тренд и догмат. Обязательно в положительном смысле и непременно с придыханием: «Серебряный век!», как конечная оценка. Хотя понятие это никак не характеризует поэтов этого поколения. Но удивительно, что к А. Ахматовой это понятие как-то не пристало. В отличие от других поэтов этой эпохи, её имя менее всего связывают с этим названием. Ведь определение это, можно сказать, случайно. В обиход его ввёл поэт Николай Оцуп (1894–1958), уже в зарубежье. (См. «Антология русского лиризма. ХХ век», том второй, М., «Студия», 2004 г. Составитель А. Васин).
Но сущность этого понятия «серебряный век» всё-таки проступает. Поэт, педагог, проницательный литератор Инна Кабыш вывела его значение из Ф. Достоевского в своём анализе «Поэты Серебряного века как герои русского классика»: «Слова «бесы» и «поэты» – особенно в применении к поэтам Серебряного века! – практически синонимы» («Литературная газета», № 45, 2021).
Но откуда, из каких духовных мировоззренческих представлений проистекает это «серебро»? Мне кажется, оно объясняется через Книгу пророка Иеремии о неустранимости зла в мире. Пророк Иеремия жалуется Господу: «Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытуешь сердце моё, каково оно к Тебе» (12:1). И предлагает Господу отделить злых от всех остальных и уничтожить их: «Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на убиение» (12:3).
Господь соглашается с Иеремией, что «все они – упорные отступники, живут клеветою; это – медь и железо, – все они развратили» (6:28). Но вместе с тем говорит о том, что отделить их невозможно: «Раздуваемый мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик плавил напрасно; ибо злые не отделились» (6:29). Господь оставляет злых в этом мире, но определяет им имя, называя их «отверженным серебром»: «Отверженным серебром назовут их; ибо Господь отверг их» (6:30). Значит, всё дело, в их преобладании или непреобладании в этом мире. И это соотносится с той литературной эпохой, которую привычно и бездумно называют «серебряным веком»…
«А ты всё та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней…»
Анну Ахматову справедливо принято считать поэтом, соединившим поэзию ХIХ века с поэзией трагического ХХ века. Продолжившим русскую литературную традицию, несмотря ни на что, ни на какие потрясения и катастрофы своего революционного времени. На этом основании и вовсе не случайно её сближают с А. Блоком. Уже в 1934 году Г. Адамович писал о том, что, «теперь мы готовы повторить «Ахматова и Блок» с уверенностью, что это одно из редких имён, которые такого сочетания достойны». Истинные поэты понимали значение А. Ахматовой в русской поэзии и позже. Как, к примеру, в стихах Я. Смелякова, посвящённых её памяти:
Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузьмина.
Что давало право на такое сближение поэтов и на выделение их из всей плеяды поэтов той эпохи? Конечно, само их творчество. Но не поэтика только и не манера, которые никогда не были для поэтов определяющими. А прежде всего, их воззрения на мир, на человека в нём, на своё предназначение.
Анна Ахматова – одна из немногих поэтов в катастрофическую эпоху осталась верной своей исконной христианской православной вере. Её не коснулись никакие жестокие атеистические и богоборческие поветрия времени, которые начались ещё с революционных демократов середины ХIХ века, и даже раньше. Не коснулись и преходящие идеологические догматы её времени. Каким-то невероятным чутьём, присущим только большому поэту, А. Ахматова различила за всей мишурой своей эпохи извечный закон человеческого бытия: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам» (Второзаконие, 11:16).
А основным, спасительным образом как для А. Блока, так и для А. Ахматовой, определившим их пути, стал образ Родины, России, родной земли. Именно тогда, когда Родине грозила опасность. Не столько внешняя, сколько духовно-мировоззренческая. У А. Ахматовой этот поворот совершился накануне и с началом Первой мировой войны, как в стихотворении «Июль 1914», когда она прозревала страшные сроки, когда «станет тесно от свежих могил». Причём, опасность, грозящую стране, воспринимает как крушение мира, как распятие Христа: «Ранят тело Твоё пресвятое,/ Мечут жребий о ризах Твоих». Какой уж при этом может быть «имперский энтузиазм», свойственный многим в начальный период войны, о котором писала А. Марченко: «Четырнадцатый год аукнулся в её поэзии неким подобием имперского энтузиазма» («С ней уходил я в море…», Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. «Новый мир», № 8, 9, 1998). Как видно из этого стихотворения, Анна Ахматова находилась совсем в ином духовном и мировоззренческом измерении, а не в этом реально-бытовом, военном и политическом…
Как уже видели, в стихотворении 1917 года «Когда в тоске самоубийства…», когда на голос, который ей «был», оставить «свой край, глухой и грешный», оставить Россию навсегда, руками «замыкает слух». В стихотворении 1922 года «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам…» со всей определённостью не мыслила себя вне России, где ни единого удара не отклонила от себя. Такой тема Родины, России остаётся у неё и далее, на протяжении всего её творческого пути.
И для Александра Блока тема Родины, России во время войны становится главной:
Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней…
Но он прозревает опасность, грозящую стране раньше, уже с первой революцией в России. На эти годы приходятся самые трудные и мучительные его размышления о Родине. И что примечательно, само прозрение человека, его спасительный дар любви ко всему сущему он связывает с Родиной:
Много нас – свободных, юных, статных –
Умирает не любя…
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!
В письме К. С. Станиславскому 9 декабря 1908 года он излагает творческую программу всей своей жизни: «Ведь тема моя, я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений – живая, реальная тема; она не только больше меня, она больше всех нас; и она всеобщая наша тема. Все мы, живые, так или иначе, к ней же придём. Мы не пойдём, – она сама пойдёт на нас, уже пошла… Не откроем сердца – погибнем (знаю это как дважды два четыре). Полуторастамиллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы ни выставили, какой бы «Великой России» (по Струве) ни воздвигли. Свято нас растопчет; будь наша культура – семи пядей во лбу, не останется от неё камня на камне.
В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Всё ярче сознаю, что это – первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный».
В 1915 году выпускает книгу «Стихи о России». В самые трудные для страны годы, когда нависшая над ней катастрофа уже была очевидна ему и наиболее проницательным его современникам. И когда тема России в «образованной» части общества была «непопулярной»…
19 марта 1921 года, уже больной, а по сути, умирающий, А. Блок записывает нечто вроде видений «Ни сны, ни явь». Записывает, как он сам отмечал, «со слепнущими от ужаса глазами». И в таком его состоянии, это были видения о России, которые и сегодня потрясают своим пророчеством: «Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветёт миндаль. Мимо проходит Магдалина с сосудом, Пётр с ключами; Саломея несёт голову на блюде; её лиловое с золотом платье такое широкое и тяжёлое, что ей приходится откидывать его ногой.
– Душа моя, где же твоё тело?
– Тело моё всё ещё бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже её потеряв.
Окончательно разозлившийся чёрт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность.
Душа мытарствует по России в двадцатом столетии...
…А за деревней на холмах остановились богатыри: сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперёд, Конь крепко упёрся ногами в землю, всадник протянул руку, показывает далеко за лес…».
А душа, как видим, мытарствует по России и в нашем двадцать первом веке... Только здесь, в России находя себе пристанище, в продуваемом всеми вселенскими ветрами мире…
Невозможно назвать другого поэта, кроме Анны Ахматовой, который так же глубоко, как и А. Блок, понимал бы судьбу России, так бы страстно отстаивал её и так естественно не мыслил бы своей жизни вне неё. И это были не декларации, а выражение самого существа их личностей. И можно лишь подивиться прозорливости О. Мандельштама, который ещё в 1916 году писал об А. Ахматовой, что «в настоящее время её поэзия близка к тому, чтобы стать одним из символов величия России», («День поэзии», 1981 г.).
Вера и Родина, Россия – это те главные духовные величины, которые не могут быть подвергнуты сомнению ни при каких внешних обстоятельствах, то, чего не может поколебать никакой «дух эпохи». И это со всей определённостью и незыблемостью воплотилось в творчестве Александра Блока и Анны Ахматовой.
Другое дело, что в более поздних исследованиях это основное содержание – верность народной вере и своей Родине, России – стало сводиться лишь к каким-то реально-бытовым аспектам, к взаимоотношению поэтов, к «легенде» «о любовном романе между первым поэтом и крупнейшей поэтессой эпохи, или, по крайней мере, о её безнадёжной любви к нему» (В. М. Жирмунский). Несмотря на опровержение этой «легенды» самой А. Ахматовой: «В поэтической биографии Ахматовой (которая, без сомнения, находится в сложных и далеко не однозначных отношениях с её реальной биографией) «Блоковская легенда» занимает одно из ключевых мест. …В своих мемуарных записях Ахматова уделяла немало места опровержению «легенды» о её «так называемом романе с Блоком». («Переписка Блока с А. А. Ахматовой». Предисловие и публикация В. А. Черных. «Литературное наследство», т. 92, кн. 4, М., «Наука», 1987).
И надо отдать должное тому, как А. Ахматова стойко и последовательно охраняла эти свои главные ценности. Г. Адамович в статье «На полях «Реквиема» Анны Ахматовой», поводом к которой стало издание поэмы в 1936 году в Мюнхене, задавался вопросом «как это могло всё это случиться?», имея ввиду то страшное время конца тридцатых годов, о котором она писала в «Реквиеме»: «Как могло всё это случиться?.. Вопрос общий, поистине проклятый, потому что ответить на него можно было бы, лишь объяснив, почему идеи и принципы, по существу приемлемые, в замысле своем подлинно альтруистические приводят к жесточайшему насилию». Но это – общий закон бытия, открытый ещё Ф. Достоевским, так как «выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничный деспотизм». Чтобы ответить на этот вопрос, недостаточно только любования альтруизмом деклараций и своего оправдания «кинуть землю», «оставить Россию навсегда». Надо в первую очередь помнить то, почему произошло крушение страны в феврале 1917 года. Как могли современники допустить это. Ведь всё последующее, в том числе и происходившее в конце тридцатых годов, было неизбежным следствием этого крушения.
Если бы Анна Ахматова написала только «Реквием», тогда вопрос Г. Адамовича был бы справедливым. Но она кроме «Реквиема» создала «Поэму без героя». И пишет их, по сути, одновременно. Пишет о драме России, начавшейся в 1914 году, в феврале 1917 года, а не в 1937 году… В «Реквиеме» только часть, только одна сторона той драмы, которую она постигала в «Поэме без героя», да и во всём своём творчестве.
Г. Адамович, ссылаясь на беспощадные к самой себе признания А. Ахматовой «Да, я любила их, те сборища ночные», когда все были «бражниками» и «блудницами» как бы в своё оправдание добавляет: «И как любила! Поэтический Петербург 1912-го и двух-трёх позднейших лет без Анны Ахматовой нельзя себе и представить. По-видимому, не так уж всё в нём было ничтожно и «пакостно». Написать так, значит абсолютно не понять того, что переживала А. Ахматова, чем она терзалась позже. Написать так, значит не понять главного, того, что в «беспамятстве смуты» и ставшей причиной последующей трагедии, находились все без исключения. Такое «беспамятство смуты» можно было осознавать, но выйти из него по своему хотению было невозможно. Такие состояния общества во все времена не отменяются и не упраздняются по неким постановлениям, а изживаются и преодолеваются духовной работой. Не поняв тех, предреволюционных лет, Г. Адамович и сводил все к проблемам эмиграции, а не к судьбе страны и народа. «Тема для автора «Реквиема» не новая. Больше сорока лет тому назад, в самом начале революции, Ахматова писала о «голосе», который звал её оставить Россию навсегда, и о том, что этой «речи недостойной» она не стала и слушать. С тех пор, значит, она своего убеждения и своих антиэмигрантских настроений не изменила». Да разве речь только об «антиэмигрантских настроениях»?..
И почему, с какой стати А. Ахматова должна была изменять свое мнение и отказаться от того, что постигла уже в 1917 году, в двадцатые годы? Но примечательно то, что Г. Адамович припоминает А. Ахматовой не стихотворение «Не с теми я, кто бросил землю…», содержащее беспощадный приговор кинувшим землю, а более раннее стихотворение, когда ей голос «был», звавший покинуть Россию навсегда… Она-то уже тогда знала, что это действительно навсегда. Её же обличители, вплоть до Второй мировой войны полагали, что это всё временно, что всё каким-то образом разрешится. Но ведь не разрешилось…
Как всё это было далеко от того, что чувствовала и переживала А. Ахматова, находясь дома, в России. Как в этом стихотворении 1929 года:
Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.
Всё, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать –
Всё унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал…
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.
Но с любопытством иностранки,
Пленённой каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной…
Это ведь уже освобождение от своей «иностранности» и возвращение к «родной земле», к своему народу, самой себе. Это ведь совсем не то, что горделивое цветаевское: «Торжественными иностранцами проходим городом родным». Скорее есенинское: «Язык сограждан стал мне как чужой./ В своей стране я словно иностранец». Но её «с любопытством иностранки», умение слушать «язык родной» и является свидетельством возвращения к родному языку. Трудное и мучительное, через осознание «промотанности наследства», возвращение к русскому миру.
Анна Ахматова каким-то образом сохранила в себе то святое чувство, утраченное значительной частью нашей «образованной» черни, о котором Ап. Григорьев писал ещё в 1857 году: «За границей можно учиться и ездить по разным городам, но надо быть чем-нибудь от Господа Бога обиженным, чтобы для удовольствия жить в каком-либо месте кроме отечества».
О том, как последовательно и настойчиво, несмотря ни на что, Анна Ахматова отстаивала свои воззрения, свидетельствует стихотворение 1961 года «Родная земля», к которому она предпосылает эпиграф из своего же стихотворения 1922 года «Не с теми я, кто бросил землю…»: «И в мире нет людей бесслёзней,/ Надменнее и проще нас». Это однозначно говорит о том, что и почти сорок лет спустя она продолжала свою думу о родной земле, утверждала и отстаивала то неизменное и незыблемое, что не может быть «пересмотрено» ни при каких обстоятельствах:
В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем её в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чём не замешанный прах.
Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно – своею.
Вполне естественно, что в годы Великой Отечественной войны Анна Ахматова создала немногие, но такие монументальные стихотворения, которые выражали саму суть происходящего. Это – прежде всего «Мужество» 1942 года:
…Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём,
Навеки!
И стихотворение «С самолёта», 1944 года, при возвращении её из ташкентской эвакуации, вполне осознавая, что «В сокровищнице памяти народной/ Войной испепелённые года»:
Как в первый раз я на неё,
На Родину, глядела.
Я знала: это всё моё –
Душа моя и тело.
Насколько её поэтический мир был связан с народным самосознанием можно судить хотя бы по её стихотворению 1944 года «Причитание»:
Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
За версту я обойду
Ленинградскую беду.
Я не взглядом, не намёком,
Я не словом, не попрёком,
Я земным поклоном
В поле зелёном
Помяну.
Ведь это стихотворение невозможно понять, если не учесть того, что в основе его лежит известная русская пословица: «Чужую беду руками разведу, а своей ладу не дам». Но в том-то и дело, что ленинградская беда была для неё своей, потому она и не может развести её руками. Это только чужую беду можно легко «развести». Так, не говоря прямо, но образно, через пословицу Анна Ахматова выражала свою кровную причастность к Родине, России, и ко всему, что происходит на её лоне.
И, какая этическая и духовная высота: после всего пережитого, после изгнания на долгое время из русской литературы, она не предъявляет никому счёта, понимая, что такая же участь постигла миллионы её сограждан. И даже в таком положении она находит главное, непреходящее, когда беда оборачивается не утратой, а обретением. Как в этом стихотворении 1962 года:
Вот она, плодоносная осень!
Поздновато её привели.
А пятнадцать блаженнейших вёсен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко её разглядела,
К ней припала, её обняла,
А она в обречённое тело
Силу тайную тайно лила.
х х х
Наши размышления о творческой судьбе Анны Ахматовой и о её «Поэме без героя» будут неполными, если мы не соотнесём их с тем, что происходит ныне в обществе, культуре, литературе – во всей нашей духовно-мировоззренческой сфере. Мы не касались бы этого, если бы здесь не проявилась извечная, внешне незримая закономерность Откровения, отмеченная в начале, о том, как пребывает зло в этом мире: «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны… зверь был, и нет его, и явится» (17:8). Опять-таки напомню, что коль зло в мире неустранимо по самой природе человеческой, и не может быть уничтожено раз и навсегда, это значит, что каждый человек и каждое поколение людей преодолевает его самостоятельно, несмотря на предшествующий опыт.
Когда Анна Ахматова завершала свою «Поэму без героя», другой поэт уже иного времени Николай Рубцов в стихотворении «В гостях» писал в 1962 году всё о той же, и уже новой «богеме»:
Куда меня, беднягу, занесло!
Таких картин вы сроду не видали,
Такие сны над вами не витали,
И да минует вас такое зло!
…А перед ним, кому-то подражая
И суетясь, как все по городам,
Сидит и курит женщина чужая…
– Ах, почему вы курите, мадам!
Он говорит, что всё уходит прочь
И всякий путь оплакивает ветер,
Что страшный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь.
…Но все они опутаны всерьёз
Какой-то общей нервною системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слёз!
И всё торчит.
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тётки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
20 декабря 2023 года, в самый канун Нового года, года Дракона в Москве прошла закрытая голая вечеринка в ночном клубе «Мутабор», нечто вроде свального греха, которую провела блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Но вечеринка эта оказалась вовсе не закрытой, а предельно открытой, так как тут же стала достоянием средств массовой информации и эмоционального общественного обсуждения. На ТВ ролики с этой постыдной вечеринки стали крутить с такой частотой, что сложилось впечатление: это делается вовсе не для того, чтобы осудить этот сатанизм, а для его пропаганды, для его утверждения… Очевидно, что такая её «закрытая» открытость и была целью. Отличало её от прежних «сборищ» лишь название. Если не «Бродячая собака», то «Мутабор», с вполне определённым смыслом: «Я изменяюсь» в контексте магии и волшебства. Суть же осталась прежней, о которой А. Ахматова писала в своей поэме: «И беснуется и не хочет узнавать себя человек».
Примечательной была реакция на этот шабаш сатанизма. На ТВ нашёлся лишь один эксперт, который сразу же точно определил, что это такое, напомнив, что подобное в нашей истории уже было в начале ХХ века, завершившееся февральским крушением страны в 1917 году. Даже, выдающиеся деятели культуры, кроме естественного осуждения этого блуда, не смогли определить духовную сущность явления, которую-то они и должны выявлять в первую очередь, а также – природу тех гендерных поветрий, в которых корчится «цивилизованный» мир. Если это явление только нашего времени, в таком случае, как объяснить стихотворение Катулла «Аттис», в котором прекрасный юноша Аттис «безумством подстрекаем со смятенною душой» сменяет свой пол, оскопляется и становится женщиной, в чём потом горько раскаивается. Катулл жил до Рождества Христова (84–54 гг. до н. э.). А ведь тогда ни Риму, ни Европе, ни всей цивилизации никакое перенаселение не грозило. Значит, это явление имеет другую природу, которую предлагаемыми способами объяснить невозможно. А если невозможно объяснить, то ему невозможно и противостоять, хотя вся история свидетельствует о том, что человечество вплоть до нашего времени с этой «проблемой» как-то справлялось…
Афанасий Фет, переводивший это стихотворение Катулла о несчастном юноше Аттисе, сменившем свой пол и ставшем женщиной, и составивший примечания к нему, писал: «Не дело искусства юридически разбирать правых и неправых… если безумие присуще человеческой природе и кому-нибудь необходимо безумствовать, то дай Бог, чтобы этим безумцем не был я… В человеческой области мы постоянно натыкаемся на двойственность животной души и человеческого духа, вечная борьба между которыми по-уличному называется свободной волей, между тем как торжество той или другой стороны лежит в умопостигаемом характере» (см. Александр Блок, «Катилина», составители С. С. Лесневский, Б. Н. Романов. М., Прогресс-плеяда, 2006).
Другие увидели в этом стратегическую и политическую установку, направленную против нас, против России, что это – сознательное насаждение разврата. И были правы. Да, сразу после Второй мировой войны Запад сделал ставку на развращение нашего общества, словами А. Даллеса: «Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые». Заметим, не оружием грозили нам, а развращением нашего общества. Но это не вся правда, так как развращение и вырождение человека происходит главным образом внутри всякого общества, а не только под влиянием извне. Но отсюда понятно почему США столь бесцеремонно объявили о нашем «стратегическом поражении», то есть о нашем государственном и народном уничтожении: они уверовали, и не без оснований, в то, что подмена наших ценностей на фальшивые уже произошла… И уверовали, как и всегда, опрометчиво… Несмотря на то, что вся духовно-мировоззренческая, культурная и информационная сферы нашей жизни находится пока в неопределённом состоянии, представляя собой главную угрозу нашему народному и государственному существованию…
Но есть и вовсе беспечные оценки происходящего, несмотря на то, что, как видно из наших сопоставлений, «те, кто блистал в тринадцатом году», очень уж сходны с теми, кто «блистает» сегодня. С той разницей, что там было всё-таки и творчество, а здесь, по сути, лишь «шумиха и успех», где всё поверяется исключительно «рейтингом продаж» и бесконечными, абсолютно не имеющими никакого общественного значения литературными премиями.
Выше мы приводили слова Г. Адамовича о том «духе эпохи», «что это была за жизнь»: «Были ли это годы высокого напряжения человеческого духа? Не думаю. Но была в эти годы особая сладость жизни, какое-то смутное предчувствие близких бед и крушений. Оттого все торопились жить, все были ветрены и романтичны». То есть жили в том нервном возбуждении, которое В. Ходасевич назвал «лихорадкой». Восхищаться этим, зная, что произошло потом, нет никаких оснований. Как и нет оснований оправдывать «блистающих» тех нынешних «деятелей культуры», которые с истинной культурой давно потеряли связь. Но вот доктор искусствоведения Михаил Швыдкой успокаивает читателей со страниц «Российской газеты» (№ 2, 2024), что ничего особенного не происходит, «что бы ни происходило в окружающем мире, большинство россиян стремятся сохранить привычный уклад существования». То есть для одних война с увечьями и гибелью, а для других – «блистание». И восхищается заполненностью театров и концертных площадок: «Таких аншлагов, как в нынешнем году, не было даже в доковидные времена». Поразительно его объяснение этого, неизменное со времён Г. Адамовича: «Наверное, потому, что в напряжённые периоды истории обостряется жажда жизни во всех её проявлениях». Ну что, мол, пристали к «деятелям культуры» с этой «голой вечеринкой», если это всего лишь одно из проявлений «жажды жизни»…
А то, что эта «вечеринка» является повторением тех «ночных сборищ» более вековой давности, с теми же последствиями, это, вроде бы и не важно: «Это был очень замкнутый, довольно малочисленный кружок, петербургский, декадентский, эстетствовавший и всегда чувствовавший своё одиночество в стране и если не вражду, то глубокое равнодушие страны к себе… Каждый чувствовал себя свидетелем развязки какой-то тайной драмы» (Г. Адамович).
Доктор искусствоведения, восхищаясь аншлагами в театрах и на концертных площадках, вроде бы, не говорит о том, что именно присутствует на этих площадках и каков репертуар, но оговаривает, чего не должно быть, хотя его и так нет: «Концерты военно-патриотической песни не могут удовлетворить все потребности телезрителей». Где он их увидел, не знаю. Те же беспомощные стихотворные речитативы, которые порой распеваются под видом военно-патриотической песни, ни песнями, ни поэзией назвать невозможно, ибо это – вне культуры. Но оговорка об этом далеко не случайна. Так уже было, о чём писал тот же Г. Адамович об обыкновении «отбрасывать доводы и соображения сусально-патриотические, не изменять самим себе на том основании, что этого будто бы ждёт и даже требует от нас наша обновлённая родина». Но опыт нашей многотрудной истории однозначно свидетельствует о том, что как только патриотизм начинает разделяться на «сусальный» и «не сусальный», это значит, что патриотизм в большой опасности…
Примечателен был и общий хор журналистов на этот нынешний сатанизм: нет закона, чтобы его оценить и привлечь его участников к ответственности. Разумеется, никто не вспомнил, что такое явление было всегда, со времён Древнего Рима, с одним и тем же неизбежным итогом – крушением страны. Стало совершенно очевидным, что наше общество оказалось пока неготовым ни к оценке этого сатанизма, ни к способности противостоять ему. Да и как оно будет противостоять этому злу разложения и вырождения человека, если не может пока его различить, то есть дать ему точное определение. В большинстве своём увидели в этом мерзкую, но всё-таки безвинную шалость, которая якобы может быть извинительна в людях, имеющих через средства массовой информации влияние на народ… Исповедников её принялись взывать к разуму и стыдить. Так можно делать, лишь не вполне понимания природу этого явления. Это наивно, ибо стыдить тех, «Кто не знает, что совесть значит/ И зачем существует она» (А. Ахматова), бесполезно. Они ведь иными стать не могут. Остаётся одно: не допускать их в свой духовный мир. Не допускать того, чтобы это разложение и вырождение человека получало преобладание в общественном сознании. А это – дела уже вполне земные, организационные, которые должна и обязана предпринимать власть. Преступно перед народом и страной этого не делать по каким-то псевдогуманистическим соображениям или из каких-то мелких земных выгод.
Но другого способа оградить людей просто нет. Согласно Откровению, Ангел, сходящий с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, «взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (20:2). «И низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, после сего ему должно быть освобождённым на малое время» (20:3).
Наши просвещённые современники могут сказать: ну что теперь ссылаться на Откровение, на Священное Писание, если к дню сегодняшнему они отношения не имеют. И проявят непростительную самонадеянность и наивность, ибо это не так. Духовная сфера бытия человеческого непрерывна и иной закономерности, иной «архитектуры» что ли, просто не имеет. Нельзя ведь не заметить, что наша цивилизация изначально и до сего дня находится в одной и той же парадигме Вавилонского строительства, которое изменяет формы и названия, не изменяя своей сути. Оно может называться как угодно – то ли «мировым коммунизмом», то ли «глобализацией», но обязательно предполагает отречение человека от самого себя («и сотворим себе имя», Бытие, 2:4), от своей духовной природы, то есть уничтожение человека… Ныне, как и всегда, главной проблемой сохранения цивилизации является вопрос о человеке, о его природе, о сохранении его духовной сущности. Всё остальное зависит от этого.
Духовная же сфера человеческого бытия никогда не определялась и не управлялась законом, юридической практикой, что относится к социальному устройству жизни, но не к духовной природе человека. Во многой мере её постигает литература. Анна Ахматова постигала, преодолевая, и выражала в своём творчестве эту двойственность человека – его физиологической и духовной природы около полувека…
Но зачем же такому порочному обществу, в котором вместо культуры и литературы буйствует чертополох «шоу бизнеса». Зачем же ему истинная литература, которая разоблачает и уничтожает сатанизм? А потому литература изгоняется из общественного сознания, оставляя лишь имитацию её, этот сатанизм пропагандирующую…
А оценка этому явлению в наше время литературой уже дана. На духовном, образно-поэтическом, смысловом, метафизическом уровне. Скажем, в стихах выдающегося поэта нашей эпохи Юрия Кузнецова. Это – отступление от своей веры:
От вечной книги дым валит,
В ней выгорают строки.
Мир покосился, но стоит…
Ещё не вышли сроки.
И как неизбежное следствие вероотступничества – вырождение человека:
Гори огонь! Дымись библиотека.
Развейся пепел по сырой земле.
Я в будущем увидел человека
С печатью вырожденья на челе.
Но по той незримой закономерности бытия, изложенной в Откровении, иначе и быть не может, как уже было, о чём А. Блок писал 9 января 1918 года: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому великой».
Так уже было и так неизбежно будет.
Пётр ТКАЧЕНКО
...тем более что жизнь…
Ежегодная осенняя встреча российских писателей и поэтов на даче Максимилиана Волошина

Когда последние пару десятков лет слышал слово КРЫМ – у меня, по мере взросления, как у человека ещё из СССР, возникали ассоциации: «Артек» (в 8-ом классе был), Украина, Севастополь, Грин, Зурбаган, Волошин, «Крым наш!», почему-то Мариуполь и Зеленский, Чёрное море.
Вот такой букет.
Через 50 лет повезло здесь оказаться. Пишу эти строки прямо в утреннем кафе на набережной Коктебеля. Чувствую себя Хемингуэем.
От перечисленных ассоциаций осталось только Чёрное море, Грин, Зурбаган и Волошин.
Море и Грин для меня взаимосвязаны. Но на Черноморском побережье Краснодарского края, где я прожил четверть века, они никак не рождались, не связывались.
А здесь выстрелило! «Здесь» – это в Коктебеле на ежегодных осенних встречах писателей и поэтов на даче М. Волошина.

Программа, расписанная с 5 сентября на всю неделю, богата встречами, семинарами, докладами известных писателей и поэтов, песнями, спектаклями, общением вне расписания. На последней графе в этом насыщенном впечатлениями празднике, я и хочу остановиться. Хотя бы потому, что я не репортёр, который «даже о Волошине может что-то сказать», а приглашённый сюда «известный узкому кругу лиц» писатель. Хотя с этим определением своего статуса я бы тоже поспорил. Какой я в … «Писатель»! Рядом пробегал!
Я тут умудрился за предоставленное мне удовольствие прочесть действительно хороших писателей. ОЧЕНЬ ХОРОШИХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. Помогла моя ненавистная ближайшему окружению привычка просыпаться и вставать очень-очень рано. Я, этой своей дурацкой особенностью, даже оправдываю то, что я холостяк. (Знаю, что это почти ни при чём. Не подсказывайте!)

Впервые тут попал на съезд маститых писателей. Здесь в Коктебеле после двух докладов понял, что я НИЧТО, по сравнению с ушедшими и здравствующими, окружающими меня плотным кольцом бородатыми и седыми Авторитетами. Но я к этому был и есть всегда готов!
Я много-много лет ездил на все слёты, фестивали бардов. И был даже одним из организаторов их на Сахалине, Урале, Краснодаре. Потом перестал ездить. Стало всё это как-то обыденно. А был когда-то праздник единомышленников. И всё самое главное происходило вечером у костров, в их окружении. Вернулось моё поколение на кухню. Устали ходить уже и не в ногу. Расчехляю гитару только, когда приходят такие же седые друзья. Это происходит всё реже и реже.

На симпозиуме «Волошинская осень» я почувствовал то же самое. Утром и днём творцы мучаются протоколом, а вечером…. Всё и происходит, под чуть-чуть крымское вино (дорогое совсем), под шум волны возле столиков кафе, под бесчисленные монологи очень хороших писателей, актёров, поэтов, которым так надоело сидеть в своей социальной «заперти», что если бы не этот «симпозиум», то взвыли бы в небо своих окраин России сотни голосов Писателей, Личностей, Одиноких в своём Мире людей.

Спасибо организаторам за то, что они не устают это делать уже больше сотни лет. Спасибо Крыму, что он наш. Спасибо судьбе, что я вдруг оказался здесь. Увидел Зурбаган, крымско-уральские родные скалы, встретил действительно хороших современных писателей! Чего не чаял, честно говоря.
Возле моря, скал, очень неожиданно хорошей современной литературы, легче и самому в себе разобраться…
Сергей КАЩЕЕВ
Свежее из рубрики