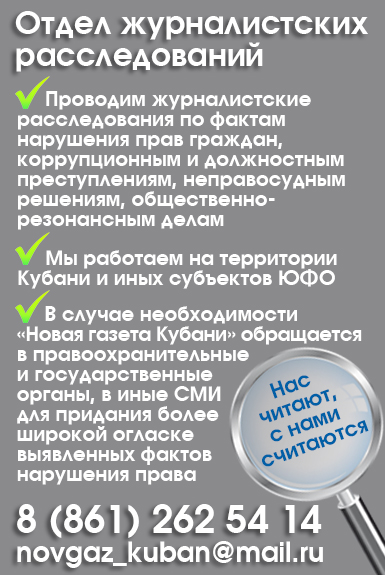Рассказ
2744
Только то, что имеете, держите,
пока приду.
Откровение святого Иоанна
Богослова. 2; 25.
– Никто не хочет жить своей настоящей жизнью. Не хотят или не могут. Мало кто может распознать свою судьбу, своё предназначение, предопределённое, единственное и неповторимое. Мало кто может распознать в себе свой облик, своё Божие подобие. Не себя в эгоистическом припадке провозгласить богом и царём всего сущего на земле. А открыть в себе Божие подобие. То наивно пытаются возвратиться в прошлое, словно это возможно, ища там ответы на донимающие их вопросы, которых там в готовом виде нет и быть не может. То опрометчиво порываются в неопределённое, пока неведомое никому будущее. А своей жизнью жить не хотят. Или не могут. Той жизнью, которая выпадает нам лишь единожды и которая такая быстротечная и неповторимая.
Многие из нас ведь только собираются жить, а не живут, вполне этого не осознавая. Нередко так всю жизнь и прособираются. Им всё кажется, что вот-вот наступит нечто самое важное и главное для них… Надо только подождать. Так всю жизнь и прождут. Наш бедный разум обязательно найдёт для этого какую-нибудь уловку, обоснование и оправдание. И убедит в этом душу, если она ещё не совсем ослепла. У меня в Москве был сосед, жил над нами. Лет тридцать делал ремонт. Как только выходные, так у него – стук, грюк, спасу нет. Куда собирался, к чему готовился человек, неведомо. И так – пока не съехал. Уверен, что и на новом месте, тем более, он будет так же собираться жить. Займёт себя чем угодно, лишь бы не остаться наедине со своей душой. Лишь бы не узнать о своём собственном существовании.
С таких и подобных монологов начиналась обычно каждая наша встреча с моим давним товарищем, тоже офицером, полковником в отставке, коренным кубанцем Олегом Ивановичем Бережённым, последние годы проживавшем в своей родной станице К. Он с супругой Аллой Сергеевной, тоже станичницей, с которой они знакомы ещё со школы, на старости лет, по его словам, покинул столицу, вернулся на родину, оставив московскую квартиру детям, дочерям. И вот уже пять лет он жил в родной станице. На мой вопрос, не жалеет ли о том, что покинул Москву, он полушутя отвечал, что нечистая сила рыщет всюду, везде может найти человека. А уж там, точно найдёт быстрее. На это я утешительно шутил: ты ведь Бережённый, находишься под высшей защитой…
Я-то догадывался, хотя он и не говорил об этом, почему он решился на столь крутой поворот в своей жизни. Хотя он прекрасно знал, что после шестидесяти человеку уже нельзя резко изменять свой образ жизни. Заново ведь жизнь не начнёшь, а годами и десятилетиями сложившийся уклад поколеблешь, а то и разрушишь. И выберешься ли из-под его обломков, ещё не известно.
Дело в том, что Олег Иванович был ранен на афганской войне. Он был тогда молодым майором, командиром батальона. Взорвавшаяся рядом граната хорошо его изрешетила. После долгих операций врачи сказали ему, что все осколки вынули, но один, у сердца, оставили, так как вынимать его небезопасно. Будешь вести спокойный и размеренный образ жизни, поживёшь ещё. Словом, переживания и треволнения, а уж тем более стрессы, были ему теперь противопоказаны. Да и не чувствовал он потом этой старой раны. Видимо, всё срослось, вошло в какую-то норму, ведь дело забывчиво, а тело заплывчиво…
Олег Иванович Бережённый был интересен мне не только как земляк-кубанец, был близок мне не по корпоративной солидарности, не только потому, что мы оба были офицерами. Он был, прежде всего, интересным мыслителем. Неслучайно последние годы службы он работал в каком-то аналитическом центре Генерального штаба. Его воззрения отличались какой-то удивительной стройностью. На мир, на происходящее в нём, на себя в этом мире. Всё нагромождение фактов и событий казалось и вовсе хаотичное, в его объяснении принимало удивительную цельность. Это и вселяло в меня уверенность и надежду. И становилось уже не так страшно жить в этом беспощадном мире, летящем неведомо куда. Он был из тех редких людей, какие теперь мне уже не встречаются.
Наши встречи с ним не были частыми, но для меня всегда становились очень значимыми. Я даже готовился к ним, как школьник, прикидывая, что мы с ним должны обсудить на этот раз. И всякий раз, приезжая в свою родную станицу, выискивал время для встречи с ним. Мы заранее созванивались, и я ехал в его станицу на рейсовом автобусе. Обычно это было в золотые предосенние дни.
После первых расспросов мы усаживались под виноградным навесом. Алла Сергеевна обычно в наши разговоры не вмешивалась, не встревала. Она приносила жареную рыбу. Олег Иванович, зная о моём приезде, заранее ловил её в Челбасе. Как он уверял, на донки и закидухи – приличных карпов и радужных окуней. А, может быть, покупал на рынке. Этого я не уточнял. В то время он был ещё крепок, даже моложав, несмотря на приближающееся семидесятилетие. С густыми чёрными, даже смолянистыми волосами, лишь подёрнутыми искрами седины. Но виски и усы были уже почти белыми. Плотный, широкогрудый. Он и теперь мне видится таким под своим виноградом, в тёмно-зелёной камуфляжной форме, грузновато опершись на стол, сопровождал свои рассказы медленным движением руки.
Переезд из столицы на постоянное жительство в родную станицу не стал для него каким-то эмоциональным потрясением. Всё произошло естественно без особых волнений. Ведь он так и не оставил свою родительскую родную хату, перешедшую к нему по наследству. Несмотря на беспокойную офицерскую службу, они с женой постоянно приезжали до ридной хаты, находившейся под приглядом соседей, а более – под Божьим присмотром.
С годами, со временем ежегодный приезд в станицу стал в их жизни каким-то ритуалом, не вполне осознаваемой необходимостью, наполнявшей их жизнь смыслом. В чём состоял этот смысл он и сам не смог бы ответить, если бы его спросили об этом. Иногда ловил себя на мысли, что не знает, зачем он едет в станицу, где его никто не ждёт, кроме родительских могил. Особенно в первые дни по приезду. Вид родного дома, заросшего бурьяном, и вовсе повергал его в уныние. Причём каждый год преобладал тот или иной вид бурьяна – то коричневые метёлки конского щавеля, то крепкая, дротяная серебристая лебеда обступала хату, поддающаяся только топору. Дня три-четыре он боролся с этими бурьянами. И по мере того, как двор приобретал прежний, благообразный вид, успокаивался.
Но вид ветшающей на глазах родительской хаты, требующей хоть какого-то ежегодного ремонта, наталкивал его на печальные размышления о том, зачем он это делает. Ведь приезжали они всего на месяц-полтора. Остальное время сиротливую хату продували сырые кубанские ветра, мыли дожди, весною обступали со всех сторон непролазные бурьяны. И он не находил себе самому внятного ответа – зачем он это делает.
Теперь он естественно вписался в сельскую станичную жизнь. И будучи по специальности китаистом, вел в своей родной школе детские группы английского и китайского языков. Это было необходимо и своевременно, так как станицу всё более и более наполняли китайцы, раскинув на когда-то пшеничных полях, бесконечные теплицы, издали серебрившиеся белой полиэтиленовой плёнкой, бреющей как мираж.
Как истинный кубанец, он так и не смог окончательно оторваться от своей малой родины, от станицы. И где бы ни был, где бы ни приходилось служить, в отпуск они семьёй приезжали сюда. Ведь были живы родители. Привозили дочерей к дедушкам и бабушкам. За всю свою долгую офицерскую службу, он так и не воспользовался правом на санаторное лечение. Для него лучшим лечением была и оставалась станица.
С Олегом Ивановичем мы познакомились давно, в Москве. Не могли не познакомиться. Каждого встречаемого мной кубанца я непременно расспрашивал, пытаясь побудить к воспоминаниям, находя в этом немало ценного и для себя необходимого. Но с ним мы сошлись в самом конце восьмидесятых годов не на этой почве.
В то время я работал в отделе литературы и искусств центральной военной газеты «Красная звезда». Афганская война, к тому времени уже завершающаяся, представлялась мне событием эпохальным, таинственным и каким-то поворотным во всей нашей жизни, государственной и народной судьбе. Я стал вслушиваться в неё, жадно ловя доносящиеся «из-за речки» звуки. Это были прежде всего, – воинские песни, исполняемые под гитару, вдруг хлынувшие в нашу жизнь. Песни пронзительные, волновавшие людей даже вроде бы, далёких от где-то происходивших военных событий. Некоторые из этих песен до сих пор таятся в моей душе, иногда вдруг всплывая, напоминая о пережитом во все эти годы: «Над горами, цепляя вершины кружат вертолёты, / Где-то эхом вдали прогремели последние взрывы, / Только изредка ночью взорвут тишину пулемёты, / Проверяя: а все ли мы живы?../ …По афганским дорогам пришлось нам проехать немало, / Мы тряслись в бэтээрах, нам небо служило палаткой, / И надолго под звёздами твёрдым законом нам стало – / Не искать на земле жизни сладкой…». Я встречался со многими ветеранами этой войны, их родными, собирая и издавая воспоминания, дневники, письма. Тогда и познакомился с Олегом Ивановичем. Но как часто бывает, мы как-то потерялись в суете повседневности. И вот теперь вновь встретились, когда он вернулся в родную станицу.
Теперь же я приезжал к нему в станицу и с практической целью. Дело в том, что, когда стало абсолютно ясно, что в нашем обществе произошло, казалось, немыслимое и невозможное, – русская литература, как форма народного самосознания, стала вытесняться, а по сути, уничтожаться, изгоняться из образования, – я предпринял выпуск своего авторского литературного альманаха «Солёная Подкова». По названию уникального грязевого лечебного озера близ моей родной станицы. В нём я представлял свои литературные опыты. Но хотелось расслышать то, о чём думают на руинах нашей растерзанной жизни другие люди. Я пытался представить в своём альманахе наиболее талантливых из них. Таким глубоким мыслителем мне и представлялся Олег Иванович Бережённый.
Я даже подарил ему большую общую синюю тетрадь с шутливым наказом вернуть её мне заполненной его размышлениями и соображениями о происходящем ныне в мире, у нас в России, о том, что происходит с человеком. Что за время мы переживаем, что за эпоха наступила. И он согласился. Правда, в своей обычной шутливой манере сказал, что он-то попытается написать, но сейчас это ни к чему, так как слово перестало быть слышимым, и соль потеряла свою силу. Произошло нечто не со словом, конечно, а с людьми, с человеком. Но написать попытаюсь.
– Понимаешь, – говорил он, не спеша и раздумчиво, – что происходит теперь, в общем-то ясно. Но люди разучились различать смыслы не вдруг, конечно, и не сами по себе, но от насилий над душой человеческой. И от умножения беззакония во многих охладела любовь. Как быть теперь? Неведомо. Но то, что человек снова должен обрести способность различать смыслы – это, несомненно. Иначе он просто перестанет быть, перестанет существовать.
Человек ведь недостаточно силен, а потому и боится остаться наедине с собой. Его соблазняют грандиозные задачи, и он порывается спасать мир, уверовав в то, что он устроен неправильно. Но мир спасать не нужно. И создавать заново его не нужно, так как он уже сотворен. Человек уже пытался спасать мир и каждый раз только губил его. Спасать надо человеку самого себя, тогда все спасётся.
Сегодня уже очевидно, что если мир и погибнет, то не от ядерного оружия и не от экологических катастроф, а от вырождения самого человека. Чтобы устроиться хоть как-то на земле, он создал сложную и громоздкую цивилизацию, как средство жизни, а не её цель. Настроил атомных реакторов и атомных бомб. Но – ценой утраты себя. Он как бы спутал цель жизни и её средство. А при нынешнем образовании он просто не справится с управлением всего им созданного тогда, когда он был в естественном состоянии – реакторы выйдут из подчинения, и ракеты полетят не туда, куда он намеревался их направить…
А первые крупные пятна вырождения человека, преодолевшего свою греховность, мы видим уже сегодня в таких, казалось бы, передовых, развитых и цивилизованных странах. А как должен начаться этот поворот к естественному состоянию человека, неизвестно. По всей видимости, через какое-то потрясение или даже катаклизм. Люди ведь начали отказываться от самих себя, от своей духовной природы относительно недавно. Ну сколько тут прошло от эпохи просвещения и Вольтера. И трёх веков нет. По всей видимости, это был какой-то зигзаг в общем развитии человечества, обернувшийся каким-то глухим тупиком. И опять, как и всегда, и несмотря на просвещённость человека и несмотря ни на какую цивилизацию, со всей остротой встают все те же вопросы: Как устроен мир? Что есть человек, как и зачем жить ему?.. Ты скажешь, что многие люди, если не большинство из них, живут, не мучаясь такими вопросами, даже не подозревают об их существовании. Всё так. Но только это ничего не изменяет. Паршивая овца всю отару может завести куда угодно.
У нас в России с человеком происходит то же самое, что и во всём мире, иначе и быть не может. Но в своём усложнённом варианте. Катастрофа произошла, прежде всего в сознании и в душе, а не в обществе и стране. Враг наш, как и всегда – незрим и невидим…
Ну как же может устроиться благонамеренное житие, если человек поставил себя в центр мира, возомнив о себе невесть что. Наконец, понял свою святую зависимость от Творца, стал обращаться к нему с молитвой, с нею связал надежду на своё спасение. При этом не особо думая о самой молитве. А она должна быть точной. Ведь молитва праведников имеет гораздо большую силу, чем сила оружия, богатства и войска.
– Ты уже и в молитве усомнился, Олег Иванович, а не только в человеке? – спрашивал я его.
– Ну тогда скажи мне, почему наша основная Господня молитва «Отче наш», то есть та, которой Христос научал учеников своих как именно надо молиться, чтобы Господь услышал нас, так сильно отличается от «канонической», сегодня предлагаемой людям? Кажется даже, что Христова молитва подменена человеческой…
Вот как говорится в нашей нынешней молитве: «И остави нам долги наша яко же и мы оставляем должником нашим». Но в Господней молитве, приведённой в Евангелие от Луки, говорится иначе: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Грехи, а не долги… Мы ведь молитвою освобождаемся от многих грехов своих. Не от долгов, а от грехов. О каких наших долгах говорится в нынешней молитве?.. Долги, они в кошельке, а грехи – в душе. Иначе отрицается сама греховность человека…
– Постой, постой, Олег Иванович, – перебивал я его. Ты хочешь сказать, что у нас неправильная молитва, а значит она до Бога не доходит? Значит, предки наши молились неправильно? Мир-то стоит, не рухнул. Значит молитва до Бога доходила…
Стоит-то стоит, но уже покосился. И это мы теперь явно ощущаем. Об этом и речь, что прежде люди не переживали такого состояния. Ну да, человек извечно пребывает в брани духовной, извечно борется за свою душу среди сил зла. Но чтобы зло получало такое преобладание, как теперь, такого не было. И как выбраться человеку из этого морока, неизвестно.
Я хочу сказать лишь о том, что безбожники и неистовые атеисты миновавшего века лишь продолжили и довели до предела то, что так или иначе было в народе и раньше – недостаточно твёрдая вера.
Я не знал, что отвечать на это моему другу. То, что он говорил, было вроде бы правдой. Но неужто никто до него этого не заметил? Это не укладывалось в моём сознании.
Он провожал меня до автобусной остановки. Прощаясь, я напоминал ему о синей тетради. И потом ещё долго мысленно беседовал и спорил с ним. Не потому, что он был в чём-то неправ. Скорее я злился на себя, что сам не додумался до этого. Или это всё существо моё сопротивлялось, так как надо было пересматривать всё то, что казалось таким привычным и незыблемым. Человек ведь так просто не отказывается от того образа мира в который он уверовал, от тех убеждений, которые он приобрёл на перепутьях своего времени. Вне зависимости от того, истинные эти убеждения или ложные.
Но вместе с тем я радовался за Олега Ивановича. Не зависть, а тихая радость наполняла мою душу в беседах с ним. Он стал для меня неким неоспоримым примером, укреплявшим моё сознание. Ну вот есть же такой человек на этом свете, который не впал в соблазны своего времени, – думалось мне. И пройдя такой сложный путь, вернулся на родину, так сказать, к своим истокам и корням. Он, поскитавшийся по свету и многое переживший, был теперь в своей родительской, родной хате, где ему хорошо думалось, и как мне казалось, легко теперь жилось.
Для него настало время, если не подвести итог своей жизни, то осмыслить происходящее, добраться до его потаённых смыслов и тем самым сковать броню для души своей. Ничего уже, вроде, не предвещало никаких потрясений в его жизни. Но мы предполагаем, а Господь располагает. О, знать бы нам наперёд что и как будет. Но этого не дано знать никому, иначе и сама жизнь потеряет смысл и значение… И теперь думая о нём, вспоминая его, в моей уставшей памяти всплывает пушкинская строчка, кажется, характеризующая его судьбу: «Но примешь ты смерть от коня своего…».
Жена его Алла Сергеевна тоже, как было видно по всему, перешла из городской в сельскую жизнь без всяких потрясений. Как-то легко и естественно она вписалась в станичную жизнь, словно никуда и не уезжала. Словно основная её жизнь прошла здесь, а не по военным гарнизонам и не в столице.
С увлечением разводила цветы. На части большого приусадебного участка разбила огород, где ежегодно высаживала рассаду помидор, капусты, огурцов и баклажан. Причём, рассаду не только покупала на рынке, на станичном базаре, но и выращивала сама, в хате. С ранней весны она была полностью занята этими сельскими хлопотами. Завела кур и уток. Их двор уже ничем не отличался от соседских. Да и они сами внешне уже не отличались от тех станичников, кто жил здесь в поколениях испокон веку.
Но это – внешне. Поскольку они были и людьми интеллектуального склада, привыкшими размышлять о вещах отвлечённых, о смысле бытия, о происходящем вокруг, эти милые сельские заботы не могли исчерпать всех интересов и её, Аллы Сергеевны. К тому же в последние годы в станичную жизнь была привнесена прямо-таки трогательная, но экзотическая струя на самом деле невесть что и значащая: на фоне общего упадка жизни, было предпринято во многой мере декларативное возрождение казачества. Это дало повод многим людям вдруг, словно пробудившись, заинтересоваться своими предками, своими родословными, судьбами своих прадедов и дедов, многие из которых по жестоким условиям двадцатых и тридцатых годов миновавшего века оказались репрессированными и высланными в суровые края севера и Сибири…
Все они были уже реабилитированы, а репрессии на государственном уровне осуждены. Но хотелось какой-то ещё и другой, более полной правды и справедливости. И поскольку так называемое возрождение казачества, было предпринято не для действительного возрождения, а совсем для других целей, оно теперь и занялось исключительно установлением этой правды и справедливости, уже установленных. Словом, заплели людям все извилины. Их столичный знакомый полковник Безродный, в прошлом разведчик в одной из популярных газет поместил статью «Братья казаки. Возможно, они спасут мир». Уже речь шла не о России, а о спасении мира. Невольно думалось, что если человек, вроде бы, образованный, подвержен такой экзальтации, что и как он разведывал в бытность своей нелегальной службы…
Людям словно бы вдруг открылась во все времена ясная истина, которой крепится народ и страна, что уважение к своим предкам является верным признаком развитости человека и общества, отличающее его от дикости. При этом, многим, пустившимся на поиски своих истоков и корней представлялось, что там, в прошлом, где жили их предки, всё было прекрасно и достойно только подражания, что там таятся ответы на трудные вопросы нынешней жизни. Им, кажется, и в голову не приходило, что при всём уважении к предкам, в прошлом немало и такого, что лучше бы о нём не знать.
Алла Сергеевна попыталась разыскать старожилов, которые могли хоть что-то рассказать о её деде и прадеде. Но вскоре убедилась в том, что рассказывать о миновавших временах и её предках, по сути, уже некому. Надо было обращаться в архивы. Уж там, – полагала она, – всё точно и бесстрастно занесено на скрижали истории на все времена.
Из рассказов своей матери она знала, что дед её Малыш Фёдор Васильевич родился в 1870 году в станице Новонижестеблиевской, которая позже стала называться Гривенской. Был атаманом хутора Степного, позже ставшего станицей Степной. Был лишенцем, то есть лишённым избирательных прав. Заслуг перед революцией не имел. Осужден внесудебно за контрреволюционную агитацию и за агитацию среди хлеборобов против мероприятий Советской власти. Приговорён к расстрелу. И в конце 1931 года расстрелян. Виновным себя он так и не признал. К концу восьмидесятых годов реабилитирован, чохом, вместе со многими другими. Это то немногое, что сохранилось в семейном предании. Горько было осознавать, что предание сохранило не то, как жили-были предки, а лишь то, как они погибали.
Алла Сергеевна обратилась в краевой архив с надеждой узнать о своём деде нечто, такую правду, которая придаст ей силы жить дальше. Но каково было её огорчение и даже растерянность, когда из краевого архива ей ответили, что архивные «фонды Гривенского и Степного правлений были утрачены в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»…
Как же так, – недоумевала она, – жили люди, трудились, растили детей, пережили такую жестокую катастрофу крушения страны, в которой пострадали и вдруг оказывается, никаких следов, никаких свидетельств об их жизни не осталось, словно их совсем не было на этом свете… С этим не могла смириться её душа. Ведь так действительно не должно и не может быть. И она с новым азартом пускалась в поиск, уже ничего вокруг не замечая. Цветы она ещё поливала, но огород окончательно забросила. На рейсовых автобусах ездила по станицам, сначала в Гривенскую, а потом – в Степную в надежде, что там хоть что-то помнят о её деде. Но сведения, добываемые ею, были столь скудны, что из них никак не складывалась цельная картина жития.
Оставалось обратиться в Федеральную службу безопасности по краю, ФСБ, с просьбой предоставить ей возможность ознакомиться со следственными делами по обвинению граждан станицы Степной в 1931 году. И с нетерпением ждала ответа.
Олег Иванович с какой-то тревогой наблюдал за новым увлечением жены. Он не мог определить причины, этой вдруг охватывающей его тревоги, но он явно её чувствовал. А потому начал осторожно её сдерживать, спынять:
– Слушай, мать, так он обращался к ней обычно, в присутствии детей. – Что-то ты совсем забегалась. Что ты ищешь?
– Да вот хочу восстановить свою родословную в назидание потомкам. И добавляла то, что было у всех на устах: надо вернуться к своим истокам и корням.
– А это возможно? – спрашивал он. – И как ты себе это представляешь? Вернуться ведь никуда невозможно потому, что жизнь человеческая не знает повторений. И если кто-то вполне серьёзно предлагает вернуться, то скорее всего тут кроется какая-то авантюра, какой-то подвох и обман.
– Но ведь надо знать историю своих предков. Что и как было, откуда мы пошли. Это ведь многое объяснит в нашей сегодняшней жизни.
– Разумеется необходимо это знать. Но какое может быть возвращение? К каким корням и к каким истокам? И потом, самое главное – такая постановка вопроса означает, что необходимо признать жизнь свою неправильной, ибо она была без этих корней и истоков… Ведь так получается? Значит надо признать, что вся твоя трудовая жизнь, уже закончившаяся, была неправильной. И вообще ты жила неправильно. Ты можешь согласиться с этим?
– Да нет, конечно, ты обостряешь всё.
– Но из такой декларации следует только это и ничего другого не следует. Хорошо, доберёшься ты до истоков и корней и что будешь с ними делать? Это поможет тебе жить дальше? А как ты жила без этих истоков и корней до этого? Разве неправильно? О своём происхождении, о своей родословной надо бы задумываться в начале жизни, а не, по сути, в её конце. Иначе это неестественно и как бы теперь ни к чему вовсе.
Разговор заходил в явный тупик. Не находя никаких аргументов для возражения, она замолкала и, кажется, обижалась и даже злилась. Не на него, а на эту заморочку, из которой не было никакого выхода.
После такого разговора они надолго замолкали, и каждый, в одиночку думал свою думу. Но так как это было невыносимо, он осторожно возобновлял разговор, пытаясь убедить и вразумить жену:
– Само по себе обращение к истории, ещё ни о чём не говорит. Оно далеко не всегда бывает во благо, не всегда спасительно. Более того, в нашей многотрудной народной судьбе оно нередко бывает лукавым, с подвохами, и направлено не на спасение, а на погубление наше. Увы, это так. Ведь об этом люди думали и до нас. Давай посмотрим, как это понимали наиболее проницательные из них. Скажем, в «Тихом Доне» Шолохова. Потому такие нападки на писателя и были, да и продолжаются, что он постиг и выразил то, что нам помогло бы не пасть, а устоять и сегодня. Ну давай вспомним. На хуторе вдруг неожиданно, как некий волхв, появляется какой-то Штокман. Создаёт подполье из наиболее неблагополучных людей, собирая их в хате косой Лукешки, поднимая их на бунт и на разрушение их же жизни. Сначала резались в подкидного дурака. Потом Штокман подсунул стихи Никитина и Некрасова. А затем – предложил почитать какую-то затрёпанную, гнусного вида тетрадку, которая называлась «Краткая история донского казачества». Но это была не история народа, а исключительно описание бунтов и нестроений. С откровенным издевательством над казаками. Тут люди и заволновались, заспорили.
Штокман этот, поднимая людей на бунт, и сам не знал конечной цели всего этого, так как он упрямо двигался к одному ему известной цели. Но точил как червь древесину, прогрызал сознание растерявшихся людей. Но это ведь цинизм неслыханный: использовать историю казачества для того, чтобы прекратилась история казачества, само его бытие…
Олег Иванович, пристально глядя на жену, спрашивал: «А ты уверена в том, что и нынешнее назойливое обращение, вроде бы к истории, не служит тому же самому? Не тех ли щей нам наливают, но в другую посуду?»
После таких вразумлений мужа Алла Сергеевна опять надолго замолкала. Между ними, уже прожившими вместе долгую жизнь, возникало отчуждение, чего раньше в такой острой форме не было.
Может быть, причиной таких размолвок было не только это стремление Аллы Сергеевны обратиться к своей родословной. Это было довольно распространённое явление, когда супруги, прожившие вместе довольно долгую жизнь, вдруг на старости лет начинали конфликтовать и даже расставаться, разводиться. Психологи и врачи даже говорят о том, что в таком возрасте, когда заканчивается физическое влечение друг к другу, окончательно проясняется, была ли между ними действительно любовь или же только совместное проживание. Печально, конечно, что это обнаруживается столь запоздало, когда ни начать заново, ни уже что-либо изменить и поправить невозможно…
В самый разгар этих странных препирательств и споров пожилых супругов Алле Викторовне пришло по почте извещение. Её приглашали в Федеральную службу безопасности, для ознакомления со следственным делом её деда Малыш Фёдора Васильевича. На следующий день ранним рейсовым автобусом ей предстояло ехать в Краснодар, в грозное ведомство, где, наконец-то, как она полагала, узнает всю правду о своём деде. И, как она думала, справедливость, пусть и столь запоздало, будет установлена.
Она, по сути, не спала всю ночь. Какое-то, неведомое ранее волнение и беспокойство охватывало её. Наконец, она вспомнила, что этот такой важный для неё день приходится на 25 августа. Это был знаменательный для кубанцев день, когда предки их, верные черноморцы по повелению императрицы Екатерины Великой переселились на берега Кубани, где им предстояла стража пограничная от набегов народов закубанских. Такое совпадение ей представилось добрым знаком, и она впала в забытье, пока третьи петухи не пробудили её.
Олег Иванович тоже не спал. Ворочался, вставал, выходил во двор, в сереющий рассвет. Нервно закуривал, хотя последнее время пытался воздерживаться от сигарет.
Собираясь, Алла Сергеевна, видимо, желая хоть как-то примириться с мужем, сказала: может быть, удастся заодно посмотреть дело и твоего деда. Как его – Захар Гаврилович Бережённый? Он родился, кажется, на хуторе Ангелинском? И был репрессирован позже моего деда? Олег Иванович ответил утвердительно, ничем не выказав своего отношения к этому, вроде бы доброму намерению жены.
В приёмной ФСБ на неё уже был заказан пропуск. Охранник вежливо указал, куда ей следует пройти. В пустом кабинете, где был только стол с двумя стульями её встретила женщина-прапорщик. Вежливо пригласила сесть. Придвинула к Алле Сергеевне тощую папочку и напомнила ей о правилах работы с документами. Делать выписки можно только касающиеся прямых родственников. Другие выписки делать запрещено. Женщина села напротив и включила настольную лампу.
Алла Сергеевна открыла тонкую папку следственного дела. Из него она узнала, что её дед, житель станицы Степной обвинялся в том, что в царской армии служил урядником. Избирался атаманом станицы. Имел большое хозяйство, используя наёмный труд. Имел дом, сарай, амбар и паровую молотилку. Двадцать пять лошадей, сорок коров, сто овец, семьдесят десятин посева. После революции, к 1927 году, у него осталось две лошади, две коровы, пять овец, восемнадцать десятин посева. Заслуг перед революцией он не имел. В 1921 году принимал участие в банде Рябоконя, путём снабжения продуктами и фуражом.
Из протокола допроса его следовало, что виновным он себя не признал. Был арестован по доносу. На пожелтевшем, даже уже коричневатом листе, корявым почерком был написан этот самый донос. Крупные нестройные буквы выдавали малограмотность его автора.
Из дела не было ясно зачем и почему, в силу каких обстоятельств и соображений неведомый автор писал это: «Будучи враждебно настроенным к Советской власти, проводит антисоветскую агитацию среди хлеборобов, в период хлебозаготовок среди собравшихся на базаре граждан, говорил им: «Куда вы, дураки, отдаёте хлеб, коммунисты его грузят в Ахтарях и вывозят заграницу, а потом и сами удерут, оставив нас без хлеба». У лавки ЕПО говорил: «Хлеб вывезли, оставляют нас голыми и босыми. Теперь все погибнем». Вследствие его выступлений и запугивания хлеборобских масс, из числа которых, часть подпав под его влияние, стали поддерживать его выступление и тормозить своевременное выполнение проводимых текущих компаний».
Имя человека, написавшего это, было аккуратно заклеено. Резолюция прокурора была такой: «С обвинительным делом согласен. Направлено для внесудебного рассмотрения. 19.11.1931 г.» В замысловатой подписи прокурора прочитать фамилию его было невозможно.
Алла Сергеевна глубоко вздохнула. И глядя на этот жалкий жёлтый листочек думала: «Неужели эта бумажка решила судьбу её деда?»
Из этой серой, невзрачной и тощей папки на неё повеяло вдруг каким-то непонятным, чужим, тлетворным и тяжёлым духом. Было невозможно даже представить, как люди жили в таком наваждении и мороке. Теперь всё это всплыло из какого-то чужого и неведомого ей мира, ничего общего не имеющего уже с её жизнью. И выплыло по её желанию и по её хотению, а не по чьему-то принуждению…
И как ни была Алла Сергеевна охвачена самим азартом поиска, она не могла не задуматься над тем, что не это хотела найти, а нечто совсем иное. Что именно, она и сама не знала, но только не это. Неужели это и есть то, что должно теперь помочь ей жить дальше, укрепить её растерявшуюся душу верой, привнести в её приближающуюся старость покой? Да нет же, здесь явно было что-то не так. И она начинала злиться на саму себя за то, что не может понять, к чему всё это, почему она здесь и зачем всё это читает?.. К чему теперь всё это ей? Хоть как-то поправить ничего уже было невозможно. Над всем этим теперь можно было разве только попечалиться и поплакать. А свою жизнь отравить этим тяжёлым духом можно запросто…
От этой догадки у неё как-то странно заломило в висках. Её поиск вдруг показался ей ненужным, но желая довести намеченное заранее до конца, обратилась к сотруднице архива:
– Знаете, я хотела ещё посмотреть следственное дело деда моего мужа. Он родился на хуторе Ангелинском, а жил в станице Степной. Захар Гаврилович Бережённый. Сослан где-то в 1929 году на Урал, как не пожелавший вступать в колхоз.
На это сотрудница сказала, что надо было бы сказать об этом заранее. На что Алла Сергеевна взмолилась:
– Муж мой – офицер, полковник в отставке. Когда ещё доведётся заглянуть в архив. Такое бывает, может быть, только раз в жизни…
Сотрудница задумалась. Потом сказала, что попробует найти. Забрала следственное дело её деда и куда-то ушла. Не было её довольно долго. Наконец, она появилась с новой папкой:
– На ваше счастье, – сказала она, – эти дела недавно просматривались и они оказались рядом.
И положила перед Аллой Сергеевной такую же тощую папку следственного дела Бережённого Захара Гавриловича.
Это следственное дело было, по сути, точно таким же, как и дело её деда. С той лишь разницей, что Малыш был расстрелян, а Бережённый уберегся и был сослан со своим многочисленным семейством в Свердловскую область, в Верхотурье… И донос был по сути, таким же – антисоветская агитация. И имя доносчика тоже было заклеено.
Правда, листая эти ветхие скрижали, Алла Сергеевна заметила, что имя человека, писавшего донос на Бережённого, было не так основательно заклеено, как в деле её деда. Уголок узкой полоски бумаги, которой заклеено имя, был оттопырен. А, что, если дернуть за эту бумажку, откроется имя, – подумала она. Но сотрудница архива сидела напротив неё и зорко следила за каждым её движением. Может быть, отвлечь её, попросить принести воды? Ведь тут и нужно всего лишь одно мгновение, чтобы дёрнуть за эту бумажную полоску…
И вдруг зазвонил стационарный, внутренний телефон. Аппарат находился на тумбочке у окна. Сотрудница встала, на несколько мгновений повернулась спиной к Алле Сергеевне. И Алла Сергеевна, уже готовая ко всему, охваченная каким-то азартом узнать имя этого негодяя, писавшего такие доносы, дёрнула за край бумажки.
О, если бы мы знали заранее, к чему приводит тот или иной наш шаг, тот или иной поступок, мы были бы, видимо, осмотрительнее в этом таком жестоком и вместе с тем прекрасном мире. Но этого нам не дано предугадать. Только слово точно указывает нам, что за ним последует, что будет, что произойдёт. Но слова этого мира уже давно обветшали, внешне ничем не изменившись. Мы видим их, читаем их, но смыслы их не пробиваются к нашему сознанию.
О, если бы Алла Сергеевна знала, что последует в её жизни за этим азартным и озорным желанием узнать имя доносчика, она бы никогда не дёрнула за краешек ту злосчастную бумажку. Но она этого не знала, а имя очень уж хотелось ей узнать. И она дёрнула бумажку. Под корявым текстом доноса стояло имя Малыш Фёдора Васильевича, её деда…
Всё вокруг пошатнулось, тёмные круги поплыли перед её глазами. Тяжёлый ком перехватил горло. Она тут же захлопнула это следственное дело, чтобы не видеть его никогда.
Зачем она это узнала? Неужто дожив до седых волос, она не знала, что не всякая правда бывает во благо? Но она действительно не ведала о том, что в правде, взятой без предела, ложь вылазит то и дело. И что теперь ей было делать с этой правдой, которой так хотела…
Подошедшей сотруднице она протянула следственное дело, отметила пропуск и в каком-то тумане направилась к выходу. Улица Красная, по которой она так любила пройтись всякий раз, когда оказывалась в городе, теперь её не радовала. Эта пестрота реклам, шум и беспричинное веселье вокруг, торговые лотки и палатки, за которыми торчали, нет, не люди, а какие-то уроды… Жующие, чвакающие, несущие несусветную чушь. И это творение Божие или итог эволюции многих веков? Зачем веками люди обживали дикие дебри, строили, пахали, воевали, рожали детей? Чтобы пришли эти выродки?
Она не помнила, как добралась на трамвае до автобусной станции, как брала билет и садилась в автобус до её станицы. Автобус медленно, нехотя выполз по узким улочкам на окраину Краснодара. За окном уплывала золотая предосенняя пора. На дачах копошились люди, дымились осенние костры. Мимо в своём движении великом проносились машины, но всё это было уже не для неё.
Вернувшись домой, она ничего не сказала мужу. Сославшись на усталость, хотела упасть на постель, забыться, заснуть навсегда, уйти из этого такого нескладного и страшного мира…
Олег Иванович, взглянув на жену, сразу понял, что произошло что-то ужасное в их жизни, чего они не ожидали и чего теперь, когда уж вся жизнь, по сути, позади, не должно было быть.
Но Алла Сергеевна молчала. Молчала днями, уставясь в какую-то точку. Никаких мыслей уже не было. Только тупая, всю её сосущая тяжесть. Она-то полагала, что зло таится где-то вовне. Оттуда совершает свои набеги на людей, на их души. Тут же было совсем иначе. Вещи этого мира предстали в её душе теперь уже в ином свете. И это не укладывалось, никак не могло уложиться в её сознании.
Олег Иванович всё же выведал у жены причину такой её быстрой перемены и болезни. На это он только и сказал:
– Ну, а чего же ты хотела? В такие времена хаоса, беззакония и революционного анархизма в безумие впадают все. Без исключения. И виноваты все. А ты думала, что правые воюют с неправыми? Нет, так не бывает. В такие времена всё устроено иначе.
Он всё так же работал, – читал, сидел за компьютером, выискивая информацию, размышлял. Что-то писал в синей тетради. Она всё так же возилась на огороде и в палисаднике. Но уже без былого увлечения и азарта. Теперь они больше молчали, лишь изредка перебрасываясь мало что значащими фразами. Да и о чём было говорить? Всё необходимое и важное уже было сказано. Им обоим с беспощадной ясностью открылась их дальнейшая жизнь, точнее, уже малый её остаток.
В тот год я впервые решил не ехать в станицу из-за карантина, эпидемии, а более из-за какой-то смутной тревоги, охватившей меня. Я-то думал, что после таких потрясений, какие мы пережили в последние десятилетия, жизнь наконец-то входит в свои привычные берега. Но оказалось, что это совсем не так, что мы, по всей вероятности, находимся только в начале каких-то потрясений, исход которых не дано предугадать никому.
Выбрался в станицу лишь к осени. Хоть как-то поправив приходящее в упадок подворье и ветшающую хату, я решил съездить к Олегу Ивановичу, от которого уже давно не было вестей. Но надо было предупредить его о своём приезде. И я позвонил ему.
Телефон взяла Алла Сергеевна. После приветствий как-то подозрительно молчала. А потом спросила каким-то упавшим, тихим голосом:
– Разве вы ничего не знаете?
– А что я должен знать?
– Олега Ивановича больше нет.
– То есть как нет?
– Умер. Этим летом.
– Коронавирус? – спросил я.
– Да нет. Врачи сказали, что это – старая рана его дала о себе знать. Осколок начал двигаться, видимо, от сильных переживаний. Ему ведь нельзя было волноваться.
Я спросил её о синей тетради. Но она никакой тетради не нашла. Она вообще уже мало что помнила. Да и о какой тетради можно было говорить, если больше не было его, Олега Ивановича Бережённого, вернувшегося на родину навсегда, где его и там, ничто не смогло уберечь.
В память о нём у меня ничего не осталось. Даже фотографии последних лет жизни. Но в своём архиве я отыскал его фотографию в молодости, сделанную сразу после возвращения его с афганской войны. Но она мало передаёт тот облик, то, каким он был в последние времена.
Свежее из рубрики