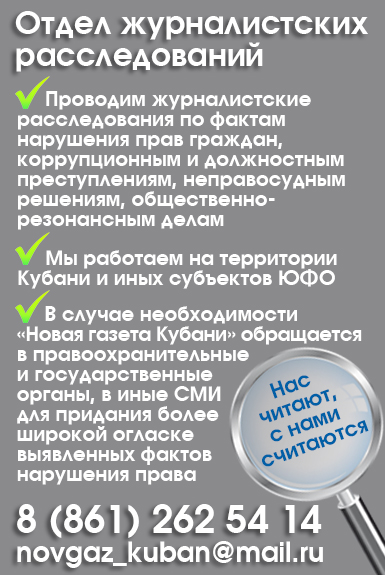Культурный проект «Родная речь»
2650
«Человек не повзрослеет, пока не научится понимать, принимать и прощать недостатки своих родителей».
Лев Толстой
«…Вот и воскресенье пройдет, а я опять ничего не успею. Диктанты надо проверить. На маникюр хорошо бы сходить: эти две козы с первой парты только и делают, что учительницу по косточкам разбирают. Белье высохло — надо гладить, хотя уже никто не гладит, силы экономят. Господи, а ведь мама бельё даже крахмалила!» Мысли летели метелицей и не оседали снежными сугробами. Ольга Петровна по привычке пошла варить кофе, по пути установив гладильную доску и воткнув шнур утюга в розетку.
Она как будто забыла, что воскресенье теперь свободно, можно не спешить включаться в карусель домашних дел. И вдруг получила удар в сердце — вспомнила… главное, больное, от чего не убежать, не спрятаться! Воскресенье есть, а мамы больше нет! По её вине нет!
Она осела на кухонную табуретку и заставила себя сделать глоток кофе, без которого в голове не рассеивался туман.
После привычного ритуала сознание наконец включилось, но не придало Ольге Петровне ни бодрости, ни спокойствия. Наоборот.
Перед ней открылась отчётливая панорама случившейся катастрофы и яркая картина её вины.
Взяв чашку с кофе, она, будто убегая от этой страшной картины, переместилась в комнату, села в кресло и предалась воспоминаниям, только не приятным, греющим душу, как о них поётся в песнях, а тяжёлым, жалящим, от которых, как от злого роя ос, ни отбиться, ни укрыться.
«Но уж какие есть, они все твои, терпи», — приказала себе Ольга Петровна и начала методично, с мазохистским наслаждением перебирать болезненные подробности своего последнего дежурства у мамы.
…Есть воскресный папа, а есть воскресная дочь. Ею она и была нескончаемо долгое, как ей тогда казалось, время.
По-хорошему, маму давно надо было забрать к себе. Но та не хотела или делала вид, что не хотела, расставаться со своим домом, а главное, стеснялась зятя, мужа Ольги Петровны.
Честно говоря, Ольге Петровне и самой было неловко нагружать мужа, у которого есть и своя ноша — одинокая старушка-мать.
Но если тёща могла ещё и суп сварить, и лёгкую постирушку затеять, то дворянских кровей свекровь знай себе книжки читала и прогуливалась по двору, заложив руки за спину. Зато внуки её слушали, открыв рот: как она гимназисткой, а потом институткой была, как в полевом госпитале перевязывала бойцам раны. Не бабка, а живая история.
Зато у другой бабки дети были и сыты, и присмотрены, что позволяло их родителям спокойно работать.
Но это дело прошлое.
«Далёкое прошлое», — вздохнула Ольга Петровна и вернулась в мыслях к недавним временам своей, как сейчас модно говорить, карьеры воскресной дочери.
С тех пор, как мама сломала ногу (хорошо хоть не шейку бедра!) и передвигалась с «этажеркой», то бишь медицинскими ходунками, по комнатам, на улицу не выходила, характер у неё совсем испортился.
Уставшую от тяжелых сумок, запыхавшуюся воскресную дочь почти всегда в отчем доме встречало угрюмое молчание или сердитое бурчание.
Когда-то лёгкая на подъём хлопотунья-хозяйка теперь как нахохлившаяся птица на ветке сидела перед телевизором и раздражалась.
С тех пор, как «сняли» её кумира — Михаила Горбачева, она всё и всех критиковала, особенно Ельцина. Ольга Петровна, наоборот, любила Ельцина, уж очень он был похож на покойного отца. Мать, конечно, тоже заметила это сходство, но по привычке скрывать свои чувства с вызовом заявляла, что видеть не может «эту харю». А сама тосковала и долго не могла осознать, что отец не просто вышел из дому по делам, а ушёл навсегда, безвозвратно, что «уже и косточки его сгнили», как случайно слетело с языка его дочери.
Вот за эти «косточки» Ольга Петровна будет винить себя до конца дней — так эта жестокая фраза огорчила, нет, просто убила мать — несгибаемую мужественную женщину.
Оказывается, суровая и непреклонная Васса Железнова, как называл её зять, обожала мужа. Но виду не подавала, как и отец, как и было принято в те суровые времена.
— Доча, — бывало, встречал на пороге Ольгу Петровну едва не плачущий отец, — бабушка совсем плохая!
На его языке это означало, что жена приболела и он пребывает в полной растерянности и отчаянии. Особенно настораживало в этой фразе употребление ласкового слова «бабушка», что у стариков бывало только в крайнем случае.
«Дед», «баба» — нежные и заботливые супруги стали так называть друг друга с появлением первого внука. По молодости, когда они стали родителями, обходились не только без нежностей, но даже без имён: говорили «отец» и «мать».
Удивительная тогда у людей была привычка: чуть ли не с первых дней совместной жизни смотреть на себя как бы со стороны — кем они являются не друг для друга, а для детей и внуков?!
Любовь, считалось тогда, это чувство для очень молодых. Проявлять её супругам было стыдно даже в сорок лет, не говоря уже о более зрелом возрасте. Даже называть друг друга по именам считалось чуть ли не нарушением приличий.
— Дед так просил полежать с ним, когда болел! А я, балда, не согласилась, — горевала мать, уже став вдовой. И покаяние это можно было считать настоящим, хотя и запоздалым признанием в любви.
Уже после похорон, когда «какая-то дура вспомнила Катьку с шестой фермы» — подружку деда, о которой мать при жизни отца и знать не знала, Ольга Петровна лишний раз убедилась, как она его любила и ревновала.
...Отец был донжуаном и джентльменом, обладая врождённым талантом ненавязчиво, почтительно ухаживать за дамами. Всегда добродушный и обаятельный, он принадлежал к той редкой человеческой породе, которая всегда, как днище корабля ракушками, была облеплена друзьями и подружками.
Почти всех подружек жена знала, хотя ни за что и никому не призналась бы в этом. Она, такая гордячка, относилась к слабостям мужа снисходительно, никогда его не обсуждала и не осуждала, наоборот, подчёркивала властные полномочия в семье. Даже когда из небытия вынырнула «Катька с шестой фермы», мать, похоже, расстроилась не из-за Катьки, а потому, что обреталась та рядом с отцом несанкционированно, без её ведома...
Кстати, зять восторгался дипломатичностью тёщи, ставил её жене в пример и называл штурманом за бдительный контроль на дороге.
Даже с заднего сиденья автомобиля она давала водителю указания: «вправо-влево», «не спеши, ему некогда, пусть обгонит».
Отец только посмеивался над этой её привычкой, пропуская команды мимо ушей. Он вообще был человеком лёгким, не конфликтным. Когда чувствовал, что обстановка в доме накаляется, что мать с Ольгой, занятые каким-то неудачным шитьём, дуются друг на друга, громко и весело говорил им на суржике — кубанской смеси украинского и русского языков, бытовавшей на Кубани:
— Ну что, девчата? Дочка шие тай спивае, а мать порэ тай плаче?
И обе его женщины не могли не улыбнуться, потому что присказка попадала в самую точку.
Зато в вопросах, какую шляпу ему надеть под костюм или как ровно перевесить орденские планки на новом пиджаке, мать главенствовала. И галстук ему завязывала, потому что сам не умел.
…Любовь, оказывается, бывает разной. Но невозможно ошибиться, что то была любовь…
Давно прошло время, когда «мать-бабушка», красивая и сильная, наварив с утра кастрюлю борща, нагладив дочери школьную форму, прополов грядки в огороде и чуть-чуть подкрасив губы, опрометью бежала на работу, да ещё и сердилась, если отец останавливал служебную легковушку и предлагал её подвезти.
— Не хватало еще, чтоб люди сказали: парторг на работу жену возит! — выговаривала она ему вечером, накрывая стол для очередной делегации чехословацких колхозников. Она слыла искусной кулинаркой и безропотно брала на себя общественную нагрузку — угощать гостей из всех волостей и стран-побратимов, которые во множестве прибывали тогда в станицу с загадочной целью — по обмену опытом.
...С утра пораньше в дом завозились мясо из столовой, помидоры с поля, арбузы с бахчи, и хозяйка засучивала рукава...
Ольга Петровна не помнит, чтобы вокруг крутились помощники. Ну конечно, разве мать позволила бы себе эксплуатировать чужой труд? В своё оправдание она всегда шутила:
— Чем объяснять, как надо, легче самой сделать!
Она и делала, и всё успевала, и терпеть не могла жалобы типа «как я устала!». Ольга не помнит, чтобы мать хоть раз пожаловалась на усталость.
И по выходным не отдыхала, а бежала к соседям «на саман». Модно в те годы было сообща строить дома. Точнее, делать для них строительный материал.
На «саман» собирали всех родных, друзей и соседей. Босыми ногами месили глину с песком и навозом, добавляли солому, стружки, закладывали в опалубку и оставляли сохнуть, пока мастера не начнут кладку стен. На «саманах» всегда было многолюдно, шумно, весело. И мать с отцом, конечно, не могли не трудиться вместе со всеми.
«Что людЯм, то и нам», — часто говаривала мать и неуклонно следовала этому правилу.
Там же, в каком-то самане, до сих пор живёт потерянный ею камень из легендарного немецкого перстня.
Ольга, вырвавшись на неделю в Египет, вставила в пустую огранку красивый жёлтый топаз и надевает перстень как талисман, как мамино благословение.
Жаль, что невнимательно она слушала историю этого сокровища.
В памяти остался только смутный сюжет: когда через станицу гнали колонну немецких военнопленных, мать, любимой присказкой которой было «всех жалко», дала одному, самому тощему и несчастному, полбуханки хлеба, а он ответил ей золотым колечком, наверняка тоже родительским оберегом, от которого мать с испугом отнекивалась — мало ли что, да и равноценный ли обмен?
Справедливость всегда была её коньком. Однако перстень этот она по молодости всегда носила и с горечью вспоминала, как потеряла сверкающую бриллиантом стекляшку.
Мать, в чём тоже никогда не признавалась, любила красивые вещи, хотя в голодные послевоенные годы о них знали разве что полковничьи жёны, мужья которых дошли до Берлина и привезли домой и ковры, и сервизы, и красивые наряды.
А мать, волей-неволей став модисткой, шила себе и дочери платья из ацетатного шёлка и штапеля — в каждой семье тогда хранились такие обязательные «отрезы». До сих пор стоит у Ольги Петровны перед глазами яркая блестящая клеёнка на обеденном столе, раскатанный на ней кусок искусственного шёлка и пожелтевшие выкройки из газет, которые аккуратно раскладывает на ткани мама, собираясь шить дочке платье. Сама она новое платье даже надеть стеснялась.
Хотя в молодости была писаной красавицей, в чём можно убедиться, глядя на старое фото, где она в белой косыночке сидит посреди огромного, только что убранного поля, и выглядит по меньшей мере голливудской артисткой, наряженной крестьянкой. Да она и была похожа на Элизабет Тейлор. И лицом, и фигурой, и гордым взглядом из-под густых чёрных бровей.
Всех женщин её поколения унижала совковая нищета и безвкусица, но красавицы страдали больше всех.
Хотя вряд ли отдавали себе в этом отчёт. А если и отдавали, то прятали это чувство глубоко в душе.
Признаться в том, что ты мечтаешь о красивой и благоустроенной жизни, в то время называлось мещанством. Его высмеивали во всех газетах. «Мы знаем, есть ещё семейки, где наше хают и бранят, где с обожанием глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят!» — с детских лет Ольга Петровна запомнила эту басню Сергея Михалкова, без конца транслируемую по радио.
«Сытно как сало» — вот критерий всех советских кулинарных изысков. А эталон одежды — «лишь бы рукава не короткие», ведь почти всё покупалось и шилось «на вырост».
Ольга Петровна до сих пор жалеет, что на могильный памятник поставила, послушав окружающих старушек, которые убедили её в том, что «здесь покойница слишком молодая», не фотографию мамы — звезды Голливуда, а ту, на которой она действительно похожа на Вассу Железнову — хмурая, с поджатыми губами и тяжёлым застывшим взглядом.
Слава богу, что на весах горя и страданий после её кончины эта вина Ольги не самая тяжёлая.
С досадой и горечью она вспоминает каждый день, когда играла роль воскресной дочери. И это не оговорка: «играла роль».
Потому что, как всякий избалованный ребёнок, привыкла, что все услуги и благодеяния исходят от родителей к детям, а никак не наоборот.
Без всякой охоты входила она по воскресеньям в дом, сильно обветшавший без отца и неуютный без хлопот матери, и встречала там мрачную неприветливую старуху. Никакой радости при виде дочери та не проявляла.
Только по глубоким вздохам Ольга Петровна догадывалась, что её приглашают к диалогу, и начинала говорить сама:
— Ну что ты, мама? Задумалась о тяжёлом прошлом или опять смерть призываешь?
— Эх, детка, как мы жили! — со слезами в голосе отзывалась мать. — Разве сейчас так кто живет?
— Как? — притворно интересовалась собеседница, как будто впервые слышала о многодетной казачьей семье, в которой росли мать и три её сестры.
— На соломе спали, соломой укрывались… Одни сапоги на нас четверых... — и мать опять надолго замолкала. Словно спала с открытыми глазами.
Потом, вздрогнув, просыпалась:
— Но страшнее нет у меня в памяти ничего, как стоит перед глазами тот мальчик с оторванными ногами и его мать на коленях, которая каждого пробегающего хватает за полу, плачет и кричит: «Помогите!». А чем я ей сама с маленьким сыном могу помочь?
Ольга Петровна знает эту страшную историю про то, как мать с её старшим братом, пятилетним малышом, выскочили из разбомблённого поезда и побежали через поле кукурузы, которое совсем не скрывало их и других пассажиров от страшных чёрных самолётов.
Но мать всегда вспоминала этот день не как страх и ужас, а как вину перед неизвестной женщиной с её искалеченным сыном. И, чтобы освободиться от этой ноши, часто задавала себе и дочери один и тот же мучивший её вопрос:
— Ну чем я могла им помочь? Тут бы Николая уберечь от бомбёжки...
До сих пор она стыдилась того, что предпочла спасти своего, а не чужого сына. Ну что за человек?!
— Нет, расскажи лучше, как вы раньше жили, — торопилась увести мать от болезненной темы Ольга Петровна. Впрочем, и детские и юношеские воспоминания довоенного поколения тоже не отличались ни ностальгией, ни романтизмом.
И всё же надо, надо было выспросить подробности о предках: и о многодетной казачьей семье, и о том, какой младшенькая, Вера, была бесприданницей, когда выходила за отца замуж, и как будущая свекровь выговаривала сыну:
— Не бери Верку, она бедная!
Ольга Петровна и сама часто возвращалась мыслью к этому сватовству и лишний раз удивлялась мудрости матери, которая, наученная горьким опытом, затаив неприязнь к свекрови, в любых конфликтах дочери с мужем брала сторону зятя.
— Ты своя, рассердишься, да и простишь, — объясняла мать. — А он всё-таки чужой — не дай бог обидится на нас, и на тебя тоже, и что нам тогда делать?
Было, было чему поучиться у древней старухи! Но... Ольга выросла такой же быстроногой и лёгкой на подъём, как мать. Только они разошлись во времени, поэтому постоянное стремление дочери, не дослушав, спешить и бежать куда-то, раздражало старушку. Она хотела бы сидеть рядышком, потихоньку и долго толковать о жизни и политике, которой она как жена парторга в мирной жизни и комиссара на войне всегда живо интересовалась.
Долгое время она терпеливо сносила Ольгину непоседливость. И всё же договорилась до прямых упрёков:
— Некоторые дочери и работу бросают, чтобы побыть с матерью.
Ольге Петровне до сих пор стыдно, как злила её тогда эта фраза, повторенная не раз и не два…
Сейчас, перейдя из-за ухудшающегося здоровья на полставки, она часто задаёт себе вопрос: «И что такого мать сказала? Правду! Надо, надо было работу бросить! Забрать маму к себе, вовремя кормить, давать лекарства, укрывать тёплым пледом — у неё ведь всегда спина мёрзла, как у меня сейчас! Э-э-х… почему я тогда не постарела, чтобы знать всё про старость? Однако могла бы и догадаться. Столько читала, такая умная, а не понимала самого родного и близкого человека! Потому что эгоистка бесчувственная… И живи теперь с больной совестью! Заслужила!».
— Детка, открой верхний ящик комода, — вместо прощания всегда просила мать.
— Похоронное приданое перебирать? — усмехалась гостья. — Я всё видела, всё помню, мама, успокойся, всё цело и на месте.
— Да как же не надо?! Надька, сестра моя, целый чемодан приданого в дом престарелых увезла. А похоронили её в казённом застиранном халате!
— Мамочка, ну при чём тут тётя Надя и дом престарелых? Мы что тебе, чужие люди? Не похороним по-человечески? И потом, сколько раз тебе твердила: не надо о смерти думать, накличешь...
— Да я смерть зову, зову, а она не приходит, — смиренно, с застенчивой улыбкой отвечала мама. — Все мои ровесницы уже на кладбище, а я до сих пор здесь. Столько жить стыдно. Это людям на смех.
— Ты перед людьми всегда виновата! Даже в том, что не умираешь с ними вместе! Хотя как это практически возможно, подумай?! У каждого свой срок!
Ольга Петровна говорила машинально, неискренне, сама же понимала, что материны годы — это очень глубокая старость.
В Песне Песней, кажется, отмеряно: дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим…
— Лечу — это я, — отмечала про себя Ольга Петровна, — и уже подлетаю к предельному сроку. А для себя так и не пожила! Сначала дети, потом внуки, теперь вот старики…
И ей становилось себя жаль.
Хорошо хоть любимый внук по-своему, жёстко, взбадривал захандрившую бабушку:
— Бабушка, ты просишь смертельную таблетку, чтоб выпить, прожить три дня, а потом умереть. А зачем тебе эти три дня, а? Значит, умирать на самом деле не хочешь?
Да что там внук! Все проявляли солидарность:
— Зажилась старушка, чего уж тут душой кривить?
«Жизнь кончена в 28 лет», — говорил Андрей Болконский, и Ольга Петровна часто его цитировала.
Теперь-то она знает: жизнь кончена, когда она завершена, — не раньше и не позже.
Но когда матери исполнилось девяносто два года, она к её предстоящей смерти относилась беспечно — старики уходят, молодые остаются. И... становятся свободными.
Разве могла она представить, что не облегчение для неё наступит, а чёрная бездна разверзнется перед ней? Что исполнять обязанности воскресной дочери — это, оказывается, был не подневольный труд, а огромное счастье!
...Недавно ей опять приснилась мама. Ольга Петровна чувствовала тепло её растворившегося во времени и пространстве тела и думала: «Надо подольше подержать её в своих объятьях, пусть хоть после смерти согреется возле меня».
Но и во сне, как когда-то наяву, начинала спешить, куда-то бежала, опаздывала, а проснувшись, чувствовала себя предательницей и горькой бесприютной сиротой.
— Поплачь, поплачь, меньше писать будешь, — послышался ей знакомый строгий голос — так мать всегда утешала маленькую Олю.
Ольга Петровна пыталась разозлиться, вспомнив хоть что-нибудь плохое о матери, а вспоминала только про себя: как однажды в приступе раздражения кричала на неё и остановилась только тогда, когда заметила, что по впалым морщинистым щекам побежали слезы…
Как в ответ на жалобы, что врачи не лечат, беспечно и жестоко отвечала, что они и молодых-то не лечат…
А отец? Разве нельзя было с ним посидеть, когда он умирал? Он, казалось, ещё вчера был полон сил, энергии, юмора… но потом стал заговариваться, ни с того ни с сего злиться на кого-то, сидел в дальней комнате на диване с мокрым платочком на лбу, который мгновенно высыхал, а он забывал его намочить… Ольга Петровна заглядывала к нему на минутку, опять на минутку, и убегала.
Потом они с мужем и мамой перенесли его с дивана буквально на пол — уложили на толстый матрац, потому что боялись, что он упадёт — он всё время куда-то рвался, куда-то хотел бежать, — и так и оставили. Оглядываясь назад, Ольга Петровна понимает, что для мамы, которая с ним не справлялась, это был единственный выход из положения. Но себя простить не может, особенно же за то, что, заехав к родителям на минуту (опять на минуту!), ей показалось, что отец спит и мерно дышит. А когда доехала до дома, соседка уже говорила в трубку как заведённая «всё, всё, всё»...
А ведь Ольга Петровна знала, читала, что умирающего надо обязательно держать за руку, чтобы ему было не так страшно уходить в неведомое...
Вот что стоило ей задержаться подле отца, подержать его за руку, погладить по голове, прошептать ласковые слова?
Ничего не стоило! Ну не приготовила бы семье ужин, сварили бы пельмени, напились чаю… И живы остались.
А отец ушёл. Один. В темноту. В неизвестность.
И мама, конечно, ему не помогла. Ещё чего, какие нежности! Да она и не поняла, что он уходит навсегда. До сих пор не поняла. Ждёт и страдает, но молчит.
…Где-то она читала, что человек, который плохо слышит, отдаляется от людей. А человек, который плохо видит, отдаляется от вещей. Мать уже плохо видела, и ей было трудно, почти невозможно обслуживать себя. Но воскресная дочь всегда об этом забывала и, перемывая сложенные в сушилку тарелки, имела совесть выговаривать:
— Мама, ты посуду плохо моешь, некачественно!
Перебирая воспоминания, как чётки, Ольга Петровна, как ни увиливала, всё-таки дошла до самого больного: маминой страшной гибели.
Можно утешать себя тем, что она сама её накликала. А можно честно признаться: это ты виновата! Ведь планировала в то воскресенье остаться у неё на ночь — даже пижаму с собой захватила. Потому что сердце предчувствовало беду.
И глаза мамины в последнее время стали вдруг абсолютно прозрачными, бездонными. Как будто она смотрела уже не в этот мир, а в другой, потусторонний… Где-то она читала, что такой взгляд — знак скорой смерти.
Что на месте Ольги Петровны сделал бы умный человек? Прислушался к знакам, вспомнил бы уроки классиков…
Нет же, учительница литературы отмела знамения напрочь и с удовольствием согласилась с мамой, которая в тот злополучный вечер скомандовала ей вернуться домой, чтобы утром успеть спокойно собраться на работу.
…В три часа ночи, когда позвонили соседи, всё было кончено. Ольга Петровна с мужем ворвались в задымлённый дом и нашли его хозяйку бездыханно лежащей у порога. Нос мама туго завязала косыночкой и, забыв о ходунках, в испуге проползла до двери через всю комнату. Значит, умерла не сразу, как задымилась электрогрелка и начался пожар, а пыталась спастись и попасть ключом в замочную скважину…
— Смерть от угарного газа — самая лёгкая, — утешал какой-то знаток Ольгу Петровну. — Человек видит красивые картинки, испытывает эйфорию и незаметно для себя умирает.
Но если мама защитилась от дыма косыночкой и попыталась выбраться из дома, значит, она умирала в полном сознании?!
Бедная мамочка! Я, только я виновата в её смерти, нет — гибели, и буду страдать от этой вины всегда, до самого конца!
…Допив наконец остывший, разбавленный слезами кофе и как будто почувствовав запах дыма, Ольга Петровна выскочила на балкон глотнуть свежего воздуха.
По тротуарам в такую рань уже брели люди, одетые в тёплые куртки. Мёрзнут, а на улице весна. А вот в квартирах холодно — отопление отключили не по погоде, а по графику. Плату же сдерут за полный месяц, и пожаловаться некуда...
«Вот, — тут же поймала она себя на брюзжании. — Была бы молодой, прикидывала бы, что надеть. А так... типичные старческие мысли.
Ну что же, ты и есть старуха. И жизнь твоя приближается к конечному сроку – к семидесяти годам».
...Недавно по телевизору показали столетнюю итальянскую старушку, которая после землетрясения двое суток провела под завалами дома в своей чудом уцелевшей комнате. Когда ее спросили, что она делала, бодро ответила:
— Вязала.
Когда на нее направили телекамеру, она попросила расческу — привести себя в порядок.
«Мама не дожила до такого возраста восемь лет. А могла бы дожить, если бы захотела. Если бы я захотела...»
— Ну что ты убиваешься? — утешают Ольгу Петровну друзья. — Нам бы столько прожить! Но зачем? Что может быть хуже беспомощной старости? Уж во всяком случае, не смерть. Умереть — это ведь перестать чувствовать своё дряхлое, больное тело. А тут... тебя просто нет. Значит, нет злой бессонницы, мучительной мигрени, рук с артритом, ног со вздувшимися венами...
Может мёртвым и легче, но как быть живым? Как им получить у мёртвых прощение, загладить свою вину перед ними? Как перестать терзаться?
...Ольга Петровна теперь в воскресенье свободна. Но свобода её простирается не до далёких тёплых морей, о которых она мечтала на дежурствах, а до кладбища, где она находит умиротворение и приют у двух белых могильных плит с портретами отца и матери. Она обнимает их, что-то шепчет, прислушивается, они как будто отвечают, и ей становится легче.
Ей кажется, что всё в жизни вернулось на круги своя: не дети, а родители жалеют и утешают своих детей, в чём и заключается незыблемый закон природы. И Ольга Петровна должна подчиниться ему, отбросить малодушие, овладеть собой и жить дальше.
— Давай твою маму к себе заберём! — вдруг предложила она мужу, чем очень его удивила. — Она ведь, ты сам говорил, лекарства пить забывает. И спина у неё мёрзнет, она мне жаловалась, а укрыть некому. А мы тут как тут, рядом всегда, не только по воскресеньям…
Свежее из рубрики