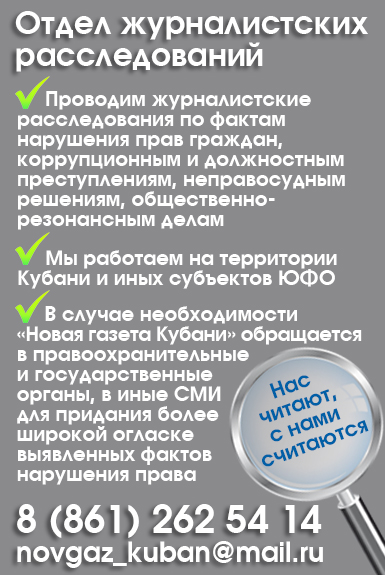Ко Дню кубанского казачества
2468
Потомственного кубанского казака из станицы Губской, что широко раскинулась в предгорье северного Кавказа, меня, естественно, с раннего детства интересовали этнические и православно-духовные корни моих пращуров, преисполненная тяжкого драматизма и многих, доселе неразгаданных тайн история казачества, великими трудами, воинской доблестью и ценой немалых утрат и достижений обжившего дикие степи Дона и Кубани, надёжно охранявшего южные рубежи нашего Отечества по высочайшему велению Великой императрицы Екатерины II.
Ясно помню, как загорались молодецким огнём глаза моего деда – Акима Ивановича Юдина, когда он усаживал меня рядом с собой и захватывающе повествовал о предках-казаках, о бесстрашных боевых походах в Первую мировую войну, как лихо на боевом скакуне вместе с фронтовыми товарищами преодолевал вражеские бастионы, геройски громил австрияков и германцев и получил из рук самого генерала А.А. Брусилова Георгиевский крест за отважное пленение в бою важного вражеского офицера…
А потом Аким Иванович неожиданно замолкал, мысленно перебирая события тех лет, и после долгой паузы с великой горечью в голосе продолжал:
– Бились жестоко, нещадно. Они стреляли в нас, мы стреляли в них. Мы атаковали их, они атаковали нас. Они убивали нас, мы убивали их. Казаки – люди набожные, перед боем истово крестились, целовали нательный крестик и едва слышно шептали: спаси Господи и сохрани, дай сил побить ворога да живым вернуться в отчий дом…
Только судьба не ко всем была милостива, не счесть, сколько моих одностаничников полегло на чужой земле. Вдоволь насытившись войной, сполна наглядевшись на свою и чужую кровь, невольно стал я крепко задумываться: кому и зачем эта жестокая бойня нужна?.. На убийствах ведь ничего хорошего не построишь. Я и мои собратья – казаки мечтали лишь об одном – поскорей вернуться домой, пахать, сеять, кохать любимых жён да детишек.
Судить-рядить долго на фронте мне не пришлось. Как-то ранком, ещё густой серый туман стелился по-над речкой, а солнышко едва занималось за горизонтом, казаки изготовились ударить во фланг спесивым австриякам лихой кавалерийской атакой.
Расположились мы, значит, на позиции за бугром, изготовились, ждём команду, успокоительно поглаживаем коней по тёплым шелковистым гривам. Чую, жеребец подо мной нетерпеливо сучит ногами, издаёт горячий тревожный храп, да и сам я волнуюсь не меньше коня, хоть и не впервой шёл в атаку. В голову настырно лезет чёрная мысль: есть такое поверье, коль лошадь под тобой фыркает, нервничает – жди, казак, своей погибели…
Наконец раздалась протяжная зычная команда крупного усатого есаула: «Эскадрон, то-о-всь! Шашки-вон!».
Холодно и зло блеснули в лучах восходящего солнца обнажённые шашки, приподнялись и нацелились вперёд длинные казачьи пики. Ещё миг – и гулкая неудержимая казачья лава сметёт каждого, кто посмеет стать у неё на пути.
Как вдруг со стороны австрияков донёсся пронзительный, быстро приближающийся вой: прицельно и густо нас накрыли снаряды тяжёлых немецких гаубиц. Казачий строй рассыпался, всадники и лошади погибали в обнимку на месте.
Не приведи Господь испытать ещё хоть раз такую страшную бойню!.. В один миг на месте эскадрона образовалось жуткое кровавое месиво из шевелящихся, захлёбывающихся в собственной крови людских и лошадиных тел. Лихая казачья кавалерийская атака неожиданно сорвалась…
Последнее, что припоминаю: командир эскадрона ещё пытался организовать атаку, вертелся, как ужаленный, в седле на вздыбленном коне, яростно размахивал шашкой, то изо всех сил надрывно кричал, то, охрипнув, едва слышно умолял:
– Сынки, куды вы, мать вашу так! Родные мои, поднимайсь! Вперёд! Двум смертям не бывать – одной не миновать.
Но всё напрасно: кони под всадниками будто взбесились, узде не повиновались, с выпученными глазами шарахались из стороны в сторону, натыкались друг на друга, дико визжали, сбрасывали с себя и безжалостно топтали копытами раненых казаков, а те в бессилии пытались закрыть головы руками, стонали и оглашали степь предсмертными душераздирающими криками от нестерпимой боли. Рядом полыхнул ещё один огромный столб огня и чёрно-красного дыма – и голос командира навеки затих.
В последний миг я ещё успел услыхать свистящий, раздирающий уши скрежет, в голове моланьёй пронеслось: «Вот и конец тебе пришёл, Акимка, эта бомба твоя», как взрывная волна с силой швырнула меня, подхватила, почудилось, будто я, как вольная птица, лечу куда-то вверх, всё ближе и ближе к огромному, брызжущему нестерпимо ярким светом солнцу…
А как падал на землю – уже не помню. Очнулся от дикой режущей боли в голове в тряской санитарной повозке. Вокруг меня установилась какая-то непонятная гробовая тишина. Хотел было привстать, но едва пошевелился, как снова впал в беспамятство.
Пару месяцев кряду валялся в госпитале тяжко контуженный. Поначалу лежал на койке пластом, не в силах ни говорить, ни слышать, ни толком есть и пить. Из ушей не переставала ручьём течь кровь, которую едва успевала вытирать добрая сестричка милосердия. Глаза, правда, не пострадали – отчётливо видел длинную белую палату с ранеными в окровавленных бинтах, но криков и стонов их не слышал. Вокруг меня установилась полная, непонятная тишина.
К счастью, слава Богу, остался живой, отлежался. Чуть полегчало, начал с трудом различать, о чём гутарят пострадавшие в боях, как и я, мои соседи-казаки. Но говорить не мог, на чьи-то вопросы только мычал в ответ, как корова, да крутил головой, мол, ничего не слышу.
Как-то при очередном обходе раненых подошёл к моей койке старенький, белый, как лунь, доктор. Пощупал крепкими толстыми пальцами мою голову в бинтах, быстро повертел её туда-сюда, как спелый гарбуз на станичном плетне, зачем-то мягко погладил мои руки, ноги. Потом, наклонившись к моим ушам, что-то сказал – раз, другой, третий, а я бестолково мотаю головой, мол, совсем вас не слышу. Доктор небрежно махнул рукой, неслышно дал какое-то указание красивой сестричке милосердия и направился к другой койке. Та быстро черкнула что-то в санитарной книжке и поспешила за доктором. О чём меж собой они обмолвились, я не понял.
– Слышь, Акимка! – тронул меня за рукав с соседней койки Парамон, казак-одностаничник, с которым служили в одном эскадроне. И в самое ухо мне громко проговорил:
– Радуйся, танцуй! Списали тебя подчистую. Дохтур кажить – усё, отвоевалси ты. Ухи твои вконец глухие… Отныне для боёв ты казак совершенно непригодный и некудышный. До дому как явишься – кланяйся моим. Не беспокой их, передай, мол, живой – здоровый я. Скоро, как чуток оклемаюсь, стану на ноги, и я вслед за тобой прибуду. Дома полный разор, надо будет усё приводить в порядок. Жёнка с малыми детишками уже который год одна бедует, как без мужика управиться? Всякий дом хозяином держится…
Но не успел я на другой день собрать свои нехитрые фронтовые вещички и выписаться из госпиталя, как Парамона злая смерть забрала, осиротила его бедных детишек, оставила вдовой несчастную жёнку.
Зашли в палату два дюжих санитара, небрежно опустили остывшее тело Парамона на носилки, прикрыли каким-то серым рядном – и не стало больше Парамона. Кто теперича знает, где его вечная могилка?.. Такая вот она, растреклятая мировая война. Не зря в народе говорят: кому война, а кому мать родна…
А вот о революции 1917 года и последующей кровавой гражданской бойне Аким Иванович рассказывал почему-то очень скупо, сдержанно и сильно волнуясь. Повзрослев, я узнал причину: от первого брака у деда было два сына: младший Иван – командир красной сотни погиб при ликвидации остатков так называемых белогвардейских «банд», не успевших уйти вместе с отступающей в Крым армией барона Врангеля.
А старший сын Дмитрий до конца преданно служил в кавалерии у белых, имел казачье звание подесаул. Его судьба так и осталась покрытой тайной.
– Митро сгинул в неизвестности. Отплыл, наверно, с отступавшими частями Врангеля в далёкую Туретчину, может быть, аж в самую Америку. Хто теперича знаить?..» – скорбно говаривал дед, смахивая слезу с худой морщинистой щеки.
…Будучи студентом-филологом института, на пороге зрелой и самостоятельной жизни, я внимательно вчитывался в бессмертные строки гениального шолоховского «Тихого Дона», живо представляя себе в образе главного героя романа Григория Мелехова старшего сына моего деда – чубатого казака Дмитрия: в чёрной черкеске с серебряными газырями, в лихо заломленной кубанке, смуглого, усатого, крутоплечего, навеки пропавшего в далёкой чужбине.
Красногалстучный пионер, изрядно начитавшийся книжек про «ненавистных белых гадов», я с дедом порой отчаянно спорил, кипятился, никак не мог взять в толк: почему он никак не поймёт, что советская власть дала людям долгожданное счастье свободы, равенство и братство?! А угнетатели и жестокие эксплуататоры – царь, помещики, капиталисты – злостные «классовые враги» трудового народа и потому-де по заслугам своё получили.
Дед искоса поглядывал на меня с умным старческим прищуром, неторопливо попыхивал дымком чубуковой трубки, изготовленной его умелыми руками, терпеливо выслушивал мои горячие ребячьи наскоки, потом, глубоко вздохнув, разглаживал прокуренные крепким табаком-самосадом усы и, устремив задумчивый взгляд куда-то в неведомую даль, тихо продолжал:
–Ничего, дорогой внук, время рассудит, кто правый был, а кто виноватый. Господь всё видит, всем судья. То, что ты книжки любишь читать– хорошо. Но не вся правда в книжках. Вся правда в Боге. Подрастёшь, поумнеешь, всё поймёшь…
–Да нету на небе никакого Бога, дедусь! – рьяно восклицал я. – «Религия – опиум для народа» – так учил великий вождь Ленин.
– Может и нету, – подумав, отвечал дед. – Но есть же какая-то огромная сила, что привела в порядок все звёзды на небе, образовала жисть и всю благодать на земле-матушке. Неужто всё само собой так вот и образовалось?..
–Дедусь, – не дослушав, не унимался я, теребя деда за рукав. – Скажи, трудно жилось казакам под гнётом помещиков и капиталистов?
–Жить трудящемуся человеку, внук, завсегда трудно, – раздумчиво отвечал Аким Иванович. – Но никакого гнёта казаки не знали. Мы изначально были вольными хлебопашцами, хлеборобами, честно жили и честно трудились, не гнались за богатством и роскошью, но всё необходимое для жизни имели. Каждый от зорьки до зорьки в поле работал на себя и свою семью. Не скрою, землицы у казаков было вдоволь, только не ленись, закатывай рукава, с любовью управляйся с ней – матушкой, и она ответит тебе добром, досыта накормит и напоит. Машин уборочных, конечно, таких мудрёных, каких ныне напридумывали, не было, поэтому земных угодий каждый брал себе столько, сколько мог обработать. Если на радость всей семьи рождался сын, знать, хорошая прибавка трудовых рук к домашнему хозяйству – на него на казачьем сходе дополнительно нарезали несколько десятин земли.
–А если рождалась девочка?
– Если девка, значит будущая невеста. Вырастет – станет красой – девицей. Обузы в доме не доставляла, напротив, училась у матери хозяйствовать, ухаживать за малыми детишками. Все знали: время подойдёт, её замуж засватают, пойдёт в дом своего суженого. Казачьи семьи тогда были большими, крепкими, друг от дружки, как нынче – чуть что не так, не разбегались, разводов не знали. Венчались-то в церкви, стало быть, на всю совместную жизнь, и только Бог вправе законных супругов разлучить, то бишь забрать навеки к себе на небеса… В одном только нашем доме проживало душ тридцать. Каждый знал своё место и дело.
– Всё работали, работали, а когда ж вы отдыхали? – допытывал я Акима Ивановича.
–Зимой, конечно, чуток было полегче. В православные праздники грех работать, обязательно ходили в церковь. Поздней осенью и зимой обычно справляли весёлые свадьбы. Но работы всегда было непочатый край. Надеяться было не на кого. Ближе к весне опять всё начиналось сызнова. Жили – не тужили. И трудиться умели, и отдыхать. А приходило лихое военное время – исправно несли службу родимому Отечеству нашему и Царю-батюшке.
– Но ты же сам, дедусь, говорил, что в горячую страду вы нанимали работников. Значит, эксплуатировали их?! – напористо гнул я свою «классовую линию», пытаясь как-то сопрячь услышанное в школе на уроках истории с воспоминаниями Акима Ивановича.
– Так какая ж то иксплитация?! – не сдавался, усмехаясь в усы, дед, намеренно искажая мудрёное слово. – При старом режиме пришлые мужики назывались иногородними, землицы своей они не имели, а потому ходили по хуторам да станицам, сами искали временную работу во время уборки хлеба, а мы не отказывали, хорошо им платили, да ещё и хлебушка вдобавок давали. Пшеничку надо вовремя покосить и быстро помолотить? Надо. Иначе она ждать тебя не будет, ещё в колосе осыплется, проворным сусликам да мышам достанется. А своих мужеских рук в семье порой не хватало, вот и нанимали работников в помощь, «иксплитировали», как ты говоришь. А ежели дожди зарядят да холода ранние нагрянут, что с неубранным зерном будет? Кумекаешь? Поляжет на поле драгоценная пшеничка, обсыплется и погниёт на корню, без хлеба останемся, голодать будем. Бывали лютые неурожайные времена, знаем, казаки на себе всё сполна испытали. Так что, внук, простым людям нечего делить, кроме собственного горя…
– Вот видишь, – наставительно поучал я деда с точки зрения вдолбленной нам классовой теории марксизма-ленинизма, – если бы казаки трудились не по отдельности, а в колхозе, как сейчас, им куда легче было бы работать в поле, растить хлеб…
–Легче-то, может быть, и легче, умник – разумник ты мой, – дивясь моему упрямству, отшучивался дед. – А кому наш заработок шёл бы в том колхозе – в чей карман? Ну-ка, прикинь, соображай своим умом! В государственный. Не казаку в дом. А государство-то – оно вон какое громадное да прожорливое, сколь его не корми – раскорми – всё равно не насытишь. При всём том в каждом царстве-государстве дармоедов знаешь сколько?.. У всех рот на добытый нашими трудами праведными хлебушек ой - какой широкий!.. Потому-то они такие наетые да напитые, что-то за всю свою долгую жизнь худых да болезных начальников я не видывал…
В зрелые годы понял я главное: надо бережно хранить в памяти каждую страницу нашего сложного, противоречивого и одновременно славного прошлого, избегать тенденциозных искажений и предвзятостей его толкования, предостерегать потомков от опасных, свойственных молодости, поспешных ошибок и заблуждений. И никогда не торопиться выносить своим отцам и дедам негативных, бездумно-осуждающих приговоров, ибо история многогранна, не терпит однозначных категоричных выводов и оценок. Как мудро заметил выдающийся русский историк-мыслитель, критик и публицист Вадим Кожинов: «Прошлое нужно изучать, а не судить».
…Печальная участь сыновей деда –молодых казаков на взлёте своей жизни, ещё не познавших счастья любви, добрых семейных уз, ставших друг другу до гробовой доски непримиримыми врагами, заставляла меня гадать и думать: казалось бы, что им было делить? Отчего так злобно друг друга ненавидеть?.. Почему оказались изломаны и исковерканы судьбы и души миллионов людей?
Как пишут историки, нигде не устанавливалась советская власть так кроваво и жестоко, как на казачьей земле – Дону и Кубани. В чём корневая причина нестерпимой взаимной вражды, которая охватила людей единого Отечества, говоривших на родном русском языке, имевших общие исторические, духовные, религиозные корни, и заставляла из года в год безжалостно друг друга истреблять?..
Вспоминая кровавую гражданскую междоусобицу, дед решительно осуждал обе враждующие стороны, с горечью подводя итог:
– И «белые», и «красные» одинаково виноваты перед многострадальной матерью-Россией. Большой грех большевиков в том, что они обещали дать людям свободу, равенство и счастье, а покусились на самое святое – православную веру, расправлялись над людьми ещё похлеще «белых». Насилием насилие не искоренить.
А «белые» – те тоже дурни немалые, – сурово насупив брови, осуждал дед. – Рази можно кровью удержать свою власть, усмирять голодных взбунтовавшихся людей?! Обе стороны схватились в нещадной драчке. О семьях своих, о детишках малых, о работе позабыли. Весна на дворе. Поля заросли густым корявым бурьяном. Земля осиротела, заждалась трудолюбивых людских рук, звала пахать, сеять, пасти скотину, а в разорённых и безлюдных хуторах и станицах страдали голодные, измождённые бабы с детишками, немощные доходяги-старики да измученные инвалиды войны вроде меня. Сколько людей было погублено зазря – числа нету. Как в Святом писании предсказано – так оно всё и случилось. Брат пошёл на брата, сын поднял руку на отца, отец на сына. Перестали бояться Божьего Суда, супротив Православной веры пошли, Сатане предались!.. Обезумел народ. Лютовал немилосердно, никто никого не щадил, не миловал. И что получили? Великое горе, море крови да слёз. До сих пор это горюшко расхлёбываем, всё разобраться не можем, на чьей стороне правда…
Помолчав, ласково погладив меня по голове тёплой шершавой ладонью, Аким Иванович негромко продолжал:
– Никогда не забуду, как уже в конце Гражданской войны в нашей хате нечаянно столкнулись лоб в лоб две моих кровинушки – сыновья Ванька да Митька. Старшой, Митро – «белый» спешно отступал со своими, наскоро заскочил повидаться, мать и меня напоследок обнять, да прихватить в неизвестную дорогу краюху хлеба, а другой с передовой кавалерийской частью «красных» уже вступал в станицу.
Вместо радости неожиданной встречи оба жуть как раскипятились, расхорохорились, как кочеты молодые, шашки свои из ножен повыхватили, чуть не зарубили друг дружку! Правда, я тогда, хоть и рана моя не зажила, при силах был, обоим неразумным чадам накостылял по шеям, как следует, заставил стать на колени, покреститься перед образами и хоть чуток в отцовской хате замириться…
А вот повидать живыми мне своих родных чад после того горького случая так Господь и не привёл: Митро бесследно сгинул за морями-океянами, а Ивана, убитого в густых кубанских камышах, я скоро схоронил. Вслед за ним слегла в могилу и моя дорогая жёнка, которая так исстрадалась, так извелась, что не пережила потери сыновей, помучилась-помучилась да и померла… За что ж нам такое наказание? Чем мы провинились перед Богом? Видать, за то, что забыли святые молитвы Господа, гробили друг дружку без пощады и совести…
Аким Иванович любил читать серьёзные книги. Для него это было неким священным ритуалом. Перед чтением он неторопливо надевал старенькие очки, осторожно, как особую драгоценность, брал книгу в руки, сначала ею любовался, мягко поглаживал ладонью обложку, степенно усаживался, а рядом на столе неизменно лежала школьная тетрадка, куда он записывал вычитанные умные мысли. Ни бабушка, ни я не могли его в это время беспокоить. Тишина в хате стояла гробовая.
Однажды особый интерес проявил дед к прозе Валентина Распутина. Прочитав за один присест его повести «Живи и помни» и «Деньги для Марии», он воскликнул:
–Это ж надо – писатель советский, а в душе христианин! Внук, ты обратил внимание на его слова? Вот, почитай. И дед показал мне старательно выписанные им в тетрадку слова писателя: «Человек в Родине – словно в огромной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он – духовный оборвыш, любым ветром его может подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу: человек, имеющий в сердце Родину, не запутается, не опустится, не озвереет, ибо она найдёт способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст».
– Какие же умные, доступные и поучительные слова! – долго не переставал восхищаться Аким Иванович.– Посмотри, что нынче в мире делается: кругом людское равнодушие, озверение меж собою, ненависть к своей Отчизне, где тебя мать на свет Божий выпустила, выкохала –вынянчила и в путь-дорожку снарядила. Выходит, утратили люди это самое необходимое, без чего жить нельзя, – неискоренимое чувство своей Родины. Потому-то испоганился народишко-то, духом вырождается, стыдиться-краснеть друг перед другом перестал – стало быть, совесть растерял, живёт-существует по неписанному сатанинскому закону – пусть тебе будет плохо, лишь бы мне хорошо. Ежели жизнь и далее так гадко пойдёт – нового всемирного потопа ждать не придётся, сами, как древние ящуры, повымрем…
Все, кто с моим дедом общался, отмечали его необычайное великодушие, подельчивость, гостеприимство. К нему часто заходили родичи, друзья-казаки, соседи, одни – вспомнить боевую молодость и Божескую жизнь при царе-батюшке, другие – за советом, какую лучше посадить картошку в огороде, другие – угоститься дедовским крепким табачком-самосадом, который он умело выращивал и с любовью обрабатывал в старом, густо пропахшем терпким сухим запахом сарае.
И для всех старик находил не только добрые слова поддержки, давал дружеские советы, но мог пошить новую или починить изношенную обувку, то есть был умелым шорником, отменно владел стамеской, рубанком, фуганком, зачищая доску до зеркального блеска – плотником был Аким Иванович знатным.
Не раз я замечал одну особенность: когда дед появлялся в кругу людей, их головы почему-то поворачивались в его сторону. Они, будто сговорившись, ждали, а что произнесёт умудрённый большим жизненным опытом Аким Иванович?.. Иногда, правда, он мог отпустить далеко не лестное словцо по адресу нерадивых начальников за то, что они не только не помогают народу лучше жить, а, напротив, злобствуют, заелись на тёплых должностях, мешают своими нелепыми указаниями сохранять и множить домашнее хозяйство станичников.
Особенно крепко от деда доставалось «лысому чёрту, неразумному Мыкитке», то есть самому главному начальнику всей страны – Никите Сергеевичу Хрущёву, который очень сильно ущемил жизнь селян: резко поднял налоги на землю, личное подворье, на содержание домашнего скота, разорил и без того небогатые колхозы и совхозы…
Даром Акиму Ивановичу крамольные речи не прошли. Кто-то из дотошных селян «стуканул» на деда, «куда следует», и солнечным морозным днём к нам в хату зашёл станичный участковый милиционер. Зашёл без стука в дверь, по-хозяйски, как к себе домой. Не поздоровавшись, не сняв фуражку, как принято у казаков, он прямо с порога сердито начал:
–Ты, Иваныч, знаю, старик не глупый, хозяйственный, книжки и газеты почитываешь. Табачок у тебя что ни на есть в самый раз. А вот на язычок ты больно остёр. Ты того, язычок-то, свой малость укороти, остерегись, не смущай соседей, небылицы им всякие – разные про наших любимых и уважаемых вождей не рассказывай. А то намотают тебе на всю катушку и загремишь под фанфары, как сын твой, Сашка…
–Ты, Петька, сына мово не трожь! – вскипел дед. – Его в ту дурацкую историю проходимцы всякие разные по молодости лет втянули. Вот отбудет свой срок и вернётся домой. Он честно воевал, две раны и контузию получил на Курской дуге. Его демобилизовали по ранению, не убёг он с фронта и не отсиживался, как ты, Петро, в станичных милиционерах. Он был и останется человеком, а не арестантом каким-нибудь паршивым…
– У меня, гражданин Юдин Аким Иванович, есть служебное предписание серьёзно побеседовать с тобой, зараз предупредить, - грозно повысил голос милиционер, больно задетый за живое напоминанием деда, что на фронте он не был ни одного дня.
– Я тебя, сам знаешь, сильно уважаю, ты войну мировую прошёл, сына своего младшого – боевого красного командира в Гражданскую потерял. Но болтать тебе лишнего не позволю. Права на то не имеешь! Вмиг упеку, куда надо. Небось, забыл, кому служил твой старшой-то сынок твой, Дмитрий?! Я тебе, старому хрену, напомню – царю он служил-выслуживался, казаков вёл против нашей дорогой советской власти. Ты хоть осознал, куда тебя упекут, ежели я сообщу о Петре туда, куда следовает?..
– Да осознал, осознал… – с досадой в голосе махнул рукой дед. – Какой же ты, Петро, стал занудный. Не по-казацки ведёшь себя. Не думал я, когда из ледяной полыньи тебя дитёнком, как щенка шелудивого, за волосёнки тащил и сам головой своей рисковал, что наденешь ты погоны и без меры возгордишься. Ведь вместе могли под лёд пойти рыб кормить, а ты тонул, барахтался в стылой воде и визжал, как ужаленный: «Люди, помогите!! Спасите!..». Знал бы, что ты выродком вырастешь, не сжалился над тобой, прошёл, себе, мимо. Не было бы теперь стервеца – милиционера Петьки. Да батьку твоего, покойного Парамона, вспомнил, царство ему небесное, с которым в атаки вместе ходили, кровь на фронте проливали, в госпитале месяцами валялись. И наказ его до сего дня помню – поберечь сирот-детишек его. Вот уж, спаси Господи, поберёг тебя на свою несчастную голову…
– Не я, другой бы служитель порядка нашёлся, ещё хуже тебе было бы, – уже примирительно сказал милиционер Петька. – И помягчевшим голосом продолжал:
– Что спас меня, за то тебе, Иваныч, великая моя благодарность, век не забуду. Потому-то и перехватил донос на тебя в «органы», сжёг дотла и пепел выкинул. Начальству наверх докладывать не стал. Понял, старина? А предупредить тебя от неосторожных шагов – по службе обязан, поскольку чёрных людей на свете ещё много шастает, и чего завтра от них ждать придётся – никто не ведает.
Уняв свой горячий казачий нрав, милиционер Петька и Аким Иванович присели рядом на лавку. Помолчали. Закурили дедовского самосада.
– Ну и крепкий же табачок у тебя, Иваныч! Одним духом его сыт будешь, – воскликнул довольный милиционер Петька. – И как это ты умело его растишь, выделываешь?..
Аким Иванович не отвечал, только тяжело, по-стариковски дышал.
Видя, что беседа мужчин вошла в мирное русло, бледная, до смерти напуганная моя бабушка чуть успокоилась, засуетилась, стала расставлять, как издавна принято у казаков, на обеденном столе нехитрую деревенскую снедь: алюминиевые миски с солёной капустой и огурцами, нарезала крупные куски домашнего хлеба, белого с розовыми прожилками сала. Угодливо пригласила незваного гостя к столу:
– Рады, что Вы нас проведали, Пётр Парамоныч, посидите, отдохните малость от трудов своих праведных. Небось, уморились. Спасибо Вам за великую доброту вашу, что не обижаете, сохраняете нас от злых людей…
– Может, дёрнешь-то стопку с морозца? – перебил бабушку недовольным голосом дед, подвигая ближе к Петьке чарку.
– Выпей, не боись! Донос на тебя не настрочу, бумаги тратить не стану, никогда в жизни таким делом не занимался. Согрейся. Служба-то, видать, у тебя, Петро, и в самом деле не мёд, паршивая. Ну-ка, во все глаза за людьми доглядай, начальству докладай. Эх, гляди – не гляди, а народу оттого не легче. Хреново, Петро, живём. Вот тебе мой сказ. Сам разве не разумный, не видишь?.. Отощал, измучился, Бога забыл народишко, оттого и душою портится. Строчат по ночам свои доносы охотники до этих грязных дел на самый верх, а там не до нас, поедом едят друг дружку.
Не став ждать, пока ему нальют горячительного и пригласят к столу вторично, Петька быстро повесил фуражку на вешалку, торопливо загасил недокуренную цигарку концом толстого указательного пальца, придвинулся всем телом ближе к столу, взял вилку, потянулся рукой к миске, подцепил солёный огурчик, ловко кинул его в свой большой, широко открытый рот и смачно зачавкал. А при виде наполненной рюмки на столе совсем расслабился: сменил нарочито грозный вид на милостивый, довольно улыбнулся, расстегнул сияющие золотом пуговицы форменного синего кителя, обнажив заметное круглое пузцо, и, дружески приобняв Акима Ивановича за плечи, уже совсем ласковым голосом доверительно сказал:
– Не откажусь, мамаша. Весь день, как бобик, на ногах, за порядком в станице слежу. Поесть нормально некогда. Спасибо за доброту твою и ласку!
И обращаясь к деду, продолжал:
– Я человек служивый, сам понимаешь, Иваныч, но толк в людях знаю – кто отец, а кто подлец. С гадами разными вот так, как сейчас с тобой сижу, рядом и на огороде, понимаешь, не сяду. А тебя уважал и уважать буду, поскольку ты, Иваныч, – человек. Понимаешь? Человек!..
Эта памятная для меня беседа продолжалась ещё долго, уже солнце закатилось за горку, и наступал холодный зимний вечер. В комнате стемнело. Бабушка зажгла высокую керосиновую лампу и прибавила фитиля, чтобы собеседникам было лучше видеть друг друга.
О чём ещё говорили Аким Иванович и милиционер Петька, я уже не слышал. Тревожное волнение бабушки, которое передалось на время и мне, наконец успокоилось, но я долго ещё не мог уснуть, беспокойно ворочался на старом дощатом топчане, под тёплым бабушкиным стёганым одеялом. Наконец заснул крепким, безмятежно-сладким сном, каким могут спать только малые беззаботные дети.
…Той ночью мне приснился какой-то странный и несуразный сон. Будто я в нашем станичном сельмаге долго примеряю на себя новенький милицейский китель с золочёнными пуговицами, а стоящий рядом мой дедушка вертит юлой в руках большую форменную фуражку и, улыбаясь, пытается нахлобучить её на мою голову со словами: «Носи, носи, внук! Служи в милиции исправно, как Петька Парамонов! А то твоего папку не выпустят из тюрьмы…»
Тут я должен сделать маленькое отступление от сюжета своих воспоминаний и коротко поведать: причём тут злосчастная тюрьма и как в неё попал на долгие годы мой отец – единственный сын от второго брака Акима Ивановича.
С раннего детства врезались мне в память имена и фамилии чуть ли не всех наших высших партийных и государственных вождей, соратников великого Сталина. И не случайно.
Не раз я наблюдал, как по вечерам, освободившись от хозяйственных забот-хлопот, Аким Иванович усаживался за стол на старинном скрипучем стуле, неторопливо брал чистый лист бумаги из школьной тетради в клеточку, осторожно макал пером в белую фарфоровую чернильницу и медленно, аккуратно и старательно выводил убористым подчерком: «Прошение о помиловании неправедно осуждённого сына моего, орденоносца, инвалида 2-й группы, участника Курской битвы с фашистскими извергами-захватчиками нашей великой Родины Юдина Александра Акимовича…»
Такие прошения последовательной чередой направлялись на имя Лаврентия Павловича Берия, Никиты Сергеевича Хрущёва, Георгия Максимилиановича Маленкова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Вячеслава Михайловича Молотова, Николая Александровича Булганина… Но желанного ответа о помиловании от высоких руководителей Аким Иванович так и не дождался: отец мой продолжал отсиживать свой срок. Из Москвы приходили какие-то казённые листы желтоватого цвета в больших серых конвертах.
Получив очередной такой конверт из рук почтальона под расписку, дед снимал с гвоздя большие портняжные ножницы, которые всегда висели на чёрном гвоздике, рядом с часами-ходиками, и очень осторожно надрезал краешек. Руки его при этом почему-то сильно дрожали, иной раз он даже ронял ножницы на пол. А бабушка, стараясь угодить деду, быстро их поднимала, подавала, и тот, собрав всю свою волю в кулак, наконец, конверт вскрывал.
Быстро про себя прочтя написанное, он медленно, всё ещё дрожащей рукой отодвигал казённый листок с печатными буквами в сторону, ни слова не говоря, поднимался и выходил из комнаты покурить.
Бабушка читать совсем не умела, брала в руки злосчастный листок с отказом о помиловании сына, несколько раз перекладывала его из одной руки в другую и начинала тихо, без слёз, стонать, не забывая при этом жалостливо гладить меня по голове большой натруженной ладонью.
Я тесно прижимался к тёплому боку бабушки и, не понимая причину охватившего нас семейного горя, но каким-то врождённым нутром его ощущая, быстро-быстро повторял:
– Бабусь, не плачь! Выкини эту поганую бумажку. Папка всё равно с тюрьмы скоро придёт!..
Какое же несчастье привело моего отца в тюремное заключение?
Дело в том, что, вернувшись с фронта инвалидом, он стал заведовать колхозной кладовой. Человека молодого, чрезмерно доверчивого, его скоро втянули в свою группу отъявленные мошенники во главе с неким Лазарем Камышанским, человеком не местным, прибывшим откуда-то из Западной Украины, который, ловко улизнув от призыва на фронт, окружил себя сообщниками, занимался подделкой страховых документов на имеющийся в частных домашних хозяйствах животных и делал себе на том доходный денежный навар, не забывая одаривать и своих подельников жалкими «премиями».
Отец мой нужен был Камышанскому лишь для того, чтобы получать у него продукты по липовым справкам, якобы для нуждающихся демобилизованных фронтовиков. Разумеется, фронтовики и знать не знали, что о них «заботится» таким мерзким образом «добрый» Камышанский. Да и отец мой, видимо, не давал себе отчёта в том, что ступил на очень опасную противозаконную стезю.
Следствие без особого труда установило имена главных преступников и немалую сумму нанесённого ими ущерба государству, но в число их по своей глупой доверчивости попал и мой отец. Времена тогда были суровые, отец схлопотал «десятку». Надо заметить, отделался он ещё сравнительно легко, поскольку главный заводила Камышанский и его присные получили по 25 и 20 лет тюрьмы и, насколько мне известно, никто из них домой не вернулся, закончив свой жизненный путь за решёткой…
…Свалившееся невесть откуда огромное горе потрясло до основания нашу семью и омрачило всю жизнь.
«Его отец сел в тюрягу, а мать бросила!..» – эта обидная фраза в устах чужих, озлобленных людей колола меня в самое сердце, ведь дедушка мне объяснял:
–Запомни, внук, твоя мамка тебя не бросила, а оставила нам на время, пока на новом месте не трудоустроится, не обживётся…
Но что-то у мамы не заладилось, «трудоустраивалась» она почему-то очень долго, несколько лет. Не раз пыталась вернуться на Кубань, меня навещала со слезами, горячо прижимая к груди, вся трепетала, как осиновый листок, хотела, было, забрать с собой. Но дед её отговаривал мудрыми словами:
– Наташа, подумай, зачем ты хочешь увезти внука не знамо куды? Сама не устроена. Мальчонка уже большой, всё понимает, к нам привязался, с чужим дядей – твоим новым мужем вряд ли уживётся. Как сложится твоя семейная жизнь – сама не знаешь. Пусть внук пока побудет с нами. Сашка с лагеря должон скоро вернуться, глядишь, замиритесь с ним и будете жить, как раньше, хорошей крепкой семьёй.
Мудрый дед как в воду глядел: родители мои и в самом деле пытались замириться, опять начать свою совместную жизнь, но не получилось, видно, судьба их разделила раз и навсегда…
Как-то завидев, что я стою у старого уличного забора и захлёбываюсь в слезах оттого, что опять услышал от злой соседки, будто я «брошенная сирота казанская», а отец мой «тюремщик», дед ласково погладил меня по голове и твёрдо, по-взрослому сказал:
–Дураками, внук, на свете хоть пруд пруди! Никогда их не слушай и слёз не лей. Ты ж казак! Крепись! Расти крепким и мужественным. Скоро мы переедем с тобой в другое селение, и никто знать не будет о нашем горе.
По всему, Аким Иванович тоже сильно мучился, переживал за единственного живого сына, чья судьба вот так жестоко над ним надругалась…
И правда, через неделю-другую мы осваивались в соседнем селе Мостовом, которое широко и вольно раскинулось на берегу речки Лабы, в маленькой уютной хатке, недалеко от выгона, на котором каждый день паслось большое стало сельских коров.
Аким Иванович купил мне большой, с двумя замками керзовый портфель, и я, счастливый и довольный, пошёл в первый класс.
К тому времени случилось в стране огромное горе – умер вождь и учитель всех народов товарищ Сталин.
Мальчишками мы вприпрыжку бегали по мягкой, как пух, мартовской траве в сельском парке и с интересом наблюдали, как у большого сельского репродуктора сгрудилось очень много людей. Почти все – женщины, мужчины и даже дети почему-то громко, навзрыд плакали. Из репродуктора тоже доносились чьи-то глуховатые женские рыдания и тихая траурная музыка.
–Слышишь, дочка Сталина плачет, Надежда Аллилуева…– объяснял какой-то мужчина, близко наклонившись к уху женщины в красивой чёрной шляпке.
Наблюдая эту сцену, я крайне недоумевал: почему по одному умершему человеку плачет так много чужого народа?.. Ну, понятное дело, я маленький и часто плачу, потому что скучаю по маме и папе. Ну, а эти, взрослые дяди и тёти, отчего льют горькие слёзы? Неужели умерший вождь был им всем отцом родным?..
Вскоре последовала знаменитая бериевская амнистия, и, отсидев в лагере четыре с половиной года, домой благополучно вернулся мой отец. Несколько дней я от него не отходил, садился к нему на колени, прижимался своей щекой к его гладко выбритой щеке, резко пахнущей «тройным» одеколоном, и навязчиво приставал:
– Пап, ну пойдём в кино! Хочешь – пойдём на речку или гулять по парку?
Отец соглашался, ему тоже хотелось ощутить свободу, широко вдохнуть вольного воздуха. А я горел желанием прогуляться на пару с отцом по улицам села, держать свою руку в его широкой ладони и всем гордо показывать, мол, вот, смотрите, любуйтесь, это мой папка приехал, и никакая я не «сирота казанская»!..
С той поры больше никто и никогда не доводил меня до рыданий, шпыняя горькими, обидными словами, будто отец мой – «тюремщик», а «мать меня бросила…»
Прошло несколько месяцев. Как-то отец быстро вошёл в комнату и, обращаясь к деду, громко воскликнул:
– Пап, включи скорей «тарелку»! По радио передают: Берия – враг народа!!
В отличие от сильно возбуждённого отца дедушка спокойно отложил в сторону какую-то толстую книгу и угрюмо произнёс:
–Знай, сын, – это конец стране. Крепкой руки Сталина не стало, теперь кремлёвские чинодралы начнут драться, смертным поедом жрать друг дружку, как звери, и рваться к власти те, кто давно за его спиной точил ножик…
Кто такой Берия, тогда мне понять было не дано. Начиналась новая, непредсказуемая в своих трагических последствиях эпоха, которую много позже почему-то так называемые либералы с восхищением называли «Хрущёвской весенней оттепелью», а их противники возражали, именуя «Хрущёвской слякотью»…
…К старости, с тоской вспоминая старую «жисть», Аким Иванович скептически поругивал нынешнюю нерадивую молодёжь, которая в церковь не ходит, ни Бога, ни Чёрта не боится, работать ленится, а всё старается жить «скандачка», чтоб золотая рыбка исполняла их желания, а курочка несла им, бездельникам, золотые яички…
Помню необычайную для тёплой Кубани морозную зиму 1956 года. Вопреки недовольству и отчаянным мольбам моей бабушки Марины Петровны Аким Иванович, исходя из своих безмерных сердобольных чувств, пустил в нашу хату замерзающую семью цыган с тремя малыми детьми.
Цыгане в те времена ещё вольно кочевали по стране в тёплые месяцы года, а на зиму разбивали свои драные, обветшалые шатры за селом, на выгоне, конечно, изрядно страдая от лютого холода.
– Замолчь, Маришка! – строго повысил голос на бабушку Аким Иванович. – Цыгане – тоже люди, не звери какие-нибудь лесные. Ничего, что в нашей хате места мало – в тесноте, да не в обиде, разместимся как-нибудь. Глянь-ка, как посинели от холода их малые детишки, неужто тебе, старая, не жалко?..
Вернувшись однажды домой из школы, я увидел, как, сидя за большим обеденным столом, Аким Иванович мирно беседует с главой цыганского семейства – смуглым кучерявым мужчиной средних лет. Перед ними искрилась на солнце початая бутылочка водки – «четушка», рядом стояла большая глинянная чашка с солёными огурцами и капустой. А в другой комнате, где я обычно учил уроки, на полу возятся маленькие полуголые цыганчата…
Бабушка недовольно поворчала чуток, но, налив мне миску наваристого борща, позвала за стол и новоявленных гостей. Цыганчат долго упрашивать не пришлось: видно, сильно голодные, они гурьбой кинулись к столу. Старинный вместительный чугун борща был в одно мгновенье опустошён.
Заметив, что за моим письменным столом сидит девочка-цыганка примерно моих лет и что-то рисует, я поначалу разозлился, но уже через час мы мирно играли с Лолой – так звали девочку – в шашки. На протяжении долгих зимних месяцев, пока семья цыган проживала с нами в небольшой хатёнке, Лола охотно учила меня замысловатому цыганскому языку. И заливисто хохотала, когда я с трудом пытался выговорить чужие, трудно произносимые слова.
…Как-то, будучи уже взрослым, ехал я на поезде погостить на родную Кубань. Соседом по купе оказался знатный цыган – популярный солист единственного в мире Цыганского театра «Ромэн». Как водится, в дороге, мы познакомились, выпили по маленькой, разговорились о том о сём. Изумлению и восторга моего соседа, казалось, не было границ, когда я заговорил на его родном языке. Посыпались вопросы, что да как, где я научился сносно изъясняться по-цыгански?..
Пришлось в подробностях, с улыбкой поведать соседу историю яркой жизни моего покойного деда – истинного гуманиста и интернационалиста и не лишённую юмора картину квартирования бедной цыганской семьи в нашей маленькой сельской хате...
Как говорится, ни что случайным в жизни не бывает. С той поры прошёл не один год, но мы аккуратно обмениваемся с тем артистом письмами, а вход в московский театр «Ромэн» для меня неизменно бесплатный.
Часто вспоминая суровые, поучительные рассказы покойного деда Аким Ивановича, я с горечью думаю: как жаль, что слишком поздно мы спохватываемся, с опозданием наставляем себя и других на доброту и путь истинный. Не ценим дарованную Господом жизнь. В итоге с лихвой пожинаем неисчислимые беды и страдания, нещадно умывается кровью родная мать-Россия…
Не из крикливых идеологических плакатов и лозунгов, не из конъюнктурных и лживых либеральных писаний, а на трагической, изломанной судьбе шолоховского персонажа Григория Мелехова, имевшего реального прототипа – Георгиевского кавалера Харлампия Ермакова, из правдивых воспоминаний своих предтеч мы познаём подлинную правду незабываемой драматической казачьей судьбы.
…Возрождение казачества сегодня, уверен, дело полезное, оно воскрешает память прошлого, старые добрые традиции, учит потомков правильно, по-божески жить.
Не надо только вносить в отношения нынешних казаков дух нездорового соперничества, агрессии, взаимной неприязни и раскола. Как мы знаем, дореволюционное российское казачество по своему православному духу было единым, крепким, патриотичным, главным делом для него была защита Отечества, и только враждебные России силы путём политического обмана и лжи смогли расколоть казачество на два непримиримо противостоящих лагеря. Вот на этой патриотической основе и давайте чтить память своих славных предков, возрождать бессмертные благородные традиции казаков.
…Отчётливо помню, как уже незадолго до своей кончины Аким Иванович, внимательно наблюдая за ряжеными, шумливыми, погрязшими во взаимных склоках, вдрызг упившимися «казаками», которые, нещадно бия себя кулаками в грудь, истошно «впаривали» друг дружке, будто только они что ни на есть самые - самые «истинные» потомки казаков, а другие – так себе, «нечисть паршивая», – с осуждением адресовал им иронично-грубоватую, но точную по смыслу, стародавнюю казачью поговорку (её я здесь подаю в смягчённом варианте): «Мой дед – казак, отец – сын казачий, а он - пёс бродячий!..»
Да простится герою Первой мировой, покойному деду моему, доблестному кубанскому казаку эта грубоватость. Царствие ему, православному, Небесное!
Вечная слава казакам, честно и верно служившим Русскому Отечеству и вере Православной!
Владимир Юдин, г. Тверь