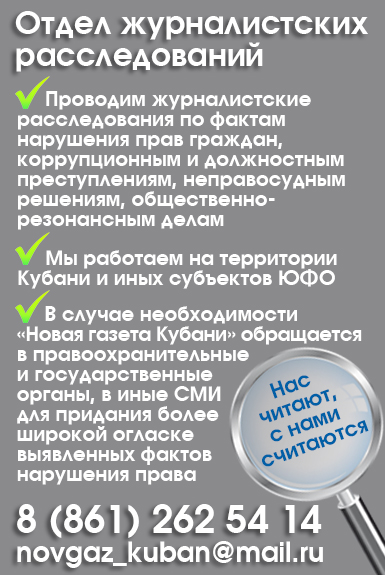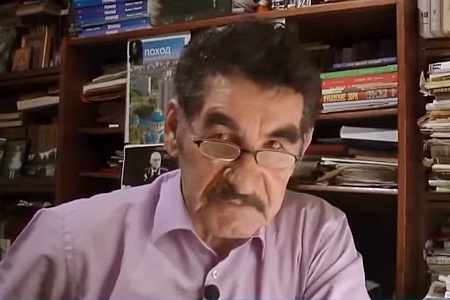
Культурный проект «Родная речь»
899
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4
История с историей кубанского казачества
Эти даты – 100-летие и 200-летие войска, – причём, противопоставленные, прямо-таки ставят в безысходный тупик современных историков. И, не находя в этом ни мотивированности, ни логичности, они считают это неким совпадением. А потому и утверждают, что памятник Екатерине II в Екатеринодаре «стал так же и памятником 200-летней истории кубанского казачества», словно, не помня о том, что он замышлялся и воздвигался к столетию жития черноморцев-кубанцев на своей земле. То есть, пускаются в оправдание распространённого «общественного мнения», не смея подвергнуть его сомнению, и что оправдано с точки зрения исторической быть не может (В.Н.Ратушняк, «Кубанское казачество»: три века исторического пути»).
Эти мои сопоставления могли бы показаться праздным домыслом, если бы ситуация с памятником в Краснодаре не повторилась в наши дни, через сто лет, когда Кубань отмечала двухсотлетие переселения черноморцев. Повторилась та же путаница с датами – двухсотлетие-трёхсотлетие, вызывающая недоумение граждан. Был установлен закладной камень на месте памятника Екатерине II с надписью, говорящей о том, что памятник Императрице и казачеству будет восстановлен. Но зато ординарный обелиск городского общества был восстановлен в первую очередь.
И только 8 сентября 2006 года памятник Екатерине II в Краснодаре, воссозданный скульптором Александром Аполлоновым, многие годы работавшим над ним, был наконец-то, открыт. И опять-таки, открыт не к двухсотлетию Кубанского казачества, к которому он безнадёжно запоздал, и, кажется, в большой мере не для кубанцев, а по требованию потомков эмигрантов первой волны, как одно из условий возвращения в Россию регалий Кубанского казачьего войска. Потомков эмигрантов в третьем-четвёртом поколении, уже с трудом говорящих по-русски, а о том, что в действительности происходит в России, зачастую, понятия не имеющих… Вопрос же об истории Кубанского казачьего войска и более ста лет спустя, после того, как писал об этом И. Бентковский, всё ещё остаётся не выясненным «как бы следовало»…
Нельзя не отметить и того факта, что возведение такого обелиска нарушало саму природу памятников. Об этом писал М.О. Микешин: «Публичный памятник только лишь тогда соответствует своей цели, когда он отвечает сложившимся в народе воспоминаниям и передаёт эти воспоминания отдалённому потомству. Поэтому каждый памятник должен представлять собой известную идею, и эта идея должна быть выражена в такой ясной и наглядной форме, которая была бы понятна всем и говорила сердцу и уму людей о великих деяниях, оставивших неизгладимый след своей деятельности в исторической жизни народа».
Но уже тогда зарождалось то пренебрежение к природе памятников, которое проявилось в последующем, и в наше время, когда «борьба с мемориалами в последнее время приняла характер эпидемии» (Игорь Шумейко, «Прочь с корабля современности. Борьба с памятниками шагает по планете», «Литературная газета», № 41, 2017 г.). Аргументация здесь во все времена едина: право творческой свободы и право самовыражения. Но это является непременным условием, но не может быть целью творчества, так как скульптор при этом, пожалуй, неизбежно отступает от народного понимания тех или иных событий. Пример из нашего времени. В Санкт-Петербурге, где есть величественный «Медный всадник», памятник Петру I скульптора Э. Фальконе (1782), как он может соотноситься с карикатурой на Императора Петра I, М. Шемякина? А ведь наш современник воспользовался и правом творческой свободы, и правом самовыражения, но памятника не создал, так как он выразил своё понимание исторической личности, далеко не свободное от идеологических поветрий…
Такая история с историей Кубанского казачьего войска произошла по причине многих обстоятельств, но нет сомнения в том, что главной из них было какое-то изначальное и неистребимое в казачьей среде пренебрежение к «бумажному человеку», то есть грамотному и образованному человеку, в котором виделся только чиновник и бюрократ, а не летописец. Теперь уже ясно, что именно это и погубило казачество. Это – своеобычное и уникальное племя русского народа…
В.Г. Толстов в своей «Истории Хопёрского полка Кубанского казачьего войска (1696-1896)», (Тифлис, 1900, 1901 г.) писал, что «казачество не трубило о своих подвигах, оно больше работало шашкою и винтовкою, нежели пером». Так-то оно так, да только одно другому не мешает и не может быть альтернативно противопоставленным. А в казачьей среде были и действительно образованные и талантливые люди, но они не занимали в ней подобающего места. Не потому ли и столь долгое время спустя, важной исторической проблемой в исследовательской среде всё ещё является то, что уже давно должно быть выяснено: «стремление историков определить корни кубанского (черноморского) казачества, его происхождение, обосновать его самобытность в условиях сословного оформления казачества» (Г.Н. Шевченко, «О некоторых проблемах изучения истории казачества Кубани во второй половине ХIХ – начале ХХ в.», «Кубанское казачество: три века исторического пути», Краснодар, 1996 г.). Иными словами говоря, это является признанием в том, что история казачества вообще, а кубанского в особенности, якобы не поддаётся осмыслению… Не на уровне перечисления фактов, но на уровне метафизическом и саморефлексии.
Упрёк И.Д. Попко не только предшествующим, но и нынешним историкам остаётся всё ещё злободневным и ничем не извинительным: «Но будет ли справедливым пенять на такую непроизводительную растрату исторического материала, винить малограмотных казаков в недостатке заботливости о сохранении письменных памятников, когда в наше просвещённое, как говорим мы, время, немного видно этой заботливости. На кладбища хоть изредка ходим поминать родителей, а другие кладбища, где не прах бренный, а мысль и слово наших предшественников почили – хранилища письменных памятников прожитого времени, оставляем в пренебрежении» («Терские казаки с стародавних времён», С.-Петербург, 1880 г.).
Но теперь совершенно очевидна другая беда. Нельзя сказать, что историки не обращаются к источникам и довольно обширным предшествующим исследованиям. Обращаются, пишут работы, проводят научные конференции, но утратив изначальную духовно-мировоззренческую картину мира, зачастую вычитывают в этом бесценном наследии, под влиянием прежних и нынешних идеологий не то, что в них действительно содержится…
Мне уже не однажды приходилось касаться этой странной истории с историей Кубанского казачьего войска – «Сколько же лет Кубанскому казачеству?» в книге «Возвращение Екатерины» – о создании, разрушении и воссоздании памятника Екатерине II М.О. Микешина в Екатеринодаре-Краснодаре (М., «Ладога-100», 2003 г.); в «Новой газете Кубани», (№ 60, 9-13 августа 2007 г.), в своём авторском литературно-публицистическом альманахе «Солёная Подкова», выпуск третий (М., ООСТ, 2007 г.); в книге «Кубанский лад. Традиционная культура: вчера, сегодня, завтра» (Краснодар, «Традиция», 2014 г.). И что поразительно, за все эти годы не нашлось ни одного историка, который, кроме бесконечных заклинаний – «по старшинству от Хопёрского полка», – привёл бы убедительные исторические аргументы в пользу этого старшинства. Но так в истинно исторической, как и во всякой другой науке, не бывает, где мысль должна циркулировать, как кровь в человеческом организме. Тут же, как видно по всему, корпоративные интересы и преднамеренная заданность оказались сильнее и истинной науки, и действительной заинтересованности историей родного края. Историки, что называется в один голос, без каких-либо доказательств повторяют догмат об исчислении истории Кубанского казачьего войска по старшинству от Хопёрского полка, принимают его как безусловный исторический факт, хотя к тому времени не было ещё ни Хопёрского полка, ни Черноморского войска, ни походов Петра I на Азов, которые были уже позже…
Подобные казусы в исторической науке были, пожалуй, всегда, но они не носили такого тотального характера. Всегда находился смелый, мужественный историк, который несмотря на преобладающее «общественное мнение», высказывал историческую истину. Тем более, что она имеет далеко не формальное значение. А то, что причиной этого становилась именно научная корпоративность, свидетельствует хотя бы такой факт. Известный историк Н.И. Костомаров в своё время откликнулся на книгу образованнейшего человека, генерала, знавшего около семи языков Ивана Деомидовича Попко (1819 – 1893) «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту», вышедшую в Санкт-Пете6рбурге в 1858 году. Её он оценил, как «преимущественно этнографическую», надо полагать, для историка мало что значащую. Не увидел в ней научной формы, то есть, тех стереотипов с какими зачастую пишутся исторические исследования: «Слог книги жив и лёгок, но страдает подчас неуместными притязаниями показать автора человеком учёным, пренебрегающим учёную форму». («Казаки», М., «Чарли», 1995 г.). К такому выводу историк пришёл, видимо, потому, что И.Д. Попко свободно приводит в своём тексте латинские выражения, что для него, полиглота, было естественным. Н.И. Костомаров же увидел в этом намерение автора показать свою учёность, и не более того. И надеялся на появление «другого описания Черноморья, более полного». Между тем, несмотря на многочисленные труды в последующем, книга И.Д. Попко и до сих пор не потеряла своей свежести и остаётся непревзойдённым памятником описания родного края. То есть, историк не смог оценить эту книгу, не потерявшую и сегодня своего очарования. И, кстати, и до сих пор остающуюся по её достоинству не переизданной. Да и как могло быть иначе, если не находя в ней «научной формы», Н.И. Костомаров даже книгу называет неправильно: «Черноморские казаки в военном и гражданском быту». В то время как книга называется «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». И это не просто описка историка, видимо, полагавшего, что коль книга о казаках, то на первом плане должна быть военная сторона их жизни. В то время как И.Д. Попко на первое место ставит «гражданское» обустройство края, то есть, – экономическое, социальное, культурное, духовное, от чего зависит и военное обустройство, но не наоборот.
Историю казачества невозможно рассматривать отдельно, вне общей истории России, так как без истории казачества не вполне понятна и история России. Об этом, по сути, писал И.Д. Попко: «Куда не побегут русские люди, хотя бы и «самодурью» без всякой государственной цели, туда придёт и русское царство». («Терские казаки с стародавних времён», С-Петербург, 1880 г.). Не потому ли столь настойчиво и последовательно искажается история казачества, а Кубанского, как в нашем случае, в особенности.
За этим просматривается стремление свести историю казачества к военной стороне дела, без её цивилизационной составляющей и духовно-мировоззренческой основы. Но как только история казачества становится локальной и исключительно военной, она неизбежно оборачивается сепаратизмом и коллаборационизмом, что подтверждается историей трагического ХХ века. И было это свойственно не только Кубанскому казачьему войску.
Задача истинного историка состоит не в том, чтобы обосновать, «обслужить», во что бы то ни стало, официальную точку зрения или распространённое «общественное мнение», которые могут и не иметь исторического содержания, но в том, чтобы распознать цивилизационные и духовно-мировоззренческие основы истории народа, страны, государства.
Нам могут возразить: что, мол, теперь уточнять историю казачества, когда его в своём традиционном виде не существует уже более века. Да, это так. Но примечательно, что подобный только «тематический» подход к истории, не охватывающий всей её полноты, сохраняется. Выходят же у нас учебники «Военная история России», а не «История России», что само по себе не предполагает рассмотрения других, более важных аспектов жизни народа и страны – духовно-мировоззренческих, коими определяется и собственно «военная история», так как они представляют мотивацию тех или иных событий, а не просто перечисление неподвижных исторических фактов. Всё это и вынуждает более основательно рассмотреть эту странную историю с историей Кубанского казачьего войска.
Петр Ткаченко
Продолжение следует