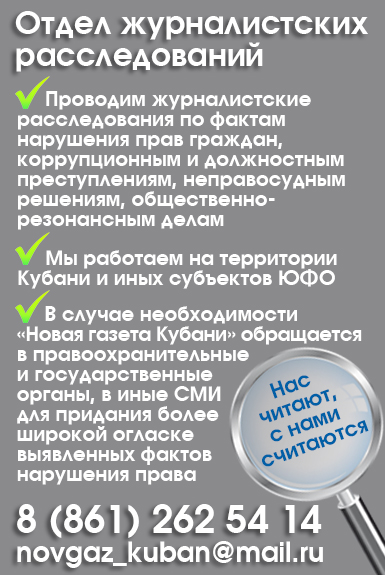«Поэма без героя» Анны Ахматовой
6207
Все, кто блистал в тринадцатом году –
Лишь призраки на петербургском льду.
Георгий Иванов
Пускай же всё пройдёт неспешно,
Что в мире свято, что в нём грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Александр Блок,
«Возмездие»
«Мне голос был. Он звал утешно…»
Есть всё-таки некая устойчивая закономерность в том, кто из классиков русской литературы становится теперь нам особенно близким и необходимым. Видимо, потому, что их творчество, их миропонимание каким-то загадочным, неведомым нам образом соотносится с нашей нынешней жизнью, делая их наследие даже злободневным. Кроме того, «Нам не дано предугадать,/ Как слово наше отзовётся» (Ф. Тютчев), а «произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп», как отмечал А. Блок в дневнике 1 декабря 1912 г. Литература же является историей духа человеческого и народного, а не только историей тех или иных событий, так или иначе отразившихся в их творчестве. То есть потому и становится тот или иной классик теперь нам особенно близок, что «узоры человеческой жизни расшиваются по вечной канве» (А. Блок), что он своё время воспринимает не иначе, как в общем течении человеческой жизни и народной судьбы. И, прежде всего, постигает духовную природу человека, а не только историческую, социальную или какую-то иную.
Почему вдруг возникла необходимость перечитать поэта Анну Андреевну Ахматову (1889–1966)? Вовсе не вдруг, но именно её. И именно её «Поэму без героя», над которой она работала более двадцати лет, как бы подводя итог своего творческого пути. Хотя, конечно, речь пойдёт не только о поэме. Но прежде, чем обратиться к этой уникальной поэме, совершенно необходимо сказать о положении Анны Ахматовой как поэта в трагическом революционном двадцатом веке. Тем более что, как мне кажется, несмотря на многочисленные исследования её творчества, это прояснено недостаточно внятно.
Главное же состояло в мировоззрении и миропонимании А. Ахматовой, встретившей либеральное революционное крушение страны в феврале 1917 года, когда была свергнута монархия, разрушена государственность, а народ ввергнут в хаос и беззаконие, в зрелом, двадцативосьмилетнем возрасте. И её воззрения не претерпели тех радикальных изменений, каким подверглось подавляющее большинство её современников. Радикальных изменений, как понятно, под воздействием революционной идеологии, начавшейся ещё с революционных демократов ХIХ века, и тех «экономических доктрин», которые навязывались народу огнём и мечом вместо его естественной и природной христианской веры. Такой духовный стоицизм из её современников был свойствен разве только А. Блоку. Но он рано ушёл из жизни (7 августа 1921 г.).
Разумеется, творчество А. Ахматовой со временем и с возрастом изменялось, о чём она и сама писала. Разумеется, она не избежала тех духовно-мировоззренческих поветрий, которые были тогда распространены в образованной части общества. Да и кто мог избежать их в «беспамятстве смуты», по её же выражению, и в революционном психозе, в «повальном сумасшествии» (И. Бунин)?..
Но она избежала декадентства, того беспросветного упадничества и нигилизма, которое было свойственно в тех условиях многим, даже большинству её современников. Избежала и литературных школ и направлений, в частности акмеизма, хотя и находилась в кругу приверженцев этого направления. Тем более что Николай Гумилёв, её муж был его «теоретиком». Но литературные школы никогда не определяли литературу, о чём писал Георгий Адамович, один из самых талантливых критиков русского зарубежья: «Никогда манера письма не была и не будет решающим признаком для оценки чьего-нибудь творчества. Пора на этот счёт перестать обольщаться … Манера сама по себе ничего не значит. Уцелело во времени только то, что оживлено и согрето изнутри личным огнём, иногда в согласии с господствующими в данные годы теориями, иногда вопреки им» («Одиночество и свобода», М., «Республика», 1996). А. Блок посвятил акмеизму целую статью «Без божества, без вдохновенья», в которой писал, что «всё большее дробление на школы и направления, всё большая специализация – признаки такого неблагополучия». Но А. Ахматова, несмотря ни на что, оставалась верной русской литературной традиции. Именно на этом основании он сближал её с А. Блоком: «Эфемерных знаменитостей везде и всегда бывает много. Удивительнее и показательнее то, что Ахматовой с её такими на первый взгляд «дореволюционными», такими «старорежимными» стихами удалось в нашей литературе удержаться».
Отдавая должное дарованию акмеистов, А. Блок вместе с тем писал, что они «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма, …они замалчивают самое главное, единственно ценное, душу …хотят быть знатными иностранцами». В этой статье об акмеистах он отмечал: «Вообще Н. Гумилёв, как говорится, «спрыгнул с печки»: он принял Москву и Петербург за Париж». А по свидетельству К. Чуковского говорил Н. Гумилёву: «То, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы – слишком литератор, и притом французский» («Александр Блок, как человек и поэт», П., 1924). Даже М. Горький так отзывался о Н. Гумилёве: «Жаль только – не русский он писатель. Настоящий француз в манжетах». Всё это к тому, какая мировоззренческая атмосфера преобладала среди акмеистов, и вообще в творческой среде, в которой находилась А. Ахматова.
Но примечательно то, что из этой писательской среды А. Блок изначально и решительно выделял А. Ахматову. В дневнике 7 ноября 1911 года отмечал: «А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня: стихи, чем дальше, тем лучше)». А в упомянутой статье «Без божества, без вдохновенья» отозвался о ней вполне определённо: «Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова».
Именно этот духовный стоицизм Анны Ахматовой, то, что она осталась верной русской литературной традиции, позволил ей, как увидим далее, на всех крутых поворотах трагического ХХ века, быть довольно точной в понимании сути происходящего, и прежде всего, – его духовной основы, так как все грандиозные потрясения в истории имеют именно духовную природу. Иные же причины, скажем, социальные являются лишь сопутствующими, а точнее – следствием духовного состояния человека, которое, в конечном счёте, и вызывает те или иные исторические события.
Ведь истинный поэт не просто «изображает действительность», как утверждают критики позитивистского толка, но так или иначе, несмотря на предшествующий опыт, отвечает на главные вопросы бытия: как устроен этот мир, что есть человек в нём, какова природа человека, что происходит ныне. И отвечают не декларативно, а образно. И толкует происходящее не с точки зрения тех или иных господствующих идеологических догматов, но с точки зрения духовной природы человека. А на такие вопросы обязано отвечать каждое поколение. Если же по каким-то причинам оно на них не отвечает, тогда происходит трагедия вырождения человека, известная изначально, изложенная уже в книге Бытия Ветхого завета, когда «всякая плоть извратила путь свой на земле…».
Примечательно то, как откликнулась Анна Ахматова на революционное крушение страны 1917 года. Сразу скажем, в отличие от большинства поэтов её современников. Есть у неё стихотворение «Когда в тоске самоубийства…», которое имеет довольно странную историю его публикации. А потому привожу его в авторском виде, в каком его создала А. Ахматова:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берёт её, –
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух.
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Можно встретить утверждение, что стихотворение это существует в двух вариантах. На самом деле никаких «вариантов» этого стихотворения не существует. Так как это дело не авторское, а публикаторское и издательское. Впервые опубликованное в эсэровской газете, оно вышло без последней строфы. В последующем оно публиковалось без двух первых строф и начиналось строчкой «Мне голос был. Он звал утешно…». К примеру, в массовом издании Анны Ахматовой «Избранное» (М., «Художественная литература», 1974). И ясно, почему столь настойчиво в публикациях этого стихотворения опускались первые строфы. Ведь в них А. Ахматова говорит о том, что именно произошло в России. И говорит не с точки зрения идеологической, но духовной. А это не только не вписывалось в то, как понимал происшедшее новый правящий класс, и в каком виде оно преобладало в общественном сознании, но радикально противоречило ему.
Собственно это и определило дальнейшую писательскую и человеческую судьбу Анны Ахматовой. И не только в связи с этим стихотворением. Андрей Платонов, уже позже, откликаясь на её сборник «Из шести книг» («Советский писатель», 1940), писал, что «голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности: в сборнике помещены стихи, подписанные последними годами. Мы не знаем причины такого обстоятельства…». Но вместе с тем, отвечал на вопрос о причинах этого «обстоятельства»: «Необходимо, прежде всего, преодолеть заблуждение. Некоторые наши современники – литераторы и читатели – считают, что Ахматова несовременна, что она архаична по тематике, что она слишком примитивна и прочее – и что поэтому, стало быть, её значение, как поэта, невелико, что она не может иметь значения для революционных, советских поколений новых людей…» («День поэзии», 1966).
Итак, Анна Ахматова в этом стихотворении говорила о том, что именно произошло в России. А также – о причинах происшедшего. А причины эти оказались извечными, сопровождающими человечество во всю его историю: утрата веры, отказ человека от своей духовной природы, отпадение от Бога: «И дух суровый византийства/ От русской церкви отлетал». Утрата же веры неизбежно приводит к «тоске самоубийства». Об этом говорится уже на первых страницах истории человечества, в книге Бытия. Каин добровольно отпадает от Бога, отказывается от своей духовной сущности. Человечество разделяется на две цивилизации: каинскую без Бога и на сифскую – цивилизацию сынов Божиих. Иной организации общества, иной «архитектуры» изначально и до сего дня человечество не знает. Разумеется, изменяя внешние её формы и мотивации порой до неузнаваемости. Ведь человек является существом не только природным и социальным, но и духовным. Духовная же его природа проявляется и реализуется только через веру. Отнимите у него Бога, он поверит во что угодно, с такой же искренностью и неистовостью. Но без веры он жить не может.
Утрата же веры, отпадение от Бога неизбежно приводит к тому, что «приневская столица», любимый город, Петербург, «забыв величие своё», превращается в блудницу: «Как опьяневшая блудница/ Не знала, кто берёт её». Здесь А. Ахматова уподобляет свой город Вавилону «Откровения святого Иоанна Богослова»: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу… ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы» (18:2).
Но Вавилон – город уже не конкретно-исторический, а символический, образный, духовный, сопровождающий человеческое общество во все времена: «Вавилон имеет значение собирательное, есть понятие не столько географическое и политическое, сколько морально-мистическое». А потому не следует видеть событие, однажды в нём происшедшее, «как единократное и индивидуально-историческое, – напротив, типологическое, повторяющееся с разной силой и в разных образах – в разные эпохи» (Прот. Сергий Булгаков, «Апокалипсис Иоанна», М., Православное Братство трезвости «Отрада и утешение», 1991).
Но, прежде чем обратиться к природе блудницы, к её «биографии», надо сказать о том, что мы привыкли объяснять мир и человеческое устройство на земле лишь историей, понимаемой как чередование событий или категориями социальными. Но человек – «не материальная скотина» (Н. Гоголь). Он существо, как уже сказано, прежде всего, духовное, выделенное душой и разумом из природы по образу и подобию Божию. Основным содержанием его бытия является стремление остаться на той духовной высоте, на которую он вознесён. Всё остальное в его земной жизни зависит от этого. Люди духовного звания называют это бранью духовной. Кстати, в книге Бытия говорится о том, что человек стал душою живою. Но ничего не говорится о его разуме. Наоборот, Господь, не полагаясь на разум человека, подробно рассказал Ною, как именно надо строить Ковчег для его спасения. Но это – уже отдельная тема.
Постичь же человеческое бытие в полной мере можно, только помня о духовной природе человека. Во всяком случае, игнорируя её, это сделать невозможно. Скажу словами выдающегося историка нашей эпохи И. Я. Фроянова (1937–2020): «Объяснение событий лежит в духовной сфере». А значит, «история не есть лишь хронология, отсчитывающая чередование событий, она есть жизненный опыт, опыт добра и зла» (Сергий Булгаков). Почему человеческое сообщество периодически сотрясают социальные катастрофы, революция и войны? Что является их первопричиной? Объяснить это только «экономическими доктринами», тем, что «верхи» не могут, а «низы» не хотят, невозможно. Невозможно объяснить это и имущественным неравенством людей, ибо равенство их в принципе невозможно. Это всегда понимали светлые умы. К примеру, талантливый критик Валериан Майков (1823–1847), проживший всего двадцать четыре года: «Ни безусловное разделение имуществ, ни распределение богатств по способностям к труду нимало не подвигают общества на путь к благосостоянию, а ещё напротив того, представляют перспективу таких бедствий, которые превосходят сумму зол, рождаемых неравенством» (Сочинения В. А. Майкова в двух томах, Киев, 1901, том второй).
Человеческое сообщество периодически сотрясают катастрофы главным образом потому, что происходит нечто с самим человеком. Наиболее чуткие люди, истинные поэты понимали, что первопричина кроется в самом человеке, что и предопределяет ход событий, что внешние обстоятельства уже только вовлекают наиболее слабых и безвольных людей в соблазнительные социальные движения. Определяли они это в самых общих чертах, как, скажем, А. Блок, называя это «музыкой», не в буквальном смысле, а как некая духовная субстанция, стихия, в которой пребывает человек. В дневнике 1913 года он отмечал: «Мораль мира бездонна и не похожа на ту, которую так называют. Мир движется музыкой, страстью, пристрастием, силой».
Почему человека периодически охватывает тревога и тоска («тоска самоубийства», как у А. Ахматовой), которая выбивает его из привычного, нормального состояния? Как в стихах А. Блока.
Когда осилила тревога,
И он в тоске обезумел,
Он разучился славить Бога
И песни грешников запел.
Анна Ахматова, как истинный поэт, тоже исчисляла время не по календарю, а по тем процессам духовного порядка, которые происходили в обществе. Так ХХ век по её представлению, начался с 1913 года. Попутно отметим, что и наш ХХI век начался тоже не по календарю, а раньше – с 1991–1993 гг. Этим как раз и доказывается, что жизнь человеческая и народная свершается по неким духовным путям, не укладывающимся всецело в какие бы то ни было социальные теории. Это и постигают, прежде всего, поэты, хранители гармонии, ибо призваны постигать не внешний, а внутренний порядок мира. Впрочем, как и нарушение этого внутреннего порядка мира…
ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА
В стихотворении «Когда в тоске самоубийства…» Анна Ахматова уподобляет, сравнивает свой город, «приневскую столицу», вдруг забывшую «величие своё», с «опьяневшей блудницей». То есть уподобляет его «великой блуднице» Вавилону, который есть жена Откровения святого Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Вот основной духовный смысл и значение несчастья, происшедшего в России в феврале 1917 года: великий город, «великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Но это событие в представлении поэта не является по своему содержанию и смыслу сугубо историческим, относящимся только к этому году. Оно, как уже сказано, известно извечно. А потому совершенно необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на этом духовном явлении, на феномене блудницы, как он представлен в Священном Писании и в опыте человеческой истории. Это необходимо как для уяснения смысла и значения происходившего и происходящего всегда и ныне, так и для постижения поэтического наследия Анны Ахматовой.
Но прежде надо сказать о природе социальных революционных катастроф, которые периодически сотрясают человеческое сообщество. Тем более что объяснения их столь отличаются, как во времена А. Ахматовой, так и в более поздних оценках. Здесь надо иметь в виду главное, то, что объяснение событий лежит в духовной сфере. Ведь всякие революции в истории никогда не достигали декларируемых ими целей. Выходило то, чего мало кто предполагал, так как революции не имеют положительного содержания, их цель – разрушение существующего уклада и порядка вещей: «Понятие революции отрицательное, оно не имеет самостоятельного содержания, а характеризуется лишь отрицанием ею разрушаемого» (Сергий Булгаков, «Вехи», М., 1909). Совершенно прав историк: «События далёкого 1917 года выступают во всей своей сложности и противоречивости. Им нельзя дать… однозначную, сугубо положительную оценку» (И. Я. Фроянов, «Октябрь семнадцатого», издательство Санкт-Петербургского университета, 1997).
Разумеется, нельзя принижать историческое значение драмы революции в России, уже хотя бы потому, что она радикальным образом изменила жизнь народа и страны. Мы же говорим о духовной природе этого грандиозного потрясения. Кроме того, все революционные потрясения в истории однотипны. Они имеют, по сути, один и тот же сюжет, архетип, который изложен в книге пророка Даниила. Царю Вавилонскому Навуходоносору снились сны, которых не могли разгадать тайновидцы, гадатели и чародеи. А халдеи прямо сказали ему, что «нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю» (2:2). Это подвластно только Богу: «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». И тем не менее находится некто Даниил из пленных сынов иудейский, который «разгадывает» сны Навуходоносора. Причём, как бы от имени Бога. А снился царю истукан, по толкованию Даниила неправильный бог, не настоящий, не живой. А это значит, что «царство отошло от тебя» и ты должен быть убит. Впрочем, как и отец его «был свержен с царского престола своего и лишён славы своей» (5:20). Даниил убеждал царя в том, что он прославляет не настоящего Бога, а значит, ему надо поверить в другого бога, и тогда царство его сохранится, и он останется жив: «Ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил» (5:23).
Вот и весь архетип всяких потрясений и завоеваний в последующие времена. Но он ведь ничем не отличается и от нынешнего, когда США утверждают, что у них есть безусловная ценность – демократия, которую они должны нести миру для процветания народов. На самом же деле эта «ценность» является лишь предлогом для завоевания стран и народов. Но для того, чтобы это произошло, люди должны отказаться от своей веры и уверовать в эту эфемерную «ценность»… Как видим, всякое социальное потрясение, всякое завоевание является, прежде всего – бунтом против Бога, который может быть прикрыт какой угодно декларацией, скажем, и такой: «Душа моя страданиями человеческими уязвлена стала»…
Это уже потом, на руинах былой жизни, неимоверными усилиями, страданиями и жертвами народа созидается новый уклад жизни и новая государственность, никому пока неведомые. Это, собственно, и происходило у нас в стране в советское время с начала тридцатых годов. Это и было основным содержанием эпохи.
И потом, когда свершаются такие грандиозные события, как крушение страны, государственности и всего уклада жизни, все люди без исключения погружаются в революционный анархизм, беззаконие и психоз, ибо такие трагедии охватывают всё существо человеческое. Не только социальную сферу, но и физиологическое их естество. При этом «правых» и «виноватых» уже нет, так как за такой цивилизационный срыв ответственны все, кому довелось жить в это время, хотя мало кто это вполне осознавал. Это срыв общества в целом, а не только какой-то его части, как полагали многие.
После такого крушения страны и общества борьба шла уже не между «старым» и «новым» укладами жизни, не между прежним самодержавием, уже разрушенным, и чем-то невиданно новым. Противостояли уже две иные силы: февральская, либеральная, совершившая разрушение самодержавия и государства, и тоже революционная советская. Конечно же, при сохранении прежней идеологии, которую уже невозможно было отбросить, а можно было только национализировать, что и произошло.
И весь вопрос тогда состоял в том, кто укротит и успокоит этот анархический бунт и психоз народа, тот и окажется исторически правым. Как известно, это сделала советская власть. Не беря этого в расчёт, невозможно понять драмы русской истории ХХ века, да и начавшегося ХХI-го. Но игнорирование этого, умышленное или по убеждению, это уже не столь важно, происходило в последующем, даже после Великой Отечественной войны. На это можно сказать разве что стихами выдающегося поэта нашей эпохи Юрия Кузнецова: «Впрах гражданская распря сошла, но закваска могильная бродит».
К сожалению, в этой «могильной закваске» во многой мере пребывало наше общественное сознание вплоть до нового революционного крушения страны, до очередной, на этот раз либерально-криминальной революции начала девяностых годов миновавшего века. Как понятно, так произошло не само по себе, а в результате той идеологической обструкции страны и народа, которая была предпринята как внутри страны, так и извне.
Итак, Анна Ахматова в своём стихотворении постигла и выразила то, что произошло в России в феврале 1917 года, с точки зрения духовной. Любимый город, «приневская столица» превратилась в «опьяневшую блудницу». О причине этого бедствия она говорила вполне определённо: «дух суровый византийства от русской церкви отлетал», то есть причина состояла в утрате веры. За этим неизбежно следует вырождение человека, как существа по природе своей духовного. Но об этом – ниже, так как это и составляет содержание «Поэмы без героя». Пока же скажем, что для человека нет более значимых событий во всю его жизнь, чем обретение веры или утрата её, обретение Бога или отпадение от Него, когда человек непременно и неизбежно сам дерзает быть богом… Всё остальное зависит от этого, все его «проблемы», какие он только не разрешает в своей земной жизни…
Как и должно при таком подходе, А. Ахматова не называет происшедшее грандиозное историческое событие революцией, но даёт его духовный смысл – явление блудницы: «Великая блудница есть здесь общее и предварительное качественное обозначение царства зверя» (Сергий Булгаков). Зверь же, согласно Откровению, он же – дракон, диавол и сатана.
Когда же это стихотворение «Когда в тоске самоубийства…» публикуется без первых двух строф о блуднице и начинается со строчки «Мне голос был. Он звал утешно…», то становится совершенно не понятно, почему «голос был», чей это голос. Почему он звал к столь странному – покинуть Россию навсегда? Причём, звал «утешно», то есть участливо и увещевательно, дабы облегчить горе и страдания. То есть голос был обманным, так как тем самым горе и страдания только приумножались. Это так же, как в стихах Сергея Есенина: «Если крикнет рать святая:/ «Кинь ты Русь, живи в раю»/ Я скажу: не надо рая./ Дайте родину мою». Что это за «рать святая», которая кричит о столь странном и неестественном: кинуть Русь? Видимо, это следствие всё того же, что «дух суровый византийства от русской церкви отлетал».
Согласно Откровению святого Иоанна Богослова, в начале является в небе великое знамение – жена, облечённая в солнце» (12:1). Но на неё обозлился дракон и пошёл на неё войной. И не только на неё, но и на её потомство. Пошёл именно потому, что она осталась верной своей вере: «И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (12:17). В результате стали поклоняться зверю наиболее слабые духом и волей, «все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни» (13:8).
Но зверь, как и блудница, его прообраз, приходит в этот мир не навсегда, а на «малое время», которое указано в Откровении, хотя оно не является временем календарным: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». После чего зверь сковывается Ангелом на тысячу лет: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (20:2).
Зло же в мире неустранимо. Оно не уничтожается однажды раз и навсегда, а как бы воспроизводится. И каждое поколение людей преодолевает его в брани духовной. Об этом говорит Откровение: «Зверь был, и нет его, и явится» (17:8). Господь же не только осудил блудницу, но и взыскал с неё за дела её: «Он осудил ту великую любодейку, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов Своих от руки её (19:2). «Ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (18:5). Прегрешения же блудницы были велики, если «и цари земные любодействовали с нею и купцы земные разбогатели от великой роскоши её» (18: 3).
После этого приходит истинная жена, невеста Агнца: «Возрадуемся и воздадим ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» (19:7). Можно сказать, что Анна Ахматова во всём своём творчестве проходит этот путь жены: «светлая жена» – блудница – невеста Агнца…
Но чей голос ей «был»? Голос был с неба о том, чтобы не подвергнуться язвам блудницы, надо не участвовать в её грехах и выйти от неё: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её, и не подвергнуться язвам её» (18:4). Вот трагедия, вот драма, в том числе и в этом стихотворении Анны Ахматовой. Надо не участвовать в грехах блудницы, (она же – город), и выйти из неё. Но это невозможно, так как это означало бы оставить Россию навсегда, которая есть «город крепкий»…
Видимо, надо сказать и о природе изначальной, ветхозаветной блудницы книги Бытия, потому что это не некий «догмат», и не «история» в её привычном понимании, но то, что пребывает в человеческом сообществе всегда. Это приблизит нас и к пониманию А. Ахматовой, коль она так свободно и для своего времени начала ХХ века так естественно обращалась к этому библейскому образу. Тем более что это связано с первой катастрофой гибели человеческой цивилизации – Всемирным Потопом.
Потоп, конечно, грандиозная трагедия, но важно знать, что стало его причиной. В книге Бытия, говорится о том, что причиной его стало вырождение человека, то, что «земля растлилась», наполнилась злодеяниями, и плоть человеческая извратила свою природу, «путь свой на земле»: «Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями» (6:11); «И воззрел Бог на землю, и вот, она растлена: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (6:12). И поскольку пришёл конец плоти, люди должны быть истреблены: «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот Я истреблю их с земли» (6:13). Обратим внимание на то, что Господь защищает землю от «них», от растлившихся людей, но не самих людей. Наоборот, земля растлилась от людей, извративших свою природу. Это свидетельствует о том, что первоосновой человеческого бытия является земля.
Что значит: «ибо всякая плоть извратила путь свой на земле»? Это значит, что сыны Божии, представители сифской цивилизации, последователи Авеля, оставшиеся верные Богу, стали брать в жёны «дочерей человеческих», представительниц каинитской цивилизации: «И тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал» (Бытие, 6:2). Следствием этого события и стал Великий потоп, то есть истребление рода человеческого с земли. Это обстоятельно изложено в книге Е. А. Авдеенко «Тема «Каин» в современном мире» (М., КЛАССИС, 2014). «…Каиниты и сифиты жили раздельно на два рода»: потомки Каина (убийцы Авеля) или каиниты – и потомки Сифа, или сифиты. Поскольку сифиты призывали имя Божие, на них и запечатлелось имя Божье: Св. Писание называет их – «сыны Божии» (Быт. 6:2). До какого-то времени каиниты и сифиты жили раздельно, потому что Каин захотел «скрыться от лица Божия» (Быт. 4:14), и он понял, как это можно сделать. Каин должен был уйти «за границу». Черта, за которую ушёл Каин, существовала поначалу только в его уме, однако Каин верно выбрал направление движения. Он не пошёл от Бога, имя которому «Восток», не пошёл на запад… Каин пошёл на Бога, на Восток (Быт. 4:16), против Бога.
Каин ушёл, а потомки Сифа жили, где родились. Сыны Божии могут жить без каинитян. Они живут на своей земле и в своём отечестве, и пока они «сыны Божии» – они Церковь, они не уязвимы. Некоторая черта стала разделять два рода: каинитян и сынов Божиих. Они жили раздельно, однако в шестом или в седьмом поколении (от Адама) уяснилось, что потомки Каина не могут жить, как хотел Каин, изолированным сообществом: тем или другим путём они должны внедряться в сообщество сынов Божиих. Каинитяне стали неудержимо стремиться назад, само их выживание зависело от того, удастся ли им проникнуть за черту оседлости, где жили сифиты. Каиниты должны были каким-то способом воздействовать на сифитов». Способов для этого несколько. Но главным был – женщины, которые стали проникать в сифскую цивилизацию.
В каинитской же цивилизации женщины стали мистическим и ритуальным служением. Первая из них, храмовая блудница, посвящённая в служение, была безмужняя Ноема. С неё родство стали передавать не по отцу, а по матери: «женщина-каинитянка – это мировоззрение. Пленение сынов Божиих было духовной катастрофой (переворотом, революцией). Не Потоп был мировой катастрофой, а то, что ему предшествовало между сынами Божиими и дочерьми Каина» (Е. А. Авдеенко). Это была поистине мировая революция. А «всякая революция есть повальный блуд».
Цивилизация каинитян была попыткой восполнить отсутствие Бога. Поэтому они предпринимали строительство Вавилонской башни, строительство которой, изменяя свои формы, продолжается до сего дня. Но это строительство предпринималось ценой отказа от имени и облика человеческого: «Сотворим себе имя» (Бытие, 11:4). Таким образом, эта цивилизация стала преодолевать человека, который оказался главным препятствием на пути этого строительства. Сам человек – вот цель этого строительства. «Самые страшные богоборческие движения в человечестве будут связаны с попыткой уйти от самой человеческой природы, создать нового человека» (Е. А. Авдеенко). Иными словами, основная дилемма человеческого бытия есть сам человек, его духовная природа, то, как она сохраняется или не сохраняется в мире.
Конечно, не только А. Ахматова чувствовала, постигала и выражала это вырождение человека в результате грандиозной социальной революционной катастрофы. А. Блок, уже написав поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы» и статью «Интеллигенция и революция», то есть уже, постигнув смысл и значение грозных событий, очевидцем которых ему довелось быть, вроде бы вдруг, в 1918 году с увлечением пишет статью «Катилина», «эпизод из кровавых событий Древнего Рима», напрямую соотнося его, со своим революционным временем. Называет – Люция Сергия Катилину «римским революционером». И отмечает, что «век отличался вообще, как принято говорить у филологов, повсеместным падением нравов и ростом самого ужасного разврата». Обратившись к древней истории, поэт, видимо, почувствовал, что всё, созданное им о своей революционной эпохе, будет неполным без этой ужасной физиологической стороны жизни. Ведь этот век породил «царицу цариц», блудницу Клеопатру и «промотавшегося беззаконника и убийцу» Катилину.
Вместе с тем со своей духовной и этической высоты А. Блок оговорился: «Я не хочу множить картин бесстыдства и уродства», выявляя основное, преобладающее содержание как древней, так и своей эпохи: «Страшная болезнь, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации: болезнь вырождения. За этим опошленным словом стоит довольно жуткое содержание». Вместе с тем он отмечал, что это не людьми делается, а с людьми происходит: «Но напрасно думать, что «сеяние ветра» есть только человеческое занятие, внушаемое одной лишь человеческой волей. Ветер поднимается не по воле отдельных людей; отдельные люди чуют и как бы только собирают его: одни дышат этим ветром, живут и действуют, надышавшись им; другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут и действуют, несомые ветром». Но великий поэт видел и выход из этой злой «стихии», о чём он писал, к примеру, А. Белому ещё 23 сентября 1907 года: «Если бы я был уверен, что мне суждено на свете поставить только «Балаганчик», я постарался бы просто уйти из литературы (может быть, и из жизни). Но я уверен, что я способен выйти из этого, правда, глубоко сидящего во мне направления».
Анна Ахматова тоже «дышала этим ветром» эпохи и тоже, как и многие её современники, была «несомая ветром» того времени. И этого никогда не скрывала: «Все мы бражники здесь, блудницы, / Как невесело вместе нам!». Это – «чёрный ветер», как в поэме А. Блока «Двенадцать», и как у неё в стихотворении 1921 года «Кое-как удалось разлучиться…»: «Чёрный ветер меня успокоит,/ Веселит золотой листопад». И позже, в стихах 1961 года: «В чёрном ветре злоба и воля».
И будет помнить об этом и позже, как в этих стихах бесстрашной искренности, написанных в Ташкенте в 1942 году:
Какая есть. Желаю вам другую,
Получше.
Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики…
…Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вторгалась
В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих – безутешная вдова.
Но в этом «беспамятстве смуты», когда всё было столь переменчивым, неопределённым и зыбким, что оставалось в поэтическом мире А. Ахматовой неизменным и непоколебимым? Если следовать логике библейского образа, это, конечно, – земля. Она же – город, который может стать и «блудницей», из которого нельзя выйти, чтобы не участвовать в блудодеяниях её. Неслучайно у А. Ахматовой много стихотворений, посвящённых городу, в его разных состояниях. Но это – и страна, Россия, которую невозможно покинуть.
«За то, что я верна осталась
печальной родине моей…»
Есть у Анны Ахматовой стихотворение, написанное в 1922 году, удивительного гражданского и патриотического накала, «Не с теми я, кто бросил землю…». Стихотворение, созданное в трагический период истории России, когда обнажился весь ужас революционного крушения страны, всего предшествующего уклада жизни. Вместе с тем – в трудный и мучительный период её жизни и писательской судьбы, когда надо было твердо и решительно определяться: как теперь быть.
По своему гражданскому пафосу это редкое стихотворение в русской литературе. Редкое потому, что в нашей литературе как-то так повелось издавна, а в особенности с революционных демократов ХIХ века, что гражданственностью в литературе стали почитаться почти исключительно бунт и протест, а не любовь к Родине, родному краю, родному городу… Когда гражданственностью и патриотизмом стало считаться всякое, говоря словами А. Пушкина, «сатирическое воззвание к возмущению», а каждое «очень посредственное произведение, не говоря уже о варварском слоге», выдавалось повсеместно чуть ли за некое откровение. Когда ещё в самом начале смуты декадентствующие поэты в отчаянии и с какой-то поразительной безответственностью вещали: «Довольно, не жди, не надейся – /Рассейся мой бедный народ… Исчезни в пространство, исчезни Россия, Россия моя!» (А. Белый, «Отчаянье», 1908 г.). Это ведь тоже блуд, блуд интеллектуальный, так сказать, поэтический…
После Февральской революции для А. Ахматовой всё осложнялось ещё и тем, что её муж, поэт Николай Гумилёв оказался во Франции, в составе Русского Экспедиционного корпуса, который царское правительство направило в 1916 году воевать за Францию в обмен на поставки оружия. В переписке он предлагал ей с сыном приехать к нему в Париж. После трудной и мучительной внутренней борьбы она отказалась, так как не мыслила себя вне России. Остатки этого корпуса с неимоверными трудностями вернулись в революционную Россию в 1920 году, понятно, никем не замеченные, униженные и оскорблённые.
А к 1922 году почти все, кто считал возможным покинуть Россию, были уже в эмиграции. Отмечаем это вовсе не в осуждение их, ибо не дай бог никому оказаться в таком революционном хаосе и в «беспамятстве смуты». Мы говорим не о них, а поэте Анне Ахматовой, о том, как она считала возможным и необходимым поступать. Тем более что нам довелось пережить второе в одном веке крушение страны начала девяностых годов со всеми его миазмами и человеческими жертвами, кардинальным образом изменившего жизнь страны и каждого человека.
Как уже увидели, Анна Ахматова понимала не только историческое и социальное, но и духовное значение происшедшей в стране государственной катастрофы и народной трагедии, о чём она писала в стихотворении 1920 года «Петроград. 1919»:
И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озёра, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.
Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.
В стихотворении же 1922 года был уже некоторый вызов тем, кто не устоял в смуте, так как в нём уже намечались пути выхода из этой смуты. Именно выход, а не невозможный возврат к прежней жизни, какой был в подавляющем большинстве эмигрантов:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.
И уже не столь важно, кому именно она посвящала стихи, с кем именно связано их появление. С Николаем Гумилёвым ли, как в этих строках 1917 года:
Всё ветер западный приносит
Твои упрёки и твои мольбы.
…Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.
Или же с художником Борисом Анрепом, которого она, кажется, по-настоящему любила. Исследователи полагают, что это стихотворение связано именно с ним, хотя в нём нет посвящения. Даже гневное стихотворение, написанное в июле 1917 года в Слепнёве:
Ты – отступник: за остров зелёный
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Для чего ты, лихой ярославец,
Коль ещё не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?
Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.
Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.
Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.
После Февральской революции Борис Анреп, будучи убеждённым западником, покинул Россию навсегда. Уехал в Англию, потому что любил «покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред». Впрочем, как и Артур Лурье, муж «легендарной» Олечки Судейкиной, героини «Поэмы без героя», будучи комиссаром музотдела Наркомпросса, в 1922 году бежал за границу» (Александр Недошивин, «Шестое окно» Ахматовой, «Литературная газета», № 24, 2002).
А. Ахматова ведь писала не биографии близких ей людей, но постигала их духовное состояние. Так же как общества и народа в целом. Филологическая же наука не должна и не обязана считать конечной своей целью установление прототипов. На это есть другие сферы исследований. А потому действительно не столь важно, к кому она обращалась в стихах 1921 года:
Нам встречи нет. Мы в разных странах,
Туда ль зовёшь меня, наглец,
Где брат поник в кровавых ранах,
Принявши ангельский венец?
И ни молящие улыбки,
Ни клятвы дикие твои,
Ни призрак млеющий и зыбкий
Моей счастливейшей любви
Не обольстят…
Этот диалог её с «отступниками» не отпускал её потом всю жизнь. Как в этих стихах уже годы и годы спустя, стихах из «чёрных песен» 1961 года:
Слова, чтоб тебя оскорбить…
И. Анненский
1
Прав, что не взял меня с собой
И не назвал своей подругой,
Я стала песней и судьбой,
Ночной бессонницей и вьюгой.
Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.
II
Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне…
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,
Как плакальщица выл…
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог…
Я без него могла.
Это был диалог уже не с «тенями», а с самой собой, со своей совестью: «Одни глядятся в ласковые взоры,/ Другие пьют до солнечных лучей, / А я всю ночь веду переговоры/ С неукротимой совестью своей».
Вроде бы только любовные истории, каких у неё, как у человека страстного, было немало, побуждали её к таким стихам. Но за этим всегда стояло главное, не только её собственная судьба, но и судьба страны и народа. Как в стихах 1917 года:
Ты говоришь – моя страна грешна,
А я скажу – твоя страна безбожна.
Пускай на нас ещё лежит вина, –
Всё искупить и всё поправить можно.
Так и гораздо позже, в стихах 1958 года:
Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Что ж, прощай. Я живу не в пустыне.
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни,
В остальном я сама разберусь.
А. Ахматова, может быть, как мало кто из поэтов ХХ века подтвердила мысль А. Блока о том, что несовременного искусства не бывает. Г. Адамович писал, что «но связана она с той Россией, которая «была», а не есть. Новая Россия её не прочтёт и поймёт, во всяком случае, по-другому, чем читатели-сверстники. Им-то, современникам, всё кажется безвозвратно далёким, им не всегда легко понять и принять, что с революцией не всё оборвалось. Как сказал поэт, им порой чудится, что
Все, кто блистал в тринадцатом году,
Лишь призраки на петербургском льду».
Приводя эти строки Георгия Иванова, Г. Адамович вступал в полемику с Анной Ахматовой, по сути, отрицая всё то, что она переживала, чем так долго мучилась в «Поэме без героя». Всё это, видите ли, им только «чудилось». Отрицал то, что все потрясения в истории человеческой цивилизации происходили главным образом от вырождения человека, а не по каким-то социальным причинам, что эти причины были уже только следствием этого несчастья падения человека…
Озабоченный в большей мере проблемами эмиграции, чем судьбой народа и страны, Г. Адамович ошибся. Анну Ахматову читали и читают. Видимо потому, что она «умела говорить на языке тех культурных поколений, с которыми время сводило её на протяжении долгой жизни» (Лидия Гинсбург, «День поэзии», 1977). Она имела полное право сказать о себе: «Я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны» (1965 г.). Заметим – «ритмами», а не «проблемами» и не «задачами», ибо истинный поэт во все времена служит не внешнему, а внутреннему порядку мира…
Можно уверенно сказать, что на всех поворотах истории ХХ века, свидетельницей и участницей которых была Анна Ахматова, она оказывалась на такой высоте понимания происходящего в судьбах народа и страны, какой достигали совсем немногие её современники.
В своё время А. Ахматова обижалась на эмигрантскую критику: «Они хотят запихнуть меня в десятые годы. А у меня есть «Реквием», у меня есть «Поэма». Я никогда не переставала писать стихи» («Литературная газета», № 1, 1989). Почему эмигрантская критика в большинстве своём поступала так, понятно. Потому что в большей мере была занята не судьбой России и её народов в трагический период истории, а проблемами самой эмиграции.
Но удивительно, что и сегодня наша критика, даже филологическая наука занята, по сути, тем же. То есть настойчивым возвращением её в десятые годы, вычленяя из её наследия только этот период «беспамятства смуты», период «блудницы». Разве не для того, чтобы внести его в современную жизнь? Вольно или невольно – это уже не столь важно. Настойчивое её возвращение в тот период, от которого она сама открещивалась («Как будто перекрестилась,/ И под тёмные своды схожу»), который радикально пересматривала, выявляя его истинный смысл и значение, что и явилось её главной темой «Поэмы без героя».
Между тем как таким переосмыслением десятых годов, того образа жизни, в котором она тогда пребывала, А. Ахматова выражала духовное и нравственное состояние народа в его временном развитии. Как во многих стихах, так и прежде всего в «Поэме без героя».
Такой попыткой вернуть А. Ахматову в десятые годы, отсекая всё её последующее творчество, является, к примеру, публикация доктора филологических наук Адиле Эмировой «Вселенная ритмов» («Литературная газета», № 51-52, 2015). И никакая терминологическая оснастка типа «герменевтики», на связи читателя с текстом, «ассоциаций», «рецепции», «редукции», «рефлексии и медитации» не может заслонить указанной направленности публикации. Это видно уже по перечню «любимых стихов» филолога: «Тебе покорной? Ты сошёл с ума!..», «Мне ни к чему одические рати…», «Долгим взглядом твоим истомлённая…», «Это просто, это ясно…», «Разрыв», «Ржавеет золото и истлевает сталь…», «Что войны? Что чума? Конец им виден скорый». В основном как раз те стихотворения, в которых А. Ахматова выражала то неблагополучие своего времени, которое она потом преодолевала и которое, как оказалось, имело трагические последствия для народа и страны, да и для каждого человека: «Я пью за разорённый дом, за злую жизнь мою…», «Мне молиться и за тебя? Для чего же, бросив друга/ И кудрявого ребёнка…», С такой женщиной А. Ахматова и сама не хотела бы встретиться, о чём писала в «Поэме без героя», «С той, какою была когда-то/ …Снова встретиться не хочу». Но именно с «той» женщиной предлагается сегодня встретиться читателям, а не с той, умудрённой, какой она стала позже. На это можно сказать разве что словами В. Ходасевича: «Люблю Ахматову, а поклонников её не люблю».
В стихах 1911–1913 гг. А. Ахматова изображает, конечно же, блудницу, в чём она и сама признавалась. Но величие её в том и состояло, что она в отличие от многих и многих своих современников, которые ностальгировали по «тем» временам, когда всё было «можно», это вполне осознавала, этим мучилась, это преодолевала. А как же иначе, если «Поэму без героя» она писала более двадцати лет, а подходила к ней задолго до неё во многих стихотворениях…
Станислав Куняев описал примечательный случай о встрече, как видно, уже с потомками первой волны эмиграции: «Однажды в одном из австралийских университетов, в среде русских преподавателей и студентов я прочитал вслух знаменитое стихотворение Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам…», думая, что стихи взволнуют моих слушателей и введут разговор в сложное многогранное русло. Но вдруг одна из женщин яростно бросила мне в лицо обвинение Анне Ахматовой в том, что она чуть ли не большевичка и прислужница режима, предательница России. Ахматовой, которая писала о своей судьбе: «Муж в могиле, сын в тюрьме – помолитесь обо мне»! Она осудила Ахматову только потому, что Анна Андреевна в начале двадцатых годов сделала как русская женщина свой патриотический выбор:
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как осуждённый, как больной,
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
Я изумился и буквально потерял дар речи. Вот она, фанатичная обоюдоострая нетерпимость, её застарелое эхо! Мы были уверены в том, что все, кто эмигрировал – предатели России. Они – в том, что предатели все, кто остался… Было это уже в 1991 году. Вот какие страсти ещё недавно бушевали в эмигрантских русских душах» («Поэзия. Судьба. Россия». Книга 2, М., «Наш современник», 2005). Но, как видно по последующим событиям, страсти эти не отбушевали, и не могут отбушевать, коль в среде граждан России появилась новая, очередная волна «эмигрантов», именно тогда, когда России объявлена война на наше народное и государственное уничтожение… Эти страсти, как видим, возобновляются и воспроизводятся. Как и во веки веков, как и всегда, ибо дело вовсе не в прописке и не в принадлежности к «эмиграции», так как эмигрантом «можно» быть и в своей стране, желая ей поражения. Не «режиму», а именно стране, своей Родине. Всё дело в тех духовно-мировоззренческих ценностях, которые люди исповедуют, вне зависимости от того, где они, волею судьбы и истории оказались…
Поэт Владимир Корнилов писал же об этой исповеди А. Ахматовой: «Вот они, главные стихи, в которых Ахматова объясняет, почему она не покинула Родину… Мощь этих стихов, разумеется, учетверена историей. Но, возможно, они сегодня звучат так насущно именно потому, что в своё время были так современны» («Советская Россия», № 144, 1989). И потом, совершенно очевидно, что идеология первой волны эмиграции была выстроена не на трудах самых талантливых и одарённых её представителей. А наоборот, самых посредственных, маргинальных, но соответствовавших определённым идеологическим догматам. Конечно, энтузиасты издадут потом, к примеру, стихи Николая Туроверова, в которых прежде всего – сострадание к несчастным пилигримам: «Своих страданий пилигримы, скитальцы не своей вины». Но это произойдёт гораздо позже публикаций трудов и мемуаров всех персонажей эмиграции, как правило, тенденциозных.
Что теперь мы можем и что смеем?
Полюбив спокойную страну,
Незаметно медленно стареем
В европейском ласковом плену.
…И почему мне нет иного
Пути средь множества путей,
И нет на свете лучше слова,
Чем имя родины моей?
Или – в стихотворении Николая Келина «Родине»:
Страшась, тянусь я издалёка
И, ненавидя я люблю,
Но тенью резкого упрёка
Не брошу в Родину мою.
…Россия… Слова нет дороже
Для нас, оторванных от ней;
Тяжёл наш путь средь бездорожий,
Без сил, надежд и без огней.
Но ведь идеология эмиграции в своём абсолютном преобладании была совсем иной, даже прямо противоположной. Вплоть до неслыханной гордыни и эгоизма на фоне такого страшного революционного крушения страны: «Мы унесли с собой Россию». То есть настоящая Россия теперь там – на Западе, в зарубежье, а не здесь, где она испокон веку пребывала. Отсюда: «Привет из старой России…» (В. Лихоносов), то есть из эмиграции, откуда якобы единственно и должно прийти спасение. И это проповедовал писатель, отец которого погиб в Великую Отечественную войну, которого он, судя по его писаниям, не особенно и помнил…
В подтверждение этого приведу один литературно-исторический факт, поразительный по своему смыслу и значению. У Г. Адамовича есть статья «Вклад русской эмиграции в мировую культуру». Не в российскую, а прямо-таки – в мировую. В ней он обращается к издателю и в прошлом политическому деятелю В. В. Вырубову с изложением своих соображений «о неотложной необходимости составления и издания книги-памятника русской эмиграции», «Золотой книги русской эмиграции»: «Такая книга – наш общий долг» – писал он, должна стать «нашим оправданием». И убеждал издателя в том, почему такая книга является неотложной необходимостью: «Рано или поздно новые русские поколения спросят себя: что они делали там, на чужой земле, эти люди, покинувшие после революции родину и отказавшиеся вернуться домой…». Почему новые поколения должны спросить об этом себя, а не их – это чрезвычайно характерная оговорка или описка. Хотя Г. Адамович, как человек образованный и разумный, оговаривался: «Не будем, однако, поддаваться нелепому, хоть, увы, довольно распространённому эмигрантскому ослеплению, не будем утверждать, что там, в России, со времени революции ничего ценного создано не было и что, не будь нас, страну нашу можно было бы без урона для человечества списать со счетов цивилизации…». Но в том-то и дело, что такое «ослепление» в эмигрантской среде было определяющим.
Был создан специальный комитет для подготовки такой «Золотой книги русской эмиграции», разосланы обращения ко всем желающим принять участие в издании. Статья Г. Адамовича вышла брошюрой в Париже в 1961 году. Но книги русской эмиграции, оправдывающей её, так и не получилось. Такой логически, вроде бы, замечательный замысел осуществлён не был… И помешали этому не какие-то бытовые причины, но сущностные, то, что большинству людей оказавшихся в изгнании, проблемы эмиграции заслонили трагедию России и её истинный смысл. Г. Адамович писал, что если такой замысел не удастся, «то было бы это для эмиграции несчастием, значение которого по-настоящему окажется учтено и понято лишь в будущем». Не книги не получилось, а не получилось оправдания...
Пишу это опять-таки вовсе не в осуждение эмиграции. Весь вопрос состоит в точном определении её исторического значения, не приписывая ей не свойственного и невозможного. Ей можно было сострадать и сочувствовать, но не выставлять же в качестве эталона патриотизма, как это произошло в значительной мере в литературной среде. Все и не могли и не должны были поступить, так как Анна Ахматова – остаться в России. Это было невозможно, так как не каждому человеку была доступна такая сила духа.
Но и не замечать этой духовной высоты или умалять её было несправедливо, ибо это приводило неизбежно к продолжению трагедии. Разумеется, в иных формах. Когда началось очередное либерально-криминальное разрушение России (Советского Союза), провозглашаемое как её «возрождение», решили «подвести черту» в трагедии страны ХХ века, которая свелась к «воссоединению культурного наследия русских» («Русское зарубежье», М., «Роман-газета», 1993 г.). Внешне это было привлекательно и красиво, но оборачивалось своей противоположностью, так как свелось, по сути, к возвращению и насаждению эмигрантской идеологии, как якобы спасительной, когда уже сама принадлежность к «зарубежью» становилась как бы знаком качества, вне зависимости от текстов. Словом, вышла всё та же, но уже в более коварной форме, губительная идеология западничества, в литературе обстоятельно изученная. Разумеется, под патриотическими декларациями. Такое «воссоединение» невозможно, так как мир изначально устроен иначе. Каин и Авель никогда не могут оказаться в братских объятиях. Так уж устроен мир. Кто же пытается «соединить» их в братстве, так или иначе, вольно или невольно, но неизбежно становятся на путь оправдания Каина…
И такой конформизм, то есть отсутствие собственной позиции, беспринципное следование любому образцу, обладающему большей силой, обернулся тем, о чём с вполне естественной полемичностью писал один из талантливых поэтов второй половины миновавшего ХХ века Юрий Беличенко:
На Лубянке не стреляют,
на Литейной – тишина.
Эмиграция гуляет
как неверная жена.
Всё забылось, всё простилось,
всё отмылось добела,
и в заслугу превратилось,
что со многими спала…
К сожалению, не только в среде либеральствующих литераторов, но и в среде, вроде бы, патриотически настроенных, а значит и в общественном сознании так и не произошло осмысления драмы России в ХХ веке. Вплоть до нового крушения страны начала девяностых годов. Был навязан догмат о том, что это «большевики» разрушили страну, и ввергли её в хаос и беззаконие. Этот догмат охранялся особенно ревностно, да и сейчас охраняется. А потому поэт, мой ровесник, доживший до седин, с искренней наивностью, пишет о стихотворении А. Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю…»: «Вот скажите, о каких «врагах» говорится хотя бы в этом ахматовском стихотворении» (Евгений Артюхов, «Мой поэтический календарь». Книга 2, издательство «Культура», 2022). Но в стихотворении А. Ахматовой говорится о тех врагах (без кавычек), кто сверг монархию и устроил «глухой чад пожара» в феврале 1917 года. В феврале, а не в октябре. Казалось, что за целый век после событий, можно было уже разобраться в их истинном смысле и значении…
Насколько этот догмат охранялся, свидетельствует то, что когда уже в конце девяностых годов выдающийся историк И. Я. Фроянов посмел честно и обстоятельно изложить то, что происходило в феврале, а что в октябре в книге «Октябрь семнадцатого» – либеральной жандармерией ему была устроена неслыханная обструкция с самыми жесткими оргвыводами…
Ведь когда А. Ахматова писала о том, что «полынью пахнет хлеб чужой», она имела в виду хлеб не в буквальном смысле слова, но «хлеб жизни» хлеб веры: «Я есмь хлеб жизни… Хлеб же, сходящий с небес таков, что ядущий его не умрет» (Евангелие от Иоанна, 6:48, 50).
Более поздние толкователи Анны Ахматовой и особенно во время новой смуты начала девяностых годов настойчиво пытались свести всё её наследие к политическому протесту, коль она являлась автором трагической поэмы «Реквием». Она имела полное право, как биографическое, так и социально-историческое, сказать: «Я была тогда с моим народом,/ Там, где мой народ, к несчастью, был». Но писала она, прежде всего, об извечной участи поэта. Тем более у нас в России. И уж тем более в такое трагическое время:
Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.
«Уже судимая не по земным законам…»
Первые наброски «Поэмы без героя» Анны Ахматовой относятся к осени 1940 года, о чём она писала в «Вместо предисловия» к ней: «Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав как вестника ещё осенью один небольшой отрывок. Я не звала её. Я даже не ждала её в тот холодный и тёмный день моей последней ленинградской зимы».
Сюжет поэмы таков. В новогодний вечер в Фонтанный Дом автора вместо того, кого ждали, приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых, в масках и шутовских нарядах. Приходит «адская арлекинада тринадцатого года». Те её покойные современники, с кем она общалась, литераторствовала, буйствовала и, по обыкновению того времени блудила, о чём сама признавалась в стихах. В поэтическом кабаре «Бродячая собака», на «Башне» Вяч. Иванова и везде. Вроде бы возвращалось то, «с чем давно простилась» она. Нет, теперь они приходят не на тот же сатанинский бал, но на суд автора. И судит она их сурово. Впрочем, как и саму себя.
«Из года сорокового» она смотрит на былое, «как будто перекрестилась». Это ведь уже «Крещенский вечер». Наступает такая ночь, когда «надо платить по счёту» за всё, что было тогда. Потому что «всё равно приходит расплата». Но теперь уже – «Господняя сила с нами». И главное – причину всех происшедших с тех пор трагедий в России и в мире, в том числе и начинающуюся Великую войну, она видит в 1910-х годах. Это, вроде бы, неожиданное для неё самой открывшееся обстоятельство и побудило её к «Поэме без героя». Ведь нравственное разложение образованного слоя общества, тех, кто должен и обязан духовно окормлять людей, приводит к разложению народа, при котором катастрофа страны становится неизбежной.
Она их уже не ждала, не хотела их видеть, полагая, что они, «одержимые бесом» сгинули уже навсегда:
Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки!
Но меня не забыли вы…
Да ей и самой уже не хотелось быть прежней, такой, какой она была вместе с ними в тринадцатом году:
С той, какою была когда-то
В ожерелье чёрных агатов
До долины Иосафата
Снова встретиться не хочу.
То есть не хотела оставаться грешницей до Судного дня, до долины Иосафата, до предполагаемого места Страшного Суда… Она их не ждала, жестоко, уничтожающе осуждая их. Но они, эти тени, снова являются к ней из небытия, с того света:
Значит, хрупки могильные плиты,
Значит мягче воска гранит.
Они явились потому, что такие тени, такая тёмная сила по самой природе человеческого бытия не уничтожается раз и навсегда. Она обладает свойством возвращаться помимо воли людей. А потому каждый человек, приходящий в этот мир, каждое поколение людей с ней неизбежно сталкивается. Преодолевая её в брани духовной, или же падая под её бременем, сдаётся ей.
И чья очередь испугаться,
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замаливать давний грех?
Пришли те, кого не ждали. А кого ждали? Ждали героя. Но он не появился, так как не мог проникнуть в тот зал, где правится сатанинский бал: «Человек что не появился/ И проникнуть в тот зал не мог». Герой, «гость из будущего» лишь предполагается в «грядущем веке»:
И тогда из грядущего века
Незнакомого человека
Пусть посмотрят дерзко глаза,
Чтобы он отлетающей тени
Дал охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.
Потому поэма и без героя? То идеальное представление о герое, как в стихотворении А. Пушкина «Герой», ушло из жизни: «Оставь герою сердце. Что же он будет без него? – Тиран». А в надвигающейся, а потом и разразившейся смуте он и вовсе потерялся, что чувствовали наиболее проницательные люди, поэты: «Герой уж не разит свободно. Его рука в руке народной» (А. Блок, «Возмездие»); «Для нас условен стал герой, Мы любим тех, кто в чёрных масках» (С. Есенин). Хотя необходимость героя в обществе всегда чувствовалась, как, к примеру, в стихотворении Я. Полонского «Неизвестность» (1865 г.): «Кто этот гений, что заставит/ Очнуться нас от тяжких снов…/ Придёт ли он как утешитель/ Иль как могучий, грозный мститель». Ну и в классическом, поразительном по своему пророчеству стихотворении шестнадцатилетнего М. Лермонтова «Предсказание» («Настанет год, России чёрный год,/ Когда царей корона упадёт») 1830 года. О том, что неизбежно бывает, «когда царей корона упадёт»: «смерть и кровь», беззаконие («Когда детей, когда невинных жён/ Низвергнутый не защитит закон»). Тогда и появляется неизбежно герой. И вовсе не таким, каким он представлялся: «В тот день явится мощный человек,/ И ты его узнаешь и поймёшь/ Зачем в его руке булатный нож: /И горе для тебя! – Твой плач, твой стон/ Ему тогда покажется смешон». Такова общая закономерность выхода из смуты, расплата за неё, возмездие… На это можно негодовать, такого героя можно проклинать, да только ничего изменить невозможно… Здесь же, в «Поэме без героя», то ли героя действительно нет, то ли он остаётся неразличимым… Напоминаю же об этом потому, что в основе «Поэмы» лежит именно эта закономерность.
Кстати сказать, не только Анна Ахматова почувствовала необходимость переоценки предреволюционной эпохи, своей молодости, когда, как оказалось, сеялся ветер разрушения. Георгий Иванов ещё в 1922 году писал:
Январский день. На берегу Невы
Несётся ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Соломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году –
Лишь призраки на петербургском льду.
Вновь соловьи засвищут в тополях,
И на закате, в Павловске иль Царском,
Пройдёт другая дама в соболях,
Другой влюблённый в ментике гусарском…
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени.
Здесь уже появляются персонажи «Поэмы без героя» – Олечка Судейкина, «блиставшая» в тринадцатом году и Всеволод Князев – гусар и поэт, покончивший жизнь самоубийством, то ли из ревности к этой Олечке, то ли по другим причинам, потому что эпидемия самоубийств становилась страшным обыкновением.
Но суд А. Ахматовой над эпохой, своими современниками и над собой очень даже отличается от того революционного суда, который тогда вершился. Суд этот менее всего можно рассматривать с точки зрения торжества «социальной справедливости». Ведь у поэта иной суд, ибо дело его «совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира», о чём писал А. Блок в завещательной статье «О назначении поэта»: «Дело его – внутреннее – культура, – это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога». А потому «Поэма без героя» – о том, что духовное разложение образованной части общества, как ныне говорят «элиты», или тех, кто незаслуженно находится в этом статусе, неизбежно приводит к разложению народа и катастрофе крушения страны.
«Поэма без героя» в своей сюжетной основе не столь уж сложна. Другое дело, что не столь проста для постижения её духовно-мировоззренческая основа. Между тем, она очень важна как для понимания людей начала ХХ века, так злободневна и сегодня. Об этом писала в предисловии к поэме сама А. Ахматова: «Кто-то советует сделать мне поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит».
Сам биографический характер «Поэмы без Героя» то, что она «создавалась на твёрдой фактической основе, она почти документальна» (Н. Банников), побуждает рассматривать её с точки зрения прототипов, как конечной цели её исследования и постижения: кого и как изобразила А. Ахматова, кто есть кто в поэме. Но такой подход, создавая все внешние признаки, вроде бы, научности, не касается главного – её духовно-мировоззренческой основы. Является, по сути, позитивистским. Такое пристрастие к прототипам перекрывает путь постижения духовного смысла творения. Неслучайно он был столь распространён в литературоведении в советский период истории. К тому же персонажи поэмы, реальные люди легко узнаваемы, чего автор и не скрывала. Но не они нас интересуют в первую очередь, а то, почему А. Ахматова подвергла столь радикальному пересмотру и переоценке период своей молодости. В этом кроется основной смысл поэмы, а вовсе не в том, насколько её персонажи соответствуют прототипам. А потому всякая «расшифровка» персонажей поэмы является имитацией литературного подхода к ней, не задевая её сути.
«Первое посвящение» – Памяти Вс. К. и «Второе посвящение» – О. А. Г.-С. – о реальных, конкретных людях – Всеволоде Князеве, поэте, «драгунском корнете», «драгунском Пьеро», покончившем жизнь самоубийством. И Ольге Глебовой-Судейкиной, «блиставшей» в тринадцатом году, «Путанице-Психее», которая была «похожая на куклу, с прелестной и какой-то кукольно-механической грацией танцует «полечку» – свой коронный номер» (Г. Иванов). Она эмигрировала в 1924 году и умерла в Париже. А перед отъездом оставила А. Ахматовой свой архив, стихи и письма к ней Всеволода Князева, что как видно по посвящениям, и побудило её к написанию поэмы. Судьбы этих людей, видимо, предстали пред ней, характерными для той эпохи. Как говаривали когда-то типическими в типичных обстоятельствах.
Такой же прелестной и беспечной она предстаёт и в «Поэме без героя». Но уже с беспощадной её характеристикой, теперь «козью пляшет чечётку»:
Всех наряднее и всех выше,
Хоть не видит она и не слышит.
…Как копытца, топочут сапожки,
Как бубенчик, звенят серёжки,
В бледных локонах злые рожки,
Окаянной пляской пьяна…
Но вместе с тем автор признавала, что «Ты – один из моих двойников», «Не тебя, а себя казню». И главное даёт ей, и такому типу женщин вообще беспощадное, но точное определение:
Ты в Россию пришла ниоткуда,
О моё белокурое чудо,
Коломбина десятых годов.
«Ниоткуда», то есть никак не связана с той российской жизнью, в которой она «блистала». Что и стало причиной её трагедии. Так же, как в стихотворении А. Блока «Снежная Дева» 1907 года, с точной биографией этой «ночной дочери»:
Она пришла из дикой дали –
Ночная дочь иных времён.
Её родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.
…Всё снится ей ночной Египет
Сквозь тусклый северный туман.
По сути так же, как и в «Египетских ночах» А. Пушкина, где указание на «царицу царей», на Египет было определением блудницы.
Полным воплощением «петербургской чертовни», сатанизма, «содомского смертоносного сока» предстаёт в «Поэме без героя» поэт Михаил Кузьмин.
Хвост, запрятав под фалды фрака…
Как он хром и изящен…
Однако,
Я надеюсь, Владыку Мрака
Вы не смели сюда привести?
Маска это, череп, лицо ли –
Выражение злобной боли,
Что лишь Гойя мог передать.
Общий баловень и насмешник,
Перед ним самый смрадный грешник
Воплощенная благодать…
Даже при такой убийственной характеристике поэта А. Ахматова соблюдает понятную деликатность. Поэту Евгению Рейну она говорила: «Я ведь очень хорошо помню, какое замечательное предисловие Кузьмин написал к моей первой книге. И всё-таки… Знаете ли, он иногда любил делать зло только из одного любопытства посмотреть, что из этого получится. Много за ним греха» («Литературная газета», № 9, 2016).
Даже свидетельствовала, что он, «вероятно, родился в рубашке», что он, один из тех, кому всё можно. «Я сейчас не буду перечислять, что было можно ему, но, если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом».
И в «Поэме без героя», и в прямых высказываниях А. Ахматова расценивала гомосексуализм, содомство поэта, впрочем, как и предельную распущенность его, однозначно отрицательно. Ведь он был из той незваной арлекинады, о которой она сказала в поэме: «И не им со мной по пути». Тем удивительнее годы и годы спустя, уже в наше время, когда очередная «арлекинада» девяностых годов, кажется, идёт на убыль, увидеть в М. Кузьмине «феномен этого ни на кого не похожего человека», «нашёптывающего под аккомпанемент рояля или гитары свои «стишки», не стыдящегося своих гомосексуальных романов, без труда проговаривающего невозможные откровенности, зовущие жить легко и празднично» (Александр Панфилов, кандидат филологических наук, «С мечтою о голубом цветке», «Литературная газета», № 41, 2022). Хотя филологу пристало говорить, прежде всего, о поэзии М. Кузьмина, скажем, о том, что «с птичьего полёта он ни на что не взглянул» (Г. Адамович), а не впадать в оправдание гомосексуализма, для поэзии якобы благотворного. Примечательна аргументация филолога для этого. Он ссылается на Г. Чулкова, известного всему Петербургу ловеласа. Дескать, совмещение в поэме несовместимого «не было механической смесью, а органическим единством… всё это было в Кузьмине чем-то внутренне оправданным и гармоничным». Но Г. Чулков сам принадлежал к той «арлекинаде». Это А. Ахматова помнила крепко из своей литературной молодости, если многие годы спустя по просьбе П. Лукницкого назвала его в своём «донжуанском списке», в числе мужчин, с которыми она была близка. Помнила потом всю жизнь Г. Чулкова и Л.Д. Менделеева, жена А. Блока, так сказать «друга» поэта… Но коль находится оправдание такого, это дела уже не далёкого «тринадцатого года», а нашего девяносто первого, с такой же арлекинадой. Это и называется множить безобразия и уродства… Между тем, как брошенное А. Ахматовой, вроде мимоходом о Кузьмине, что он «вероятно, родился в рубашке», является вовсе не оправданием, наоборот, точной характеристикой его, которая имеет глубокие корни в русском самосознании. Тем самым она называет известное поверье, отразившееся в летописях и в «Слове о полку Игореве» о Полоцком князе Всеславе, олицетворявшем не христианское, а «языческое» понимание мира. В тексте древнерусской поэмы прямо говорится о том, что он уклонялся от Суда Божия, о чём вещий Боян пел ему припевку: «Ни хытру, ни горазду… Суда Божия не минути». Всеслав родился от волхования и в рубашке, о чём в «Повести временных лет» под 1044 годом есть поразительное поверье». «В то же время умер Брячислав Изяславович, внук Владимира, отец Всеслава, и сел на столе сын его Всеслав, которого мать родила от волхования. Когда мать родила его, у него на голове была кожица. Волхвы же сказали матери его: «Эту кожицу навяжи на него, пусть носит её до конца дней своих». И носит её на себе Всеслав и до сего дня; потому и не милостив на кровопролитие».
Так что выраженье «родиться в рубашке» означает вовсе не неуязвимость, как порой полагают, а имеет совсем другой смысл. И, конечно же, не случайно А. Ахматова употребляла это выражение, говоря о М. Кузьмине.
Таков был «дух эпохи» в образованной части общества, о чём писал В. Ходасевич: «Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обострённости, в лихорадке …были сложнейше запутаны в общую сеть любовей и ненавистей, личных и литературных… Можно было прославить и Бога и Дьявола» («Некрополь», Париж, 1939). «Что это была за жизнь? – задавался вопросом Г. Адамович. – Были ли это годы высокого напряжения человеческого духа? Оставят ли они какой-то след в искусстве? Не думаю. Но была в эти годы особая сладость жизни, какое-то смутное предчувствие близких бед и крушений. Оттого все торопились жить, все были ветрены и романтичны». Поэты видели своё призвание в том, чтобы, «Проплясать пред Ковчегом Завета или сгинуть!..», как в поэме А. Ахматовой. Или как у Ф. Сологуба: «И верен я, Отец мой дьявол»: «Тёмная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами… И добро, и зло, и Бог, и дьявол – только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе». Для литературной среды это было особенно характерно. В дневнике 17 октября 1911 года А. Блок отмечал: «Происходит окончательное разложение литерат. среды. Уже смердит».
Людям последующих времён трудно понять, как складывался такой «дух эпохи». Признавалась же Э. Герштейн, что «не понимает тогдашних любовных отношений», что эпоха А. Пушкина была в этом отношении намного понятней. Этот «дух эпохи» можно было осознать, что видно по стихам А. Ахматовой того времени, но из него невозможно было выйти. А тот предупреждающий гул был еле слышен:
И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Непонятный таился гул…
Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души,
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи,
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек…
Главным содержанием «духа эпохи» стала утрата веры и как следствие этого – утрата высшего смысла существования. Наступает прямо-таки эпидемия самоубийств, что отмечал А. Блок в дневнике 1911 года: «Последние дни – учащение самоубийств, – молодёжь, гимназисты». И размышляет об этом страшном поветрии в дневнике 1912 года, в связи с тем, что стали собирать мнения писателей о самоубийствах: «Собирают мнения писателей о самоубийцах. Эти мнения будут читать люди, которые нисколько не собираются кончать жизнь. … В самом деле, почему живые интересуются кончающими с жизнью? Большей частью по причинам низменным (любопытство, стремление потешить свою праздность, удовольствие от того, что у других ещё хуже, чем у тебя, и т. п.). В большинстве случаев люди живут настоящим, т.е. ничем не живут, а так – существуют. Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее, знают, что десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми этими причинами стоит одна, большинству живых не видная, непонятная и неинтересная. Если я скажу, что думаю, т.е. что причину эту можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шее; а «деловые люди» только лишний раз посмеются; но всё-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки».
Реальный персонаж «Поэмы без героя» Всеволод Князев заканчивает жизнь самоубийством по причине ревности, неразделённой любви, на пороге возлюбленной: «Он на твой порог! Поперёк». И здесь Анна Ахматова отступает от биографической точности. Переживший роман с М. Кузьминым, Вс. Князев, покончил жизнь самоубийством в Риге и по неизвестным причинам… Драгунский корнет погибает, «Не в проклятых Мазурских болотах,/ Не на синих Карпатских высотах», где он, как человек военный мог скорее погибнуть, а «с бессмысленной смертью в груди». Получился частный несчастный случай, а не общее неблагополучие утраты смысла жизни. Кто знает, почему она приглушила в поэме духовную и социальную остроту этой трагедии. Может быть, она, столь беспощадно судившая себя, «Уже судимая не по земным законам», помнила всё-таки подобные трагедии и в своей жизни…
Сюжет «Поэмы без героя» собственно заканчивается в «Части первой». В «Части второй», помеченной как «интермеццо», представляется уже другой, вроде бы, самостоятельный сюжет. Неслучайно она называется «Решка», то есть оборотная сторона того, что было в первой части. Во второй части автором постигается и изображается, как живёт далее то, что изображено в первой части, так как оно не является лишь прошлым и «историей»… Да уже и в первой части, когда к автору явилась нежданная арлекинада, рядом, «Через площадку», не в прошлом, а в настоящем происходило то же самое. Об этом говорится во вставке «Интермедия»:
Санчо Пансо и Дон Кихоты,
И, увы, содомские Лоты
Смертоносный пробуют сок.
Афродиты возникли из пены,
Шевельнулись в стекле Елены,
И безумья близится срок.
И опять из фонтанного грота,
Через призрачные ворота
И мохнатый и рыжий кто-то
Козлоногую приволок.
«И опять…», как и в тринадцатом году… Во второй части поэмы А. Ахматова уже со всей определённостью говорит о том, что эта тёмная сторона жизни, как и зло в этом мире неустранимы. Потому и невозможно «отбиться от рухляди пёстрой». Злу следует ставить преграды каждому человеку в каждую эпоху. И как видно из второй части, «Поэма без героя» является её попыткой преодоления зла, «разделаться с бесноватой», чего никак не может понять «редактор», человек новой позитивистской эпохи:
«…Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой, –
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?»
Автор убеждает «редактора» и читателей в том, что «призраков рой» существует всегда. И не их наличием определяется жизнь, «дух эпохи», а тем, какую духовную силу мы им можем противопоставить:
И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалёка заслышав вой.
Всё надеялась я, что мимо
Пронесётся, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвой.
Не отбиться от рухляди пёстрой.
Это старый чудит Калиостро –
Сам изящнейший сатана…
Автор даже говорит, что она тут «не причём», потому что «столетняя чаровница/ Вдруг очнулась и веселиться/ Захотела./ Я не при чём». Она была «при чём» в тринадцатом году, в чём сама признавалась, беспощадно казня себя, пытаясь «разделаться с бесноватой» и преодолеть «безумья срок».
…Я пила её в капле каждой
И, бесовскою чёрной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой…
«Поэма без героя» Анны Ахматовой и стала её творческим подвигом преодоления духовного разложения образованной части общества, за которым неизбежно приходит крушение страны…
Да, она любила те ночные «сборища», о чём и писала в стихах 1917 года:
Да, я любила их, те сборища ночные, –
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над чёрным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжёлый, зимний жар.
Весёлость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.
Но уже тогда, как и в этих стихах 1913 года, понимала потаённый, для многих неведомый, губительный смысл происходящего, то, что это – пляски пред Ковчегом Завета:
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
…О, как сердце моё тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
Но нельзя не заметить, что для неё, по её же словам, «и грешной, и праздной», эта любовь уже тогда была какой-то невесёлой, безрадостной и уж тем более не была счастливой. Это и «проклятый хмель», и «бешеная кровь», и «постылый огонь», и недуг горестный, в котором «томится плоть». А то и вовсе предстаёт злом: «И как преступница томилась/ Любовь, исполненная зла». Хотя, что делать: «Слишком сладко земное питьё/ Слишком плотны любовные сети».
И в этом «беспамятстве смуты» она, как могла, берегла своё сердце и душу:
Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьёт,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжёт.
…Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце моё берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.
У А. Ахматовой, по сути, нет контраста между творчеством тех, десятых годов с последующим творчеством, вплоть до «Поэмы без героя». Нет, логически, вроде бы, ожидаемого разочарования в этой эпохе, отречения от неё. Но есть её беспощадная и бесстрашная оценка – расплата, возмездие за неё.
Анна Ахматова не отделяла себя от тех, с кем довелось ей жить в «беспамятстве смуты», всех, в том числе и себя, называя «бражниками» и «блудницами». Как большой поэт, воспринимающая жизнь во всей её целостности и полноте, понимая, что, то время ни забыть, ни тем более вычеркнуть из своей судьбы невозможно. Его можно только осмыслить, понять и тем самым преодолеть его «бесстыдства и уродства». Причём, постичь и понять, прежде всего, его духовную основу.
Женщину своего времени и своего круга общения, с «холодком настоящей свободы» А. Ахматова постигла и представила в своём творчестве убедительно и даже блестяще. А потому здесь следует говорить не столько о том, что и она принадлежала к этому кругу женщин, ибо тут всё понятно, о чём она и сама писала. Главное состоит в том, что это за тип женщины и чем обусловлено его появление. А потому мы и обратились к изначальному образу блудницы, к её духовной «биографии», к её феномену, когда любовь может быть злом:
Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась,
И как преступница томилась
Любовь, исполненная зла
(«О жизнь без завтрашнего дня»).
Если бы А. Ахматова сказала только: «Я научила женщин говорить…», то это было бы в духе феминистских поветрий, уже тогда дававших о себе знать, не менее, чем позже. Но она тут же пишет: «Но, Боже, как их замолчать заставить!» И так во всём – многозначность и многомерность, то есть вся полнота жизни…
Она не только не отделяла себя от тех, кто «блистал» в тринадцатом году, от той эпохи, которая и стала причиной последующих трагедий, но и себя считала виноватой во всём происходящем. И в поэме: «Ну а как же могло случиться,/ Что во всём виновата я?», «Разве я других виноватей?». И в стихотворении 1960 года «Подражание Кафке»:
Другие уводят любимых, –
Я с завистью вслед не гляжу
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.
…Неужто я всех виноватей
На этой планете была?
И в этом – этическая и нравственная высота поэта. Неужто полвека, то есть по сути, всю творческую жизнь? Да, она имела полное право сказать так. Ведь главным, основным, что не позволяло ей «вписаться» в преобладающее в обществе мировоззрение, было её традиционное христианское, православное миропонимание, которое никак не могло сочетаться с официальными догматами и «революционными ценностями». И пусть «времён суровость» смягчилась (Я. Смеляков), всё равно это оставалось основным противоречием общества. Да что там, четверть века спустя после кончины А. Ахматовой российские поэты издавая традиционный, ежегодный альманах «День поэзии» в 1968 году, в год 1000-летия Крещения Руси, так и не смогли, не посмели произнести название, имя столь значимого в истории русского народа и страны событие – Крещение Руси. И назвали дату «1000-летием отечественной культуры». Что уж говорить об эпохе А. Ахматовой. Можно лишь подивиться её стоицизму и последовательности в отстаивании христианского понимания мира.
Так полагает, так думает и так поступает истинный поэт. На обыденном и обывательском же уровне все представляется совсем не так, иначе. В подтверждение этого приведу поразительный документ времени, говорящий столь о многом. Это письмо Надежды Яковлевны Мандельштам, подруги А. Ахматовой, жены Осипа Мандельштама к драматургу А.К. Гладкову. Дело в том, что в самом начале 1967 года, уже после кончины Анны Андреевны, Надежду Яковлевну посетил Евгений Эмильевич Мандельштам, брат поэта, и показал ей воспоминания Лютика. То есть воспоминания Ольги Ваксель, любовницы О. Мандельштама, из-за которой Надежда Яковлевна чуть, было, не развелась с мужем. Воспоминания, содержащие подробности эротического характера, тех «бесстыдств и уродств», в атмосфере которых они тогда жили.
Как поступает Надежда Яковлевна? Так, как и должно на обыденном уровне. Она предпринимает неимоверные усилия для того, чтобы нейтрализовать эти воспоминания, уничтожить их любыми средствами, не допустить их к огласке и публичности, так как она была оскорблена и унижена этими воспоминаниями. Теперь ей представилось, что в них изображена постыдная страница её жизни. И пишет письмо А. К. Глазкову:
«Дорогой Александр Константинович! У меня к вам трудное и сложное дело. Оно настолько интимно, что должно остаться между нами. Почему-то у меня появилась надежда, что вы сможете мне помочь… Дело в том, что героиня нескольких стихотворений О.М. («Жизнь упала как зарница», «Я буду скитаться по табору улицы», «Возможна ли женщине мёртвой хвала») вышла замуж за какого-то норвежца (29–30-31 год), умерла в Осло (самоубийца, выстрелила себе в рот), а перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары. Муж отвёз их сыну, живущему в Ленинграде (сплошная патология и она, и муж, и мемуары!). У того культ матери, который выражается в том, что он всем раздаёт её мемуары и фотографии (они были у Анны Андреевны и у многих других). Хочет меня видеть. Хорошо бы обойтись без меня… Но выяснилось, что мне нужно увидеть эти мемуары, надиктованные мужу. Ужас публичной жизни заключается в том, что все выходит наружу, да ещё в диком виде. Я ничего не имею против варианта, что О.М. мне изменил. Мы хотели развестись. Но потом остались вместе. Дело же обстоит серьёзнее.
Женщина эта, видимо, была душевно больной. Ося расстался с ней безобразно. После встречи в гостинице (это и его, и её версия) он вернулся домой и застал меня со сложенным чемоданом, через минуту за мной пришёл Татлин. (Всё это только вам: не говорите даже Эмме). (Про Татлина – он всегда один, и я знаю не один случай, когда женщина, меняя мужа, или выбирая себе второго, временно сходилась с Татлиным). Произошла лёгкая сцена, Татлин пожаловался, что ему уже сорок лет и у него нет жены, а Ося увёз меня в Детское Село, где мы ссорились, и я рвалась уйти; потом приехала Анна Андреевна и как-то всё забылось. Вот грубое содержание этой драмы.
Это был 1925-й год. Я тогда посоветовала Татлину поискать жену на Украине – там их много. А его как раз приглашали туда. Он послушался и поехал, расставшись со мной. Итак, я сыграла роль в его жизни не только постельную… После О. М. среди толпы других она жила с Евг. Эмильевичем. Он возил её на Кавказ (именно после этого она к нам пришла в Детское). Евгений Эмильевич недавно явился ко мне и рассказал про дневник, а я слегка испугалась. Кажется, она мстит в нём Оське за это дикое прощание.
Несколько слов об этой женщине. Её звали Ольга Ваксель. Дочка Львовой – бывшей фрейлины. Хороша была как ангел. Ничего подобного в жизни я не видела… Теперь чего я боюсь. Всё началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробней говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в её дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать)… Единственная её способность : она ходила по Ленинграду и давала всем и все. Лютик, как её звали.
Вот моя просьба: я хотела знать подробно, что в этом дневнике (вместе с эротикой). Противно это безумно, но надо это сделать… Почему я обращаюсь к вам. Проклятая, как я называю это, публичность может вытащить эти мемуары наружу… Дико ворошить всё это на старости лет. Но что делать? Помогите, если можете… Чертова молодость: сколько осложнений она оставляет в жизни».
В последующих письмах к А. К. Гладкову Надежда Яковлевна уточняет свою просьбу: «Чего бы я хотела – это избежать реалий и выключить себя из этой игры. Проклятое легкомыслие и распутство юности – и ещё остатки десятых и двадцатых годов… Не думаю, чтобы она любила О. М.: к этому времени она была уже половой психопаткой и жила с целой толпой…». А. К. Гладков удивился такой просьбе, назвав в дневнике её письмо «страннейшим» (Надежда Мандельштам. «Об Ахматовой», издание второе, исправленное. М., «Три квадрата», 2008).
Так поступает обыватель, «исправляя» свою биографию, наивно полагая, что это возможно. Совсем иначе понимала свою судьбу, своё предназначение, своё поручение, данное ему свыше, истинный поэт. Тем более большой поэт, каковым была Анна Ахматова.
Примечательно, что после «Поэмы без героя», те, кто жил в то время и пребывал в распутстве, не замечая ненормальности и порочности его, вдруг прозрели. Обнаружили, что поэма трагична потому, что ценности заколебались ещё в ту эпоху, на которую А. Ахматова смотрела «из года сорокового», что «крестный путь», выпавший на долю людей этого поколения и стал расплатой за потерю ценностей. Заметили даже, как в человеческие души возвращаются ценности.
Хотя «Поэма без героя» и начата Анной Ахматовой в 1940 году, к ней она подходила задолго до этого, судя по её более ранним стихотворениям. Так О. А. Глебовой-Судейкиной она посвящает стихотворение 1913 года «Голос памяти» («Что ты видишь, тускло на стену смотря…»). Ей же посвящает стихотворение 1921 года «Пророчишь горькая, и руки уронила…». Уже тогда вполне определённо постигая образ такой женщины. Но не отделяла ещё от неё себя, как в стихотворении 1913 года «Все мы бражники здесь, блудницы…».
Как лунные глаза светлы и напряжённо
Далёко видящий остановился взор.
То мёртвому ли сладостный укор,
Или живым прощаешь благосклонно
Твоё изнеможенье и позор?
В цикле «Три стихотворения» 1917 года, терзаясь своей причастностью к «адской арлекинаде»:
Не оттого ль, уйдя от лёгкости проклятой,
Смотрю взволнованно на тёмные палаты?
Уже привыкшая к высоким, чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам,
Я, как преступница, ещё влекусь туда,
На место казни долгой и стыда.
И вижу дивный град, и слышу голос милый,
Как будто нет ещё таинственной могилы,
Где у креста, склонясь, в жары и холода,
Должна я ожидать последнего суда.
И что примечательно и удивительно, А. Ахматова не только продолжает работать над поэмой тогда, когда она, казалось, уже завершена, но параллельно пишет стихи о той же эпохе, снова обращается к образам и теням тех людей, с которыми её сводила судьба. В стихотворении «Тень» из небольшого цикла «В сороковом году», с эпиграфом из О. Мандельштама: «Что знает женщина одна о смертном часе?»
Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет,
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стёклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь чёрные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года –
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили… А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!
В стихотворении «Надпись на портрете» 1946 года с посвящением «Т. В-ой»:
Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всей камей.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.
И эти стихи, создававшиеся одновременно с поэмой, в определённой мере дополняют её.
Что же касается образа блудницы в «Поэме без героя», то будем помнить, что эта тема в русской литературе вовсе не нова и вполне, так сказать, естественна. В связи с этим вспоминаются, прежде всего, «Клеопатра» и «Египетские ночи» А. Пушкина, о последней царице Египта, покончившей жизнь самоубийством. В определённой мере к этой теме можно отнести и «Тамару» М. Лермонтова, героиня которой к исторической царице не имела никакого отношения. И, конечно же, наиболее глубоко образ блудницы постиг современник А. Ахматовой А. Блок. И в «Незнакомке», и в «Снежной Деве», и особенно в «Клеопатре». Стихотворение возникло в связи с тем, что в 1907 году в Петербурге был открыт паноптикум, музей восковых фигур, среди которых была выставлена и фигура египетской царицы Клеопатры.
Открыт паноптикум печальный
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим… В гробу царица ждёт.
И что очень важно, А. Блок не отделял себя от толпы пьяной и нахальной:
Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз,
Пришёл взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ,
Так же, как и А. Ахматова не отделяла себя от «адской арлекинады».
«…Тогда я исторгала грозы,
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта – слёзы,
У пьяной проститутки – смех».
Но главная дума поэта о том, что «тлетворный дух» Клеопатры уже привнесён в Россию, что неизбежно влечёт за собой разложение общества и крушение страны: «Ты, видишь ли, теперь из гроба,/ Что Русь, как Рим, пьяна тобой…».
Понимали ли так же глубоко образ блудницы с её «тлетворным духом», как А. Блок и А. Ахматова, другие их современники? Да нет же. Написал же поэму в шести главах В. Брюсов: «Обработка и окончание поэмы А. С. Пушкина «Египетские ночи»… Так сказать, «продолжил» и «поправил» великого поэта, не осознавая, что это невозможно. Его блудница уже может быть и не блудницей, а проявлять похвальное человеческое чувство сострадания… (Валерий Брюсов, с. в семи томах, т. 3, М., «Художественная литература», 1974).
Нельзя, наконец, не сказать о том, почему А. Ахматова уже после Великой Отечественной войны, оказалась, по сути, изгнанной из литературы на довольно длительное время. После постановления ЦК ВКП(б) 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград». И доклада А. Жданова. Мировоззренческой причиной стало якобы недопустимое сочетание в её творчестве «блудницы» и «монахини»: «Не то монахиня, не то блудница, а скорее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой». Вроде бы хотелось предельной определённости: или «блудница» или «монахиня». Но ни то, ни другое никак не вписывалось в преобладающее мировоззрение в обществе.
Но это уподобление «не то монахиня, не то блудница» принадлежит литературоведу Б. Эйхенбауму. Почему же в таком случае, это сравнение в устах А. Жданова – это глумление, а в устах Б. Эйхенбаума как бы только констатация факта и не несёт в себе ничего глумливого? Неужто тут повинна только недопустимо грубая форма обвинения А. Жданова, если суть одна и та же? Нет же. Исследователи, начиная с Б. Эйхенбаума, точно уловили в творчестве А. Ахматовой такое сближение «блудницы» и «монахини». Причем, это не могло быть объяснено оксюморонностью, то есть совмещением несовместимого, как художественного приёма, так как касалось мировоззренческой и духовной сферы. Литературовед Б. Эйхенбаум был совершенно прав, как, впрочем, вослед за ним был прав и партийный руководитель А. Жданов. А. Ахматова не просто давала повод для такого уподобления, это было одной из основных мировоззренческих особенностей её мировоззрения и творчества. Можно привести много примеров в доказательство этого. Но приведём хотя бы одно её стихотворение 1912 года:
Протёртый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно.
И густо плющ тёмно-зелёный
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы…
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.
А сердцу стало страшно биться,
Такая в нём теперь тоска…
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.
В таком, казалось бы, несочетаемом сочетании и проявилась трудная и мучительная духовная борьба того времени – между верой и безверием, борьба поэта по преодолению сатанизма тринадцатого года и той «адской арлекинады», к которой она когда-то тоже ведь принадлежала…
А. Ахматова всегда стремилась постичь происходящее с точки зрения высшего духовного смысла. И если причину трагедии крушения страны она видела в 1913 годе, то есть в разложении образованной части общества, то её начало – в Первой мировой войне, о чем – её стихотворение «Июль 1914» («Пахнет гарью…»).
Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».
…Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
«Ранят тело Твоё пресвятое,
Мечут жребий о ризах Твоих».
Вот истинные причины происходящего, когда люди утрачивают веру, вновь распинают Христа и делят его ризы: «Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий» (Евангелие от Матфея, 27:35). Всё происходящее потом, после этого уже неизбежное следствие того, что жизнь превращается в карнавал, арлекинаду, теряет смысл. Именно это имел ввиду Андрей Платонов, когда, откликаясь на её сборник «Из шести книг» («Советский писатель», 1940), писал о силе её стихов, «облагораживающих натуру человека» («День поэзии», 1966).
Она воспринимала свою жизнь в общем течении человеческого бытия, несмотря на деление его на эпохи и поколения. Так же понимала и своё творчество – в общей картине поэзии. Как в этом обращении к Музе:
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
Главная причина насторожённого отношения к А. Ахматовой уже позже, уже, по сути, в конце её творческого пути, что обернулось долгим замалчиванием её в русской литературе, оставалась всё та же – по признаку отношения её к вере, религии, Богу. Именно эта, а не какая-то идеологическая. За этим угадывалась глухая, но жёсткая борьба в обществе по мировоззренческому признаку. Даже в 1961 году, уже после Великой войны, когда было предпринято издание А. Ахматовой в престижной серии «Библиотека поэта», этот вопрос оказался главным, о чём она сама писала о редакторе В. Орлове: «Он требует в стихотворении: «Я научилась просто мудро жить/ Смотреть на небо и молиться Богу», заменить чем-нибудь Бога. Чем же прикажете? Служить единорогу?» Даже А. Сурков, принявший активное участие в выходе этой книги А. Ахматовой, написавший послесловие к ней, что было для этой серии исключением, защищавший её, вынужден был отметить: «Чтобы не подставлять Ахматову под ненужные удары придирчивой критики, я бы рекомендовал исключить религиозно окрашенные стихи». То есть исключить религию, веру, то, без чего ни один народ жить не может. Кроме русского…
Но заметим, что в этой издательско-редакторской уловке А. Сурков, олицетворявший тогда писательскую власть, не предъявлял А. Ахматовой каких-то претензий, а пытался обезопасить её от «придирчивой критики». В таком случае надо задаться вопросом о том, что это была за «придирчивая критика», а не тем, о каких «врагах» она говорит в стихотворении «Не с теми, я, кто бросил землю…», которых якобы не было и быть не может. То есть разрушение страны есть, «глухой чад пожара» есть, а врагов всё это свершивших, как бы и нет. Странная, если не сказать больше – лукавая логика.
В своей «Поэме без героя» А. Ахматова не просто прощается с тем, с чем уже давно простилась, но «погребает» его. Хоронит эту эпоху, которая несла гибель («Гибель где-то здесь очевидна. / Но беспечна, пряна, бесстыдна/ Маскарадная болтовня»). Об этом в её небольшом цикле «В сороковом году»:
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит.
…А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, –
Но матери сын не узнает,
И внук отвернётся в тоске.
И её героиня (О. Глебова-Судейкина) тоже «всплывает», «как труп на весенней реке»: «Зачем всплываешь ты со дна погибших лет»… Она казнит себя в то время, как её незадачливые современники всё ещё тосковали по тем невозвратным блудным временам, когда всё было «можно»…
Чрезвычайно большое значение имеет тот факт, что Анна Ахматова посвятила «Поэму без героя» не тем, с кем «блистала» в далёкие десятые годы, не теням их, явившимся к ней нежданно в 1940 году. А людям, погибшим во время великой драмы блокады Ленинграда. Слышала их голоса, а не тех, кто «блистал в тринадцатом году». Тем самым свидетельствовала, что трагедия крушения России и эта великая драма войны стали результатом того, тогда казавшегося безвинным «блистания»: «Я посвящаю эту поэму памяти её первых слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время блокады. Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи».
«Я над ними склонюсь, как над чашей…»
«Поэму без героя» Анны Ахматовой надо читать и воспринимать совместно с циклом её стихотворений «Венок мёртвым». Ведь в своей поэме она пересматривала, переосмысливала и переоценивала не только то время, когда она могла горделиво декламировать «Все мы бражники здесь, все блудницы…», но пересматривала и переоценивала наследие поэтов, своих современников, с которыми её сводила судьба и с которыми она жила в «беспамятстве смуты».
Впрочем, «Поэму без героя» надо воспринимать в единстве и с поэмой «Реквием». И не только потому, что они создавались, по сути, одновременно, но потому, что они имеют единую мировоззренческую основу, связаны причинно-следственной последовательностью: то, что происходит в «Реквиеме», стало неизбежным последствием того, что происходит в «Поэме без героя», точнее – то, что происходило в 1913 году.
Цикл «Венок мёртвым» состоит из стихотворений разных лет и охватывает довольно большой временной период – от 1938 года до 1961-го. То есть он складывался у неё столь же долго, как и «Поэма без героя». Поэтический же дар, дар песнопенья был для неё превыше всего. Высшей способностью человека различать вещи этого мира по их истинным именам. А потому уточняя значение поэтов, своих современников в литературе, она говорила не о литературе только, а о смысле происходившего и происходящего. И прежде всего о духовном смысле. А уточнение масштаба дарования поэтов и их значения в литературе в её «Венке мёртвым» оказались очень существенными, подчас даже радикальными.
Первое стихотворение этого цикла «Учитель» 1945 года имеет посвящение «Памяти Иннокентия Анненского». Посвящение довольно необычное, так как такие посвящения делаются обычно в связи с кончиной человека, но не тридцать шесть лет же спустя… Как она и посвящала стихотворения этого цикла «Памяти М.А. Булгакова» (1940 г.), «Памяти Бориса Пильняка» (1938 г.). В то же время стихотворения, посвящённые О. Мандельштаму (1957 г.), и «Борису Пастернаку» (1960 г.) – уже без добавления «памяти», словно они оставались для неё живыми. Значит, в стихотворении «Учитель», памяти Иннокентия Анненского, основным было не столько «памяти», сколько переоценка его поэзии:
А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошёл, и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье –
И задохнулся…
Куда уж более жёсткий упрёк учителю, если он «весь яд впитал», «всю эту одурь выпил» и вдохнул во всех болезненное «томленье»…
В стихотворении «Памяти Бориса Пильняка» 1938 года она вспоминает его «беззаботный смех», которому ответствуют и лес, и камыши в пруду «каким-то странным эхом». Она тужит не только над ним, а завидует тем, кто может плакать «о тех, кто там лежит на дне оврага». То есть над многими современниками, разделившими его участь. Его же оплакала как-то совсем скупо:
О, если этим мёртвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своём, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, что там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
О своём поколении она сказала во втором стихотворении этого цикла, выделяя то главное, что определило его судьбу и путь:
Две войны, моё поколенье,
Освещали твой страшный путь
Причём, в контексте цикла это относится и к тем, кто до Второй мировой, Великой Отечественной войны не дожил.
В стихотворении «О. Мандельштаму» 1957 года Анна Ахматова не даёт оценки его творчеству, хотя, как известно, с большим пиететом относилась к его стихам, часто цитируя их. Здесь поэтов всецело сближает общая трагическая эпоха:
Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть –
Окровавленной юности нашей
Это чёрная нежная весть.
Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.
В отличие от Бориса Пастернака, которому она даёт самую высокую духовную оценку, называя его «провидцем», которому выпала крестная смерть. И его последний вздох – «евангельский» и «гефсиманский»: «Могучая евангельская старость/ И тот горчайщий гефсиманский вздох», хранимый «высшею волей»:
Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьётся путь золотой и крылатый,
Где он высшею волей храним.
Можно предположить, что Михаил Булгаков сыграл какую-то важную роль в создании А. Ахматовой «Поэмы без героя». Тем более, что она встречалась с ним и слушала в его чтении главы из «Мастера и Маргариты». Но это влияние было не таким однозначным, что она якобы в своей «Поэме» размышляла в русле булгаковского романа. Скорее, наоборот. В стихотворении «Памяти М. А. Булгакова» она упрекает рано ушедшего из жизни писателя за то, что он «гостью страшную», то есть нечистую силу, блудницу «сам к себе впустил/ И с ней наедине остался»:
Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донёс
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне…
Само стихотворение А. Ахматовой «Памяти М.А. Булгакова» было – «взамен кадильного куренья». И это понятно. Автора, покощунствовавшего и в пьесе «Батум», и в «Мастере и Маргарите» она определила точно. Но ведь эти стихи кроме того и «взамен могильных роз». А это уже беспощадная характеристика, так как означает, по сути, отказ от такого естественного почитания усопшего – положить цветы на его могилу…
А. Ахматова в своём стихотворении явно спорит с М. Булгаковым, не соглашаясь с ним. Ведь он в своём путанном и неточном, с точки зрения религиозной, романе «Мастер и Маргарита», как, впрочем, и в «Собачьем сердце», во многой мере постигал то, как морок безверия и сатанизма овладевал человеком и миром. Его больше занимало то, как мир становится безбожным, как происходит духовное падение человека. А. Ахматова же в «Поэме без героя» и во многих стихотворениях, как впрочем, и в «Реквиеме», постигала то, как живая человеческая душа сопротивляется этому мраку безверия, как она противостоит ему и преодолевает его. То есть была занята тем, к чему испокон веку стремился поэт в России – не «множить картин бесстыдства и уродства» (А. Блок), а несмотря ни на что, ни на какие потрясения, постигать гармонию этого мира…
Не потому ли вокруг романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», впервые опубликованного в журнале «Москва» в 1966 году, позже, накануне нового крушения страны, был возбужден неслыханный ажиотаж и даже психоз. При всём при том, что понять его и протолковать в тогдашней атеистической среде могли совсем немногие. Но было достигнуто такое положение в образованной части общества, что прослыть «передовым» и «интеллектуалом» можно было, только прочитав «Мастера и Маргариту». Слыханное ли дело, чтобы книга выходила почти двухмиллионным тиражом (Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», М., «Художественная литература», 1988).
Но наиболее жёсткую оценку Анна Ахматова давала Марине Цветаевой в прижизненном стихотворении, ей посвящённом, «Поздний ответ». Причём, предпослав к нему в качестве эпиграфа строчку из М. Цветаевой о том, как та понимала А. Ахматову: «Белорученька моя, чернокнижница». Это было столь далеко от А. Ахматовой, что, надо полагать не могло не возмутить её, что и проявилось в стихотворении. Какая уж там «белорученька» при её судьбе. Да и «чернокнижница» была далека от Ахматовой.
Поздний ответ
М. И. Цветаевой
Белорученька моя, чернокнижница…
Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в чёрных кустах,
То забьёшься в дырявый скворечник,
То мелькнёшь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идём,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
Это уже даже не диалог с поэтессой, а довольно жёсткий спор. И опровержение и «белорученьки», и «чернокнижницы». И – убийственная ирония над тем, что вещала поэтесса из «Маринкиной башни». Стихотворение «Нас четверо» (1961г.) также свидетельствует о том, что А. Ахматова вела с ней не диалог, а спор, вынося ей, в конце концов, довольно жёсткую оценку: «Тёмная, свежая ветвь бузины…/ Это письмо от Марины». В отличие от других поэтов, с ней «голосов перекличку» она не ведёт. Нам же остаётся отметить тот факт, что эта оценка А. Ахматовой очень уж отличается от той восторженно-немотивированной оценки М. Цветаевой, которая стала преобладать в последующем. Впрочем, не только Ахматова давала ей такую оценку: «Марина Цветаева постоянно жаловалась в эмиграции на то, что её не ценят и не понимают… Имеет ли основание, имеет ли даже право поэт красоваться своей избранностью?» (Г. Адамович). Ведь истинный талант всегда не право, а обязанность.
Кстати сказать, почему именно «башня»? Это очень важный образ в мире А. Ахматовой, к которому она обращалась неоднократно и которым поверяла как себя, так и других поэтов. К примеру, в 1914 году, в стихотворении «Уединение»:
Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Или в 1916 году, в Слепневе:
На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет…
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.
И во «Вступлении» к «Поэме без героя» 25 августа 1941 года:
Из года сорокового,
Как с башни, на всё гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась,
И под тёмные своды схожу.
Башня в мире А. Ахматовой – это та безусловная духовная величина, к которой должен стремиться каждый истинный поэт: «Башнею поставлю Я тебя среди народа Моего, чтобы ты знал и следил путь их» (Книга пророка Иеремии, 6:27). И прямо-таки, словно обращаясь именно к ней, к Анне Ахматовой: «Дочь народа моего! Опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом; сокрушайся, как бы о смерти единственного сына, – горько плачь, ибо внезапно придёт на нас губитель» (Кн. Пр. Иеремии 6:26).
Вот почему такая ирония к «Маринкиной башне». Разве с этой Башни говорят такое, а не самое важное, самое главное? Не вещать же с неё такую горделивую самонадеянность. И пред кем, пред «родными пашнями», пред Родиной. «Вернулась домой» вот «за это случилось со мной» всё остальное – и утрата любимых, и разрушение родительского дома. Но у А. Ахматовой всё оказалось, как раз наоборот, ей «белорученьке» пришлось столь многое испытать и пережить «за то, что мы остались дома», «За то, что я верна осталась печальной родине моей».
И, словно не всё высказав о М. Цветаевой, А. Ахматова в стихотворении «Нас четверо» этого же цикла «Венок мёртвым», ещё раз обращается к ней. Уже позже, в 1961 году. К этому стихотворению она предпосылает три эпиграфа: из стихов О. Мандельштама, Б. Пастернака и М. Цветаевой. Она сама – четвёртая. Но странное дело, в стихотворении она слышит перекличку только двух голосов, а голоса М. Цветаевой не слышит:
…И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.
Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.
Двух? А ещё у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Тёмная, свежая ветвь бузины…
Это – письмо от Марины.
Вот последнее письмо от Марины, последняя о ней ветвь – «ветвь бузины»… Разумеется, А. Ахматова хорошо знала творчество М. Цветаевой, как видно по всему жалея её, ибо была в их общении немногословной. Но не могла же она согласиться с тем, что «Тоска по родине: Давно/ Разоблачённая морока!/ Мне совершенно «всё равно – / Где совершенно одинокой/ Быть…». Не могла же не видеть, что в её настойчивых декларациях «Ибо мимо родилась. Времени вотще и всуе…», «Отказываюсь быть./ В Бедламе нелюдей/ Отказываюсь жить» – и духовный надлом, и интеллектуальный срыв, закончившиеся трагически – самоубийством…
Духовная высота Анны Ахматовой была совсем иной. Все, кто помощи душевной просил у неё, с ней «своей делились силой»…
Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете, –
Все юродивые и немые,
Брошенные жёны и калеки,
Каторжники и самоубийцы, –
Мне прислали по одной копейке,
Стала б я «богаче всех в Египте»,
Как говаривал Кузьмин покойный…
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой,
И я стала всех сильней на свете,
Так, что даже это мне не трудно.
Покойный Кузьмин, по обыкновению своему, пророчил ей участь «царицы цариц» в Египте, то есть «блудницы»… Она же пошла совсем иным путём, к народу и Родине. Это вовсе ведь не то, что бесшабашное цветаевское: «Хотенье женское моё – / Вот всё именьице моё»…
К этой, если можно так сказать, иерархии поэтических ценностей своей эпохи, выстроенной А. Ахматовой как в цикле «Венок мёртвым», так и в других стихотворениях, следовало бы отнестись повнимательней, так как она не вполне соответствует иерархии, выстроенной филологами в истории литературы. Да и понятно, ведь филолог обязан охватить всё, что ни является на свет Божий, и нередко вне его поэтического уровня. Иерархия же, выстроенная А. Ахматовой, ценна именно с точки зрения поэтической и литературной, а не какой-то иной, скажем, «исторической», «социальной» или «корпоративной». И мы не можем сказать, что эта иерархия поэта неточна. Она-то и представляется теперь наиболее точной.
Примечательно, что не в связи с «Поэмой без героя», а именно в связи с циклом «Венок мёртвым» А. Ахматова, по сути, подводила итог своего творческого пути:
Справлена чистая тризна,
И больше нечего делать.
Примечательно ещё и то, что А. Ахматова, столько раз обращавшаяся в стихах к А. Блоку, стихи о нём в «Венок мёртвым» не включила. Ну, хотя бы «Три стихотворения» 1944–1960 годов. Нет, не включила, так как глубоко осознавала значение «трагического тенора эпохи», то, что, он над всеми, что он «Прославленный не по программе/ и вечен вне школ и систем» (Б. Пастернак). Но над всеми ими, поэтами, своими современниками, одних любя восторженно, других – требовательно до жёсткости, она в равной мере благодарно склонялась, как над чашей, о чём и писала в стихах.
Поэтов того поколения, к которому принадлежала А. Ахматова, в общественном сознании и даже в филологии, принято определять понятием «поэты серебряного века». Понятием расхожим, постоянно повторяемым, как некий тренд и догмат. Обязательно в положительном смысле и непременно с придыханием: «Серебряный век!», как конечная оценка. Хотя понятие это никак не характеризует поэтов этого поколения. Но удивительно, что к А. Ахматовой это понятие как-то не пристало. В отличие от других поэтов этой эпохи, её имя менее всего связывают с этим названием. Ведь определение это, можно сказать, случайно. В обиход его ввёл поэт Николай Оцуп (1894–1958), уже в зарубежье. (См. «Антология русского лиризма. ХХ век», том второй, М., «Студия», 2004 г. Составитель А. Васин).
Но сущность этого понятия «серебряный век» всё-таки проступает. Поэт, педагог, проницательный литератор Инна Кабыш вывела его значение из Ф. Достоевского в своём анализе «Поэты Серебряного века как герои русского классика»: «Слова «бесы» и «поэты» – особенно в применении к поэтам Серебряного века! – практически синонимы» («Литературная газета», № 45, 2021).
Но откуда, из каких духовных мировоззренческих представлений проистекает это «серебро»? Мне кажется, оно объясняется через Книгу пророка Иеремии о неустранимости зла в мире. Пророк Иеремия жалуется Господу: «Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытуешь сердце моё, каково оно к Тебе» (12:1). И предлагает Господу отделить злых от всех остальных и уничтожить их: «Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на убиение» (12:3).
Господь соглашается с Иеремией, что «все они – упорные отступники, живут клеветою; это – медь и железо, – все они развратили» (6:28). Но вместе с тем говорит о том, что отделить их невозможно: «Раздуваемый мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик плавил напрасно; ибо злые не отделились» (6:29). Господь оставляет злых в этом мире, но определяет им имя, называя их «отверженным серебром»: «Отверженным серебром назовут их; ибо Господь отверг их» (6:30). Значит, всё дело, в их преобладании или непреобладании в этом мире. И это соотносится с той литературной эпохой, которую привычно и бездумно называют «серебряным веком»…
«А ты всё та ж, моя страна,
в красе заплаканной и древней…»
Анну Ахматову справедливо принято считать поэтом, соединившим поэзию ХIХ века с поэзией трагического ХХ века. Продолжившим русскую литературную традицию, несмотря ни на что, ни на какие потрясения и катастрофы своего революционного времени. На этом основании и вовсе не случайно её сближают с А. Блоком. Уже в 1934 году Г. Адамович писал о том, что, «теперь мы готовы повторить «Ахматова и Блок» с уверенностью, что это одно из редких имён, которые такого сочетания достойны». Истинные поэты понимали значение А. Ахматовой в русской поэзии и позже. Как, к примеру, в стихах Я. Смелякова, посвящённых её памяти:
Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузьмина.
Что давало право на такое сближение поэтов и на выделение их из всей плеяды поэтов той эпохи? Конечно, само их творчество. Но не поэтика только и не манера, которые никогда не были для поэтов определяющими. А прежде всего, их воззрения на мир, на человека в нём, на своё предназначение.
Анна Ахматова – одна из немногих поэтов в катастрофическую эпоху осталась верной своей исконной христианской православной вере. Её не коснулись никакие жестокие атеистические и богоборческие поветрия времени, которые начались ещё с революционных демократов середины ХIХ века, и даже раньше. Не коснулись и преходящие идеологические догматы её времени. Каким-то невероятным чутьём, присущим только большому поэту, А. Ахматова различила за всей мишурой своей эпохи извечный закон человеческого бытия: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам» (Второзаконие, 11:16).
А основным, спасительным образом как для А. Блока, так и для А. Ахматовой, определившим их пути, стал образ Родины, России, родной земли. Именно тогда, когда Родине грозила опасность. Не столько внешняя, сколько духовно-мировоззренческая. У А. Ахматовой этот поворот совершился накануне и с началом Первой мировой войны, как в стихотворении «Июль 1914», когда она прозревала страшные сроки, когда «станет тесно от свежих могил». Причём, опасность, грозящую стране, воспринимает как крушение мира, как распятие Христа: «Ранят тело Твоё пресвятое,/ Мечут жребий о ризах Твоих». Какой уж при этом может быть «имперский энтузиазм», свойственный многим в начальный период войны, о котором писала А. Марченко: «Четырнадцатый год аукнулся в её поэзии неким подобием имперского энтузиазма» («С ней уходил я в море…», Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. «Новый мир», № 8, 9, 1998). Как видно из этого стихотворения, Анна Ахматова находилась совсем в ином духовном и мировоззренческом измерении, а не в этом реально-бытовом, военном и политическом…
Как уже видели, в стихотворении 1917 года «Когда в тоске самоубийства…», когда на голос, который ей «был», оставить «свой край, глухой и грешный», оставить Россию навсегда, руками «замыкает слух». В стихотворении 1922 года «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам…» со всей определённостью не мыслила себя вне России, где ни единого удара не отклонила от себя. Такой тема Родины, России остаётся у неё и далее, на протяжении всего её творческого пути.
И для Александра Блока тема Родины, России во время войны становится главной:
Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней…
Но он прозревает опасность, грозящую стране раньше, уже с первой революцией в России. На эти годы приходятся самые трудные и мучительные его размышления о Родине. И что примечательно, само прозрение человека, его спасительный дар любви ко всему сущему он связывает с Родиной:
Много нас – свободных, юных, статных –
Умирает не любя…
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!
В письме К. С. Станиславскому 9 декабря 1908 года он излагает творческую программу всей своей жизни: «Ведь тема моя, я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений – живая, реальная тема; она не только больше меня, она больше всех нас; и она всеобщая наша тема. Все мы, живые, так или иначе, к ней же придём. Мы не пойдём, – она сама пойдёт на нас, уже пошла… Не откроем сердца – погибнем (знаю это как дважды два четыре). Полуторастамиллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы ни выставили, какой бы «Великой России» (по Струве) ни воздвигли. Свято нас растопчет; будь наша культура – семи пядей во лбу, не останется от неё камня на камне.
В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Всё ярче сознаю, что это – первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный».
В 1915 году выпускает книгу «Стихи о России». В самые трудные для страны годы, когда нависшая над ней катастрофа уже была очевидна ему и наиболее проницательным его современникам. И когда тема России в «образованной» части общества была «непопулярной»…
19 марта 1921 года, уже больной, а по сути, умирающий, А. Блок записывает нечто вроде видений «Ни сны, ни явь». Записывает, как он сам отмечал, «со слепнущими от ужаса глазами». И в таком его состоянии, это были видения о России, которые и сегодня потрясают своим пророчеством: «Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветёт миндаль. Мимо проходит Магдалина с сосудом, Пётр с ключами; Саломея несёт голову на блюде; её лиловое с золотом платье такое широкое и тяжёлое, что ей приходится откидывать его ногой.
– Душа моя, где же твоё тело?
– Тело моё всё ещё бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже её потеряв.
Окончательно разозлившийся чёрт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность.
Душа мытарствует по России в двадцатом столетии...
…А за деревней на холмах остановились богатыри: сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперёд, Конь крепко упёрся ногами в землю, всадник протянул руку, показывает далеко за лес…».
А душа, как видим, мытарствует по России и в нашем двадцать первом веке... Только здесь, в России находя себе пристанище, в продуваемом всеми вселенскими ветрами мире…
Невозможно назвать другого поэта, кроме Анны Ахматовой, который так же глубоко, как и А. Блок, понимал бы судьбу России, так бы страстно отстаивал её и так естественно не мыслил бы своей жизни вне неё. И это были не декларации, а выражение самого существа их личностей. И можно лишь подивиться прозорливости О. Мандельштама, который ещё в 1916 году писал об А. Ахматовой, что «в настоящее время её поэзия близка к тому, чтобы стать одним из символов величия России», («День поэзии», 1981 г.).
Вера и Родина, Россия – это те главные духовные величины, которые не могут быть подвергнуты сомнению ни при каких внешних обстоятельствах, то, чего не может поколебать никакой «дух эпохи». И это со всей определённостью и незыблемостью воплотилось в творчестве Александра Блока и Анны Ахматовой.
Другое дело, что в более поздних исследованиях это основное содержание – верность народной вере и своей Родине, России – стало сводиться лишь к каким-то реально-бытовым аспектам, к взаимоотношению поэтов, к «легенде» «о любовном романе между первым поэтом и крупнейшей поэтессой эпохи, или, по крайней мере, о её безнадёжной любви к нему» (В. М. Жирмунский). Несмотря на опровержение этой «легенды» самой А. Ахматовой: «В поэтической биографии Ахматовой (которая, без сомнения, находится в сложных и далеко не однозначных отношениях с её реальной биографией) «Блоковская легенда» занимает одно из ключевых мест. …В своих мемуарных записях Ахматова уделяла немало места опровержению «легенды» о её «так называемом романе с Блоком». («Переписка Блока с А. А. Ахматовой». Предисловие и публикация В. А. Черных. «Литературное наследство», т. 92, кн. 4, М., «Наука», 1987).
И надо отдать должное тому, как А. Ахматова стойко и последовательно охраняла эти свои главные ценности. Г. Адамович в статье «На полях «Реквиема» Анны Ахматовой», поводом к которой стало издание поэмы в 1936 году в Мюнхене, задавался вопросом «как это могло всё это случиться?», имея ввиду то страшное время конца тридцатых годов, о котором она писала в «Реквиеме»: «Как могло всё это случиться?.. Вопрос общий, поистине проклятый, потому что ответить на него можно было бы, лишь объяснив, почему идеи и принципы, по существу приемлемые, в замысле своем подлинно альтруистические приводят к жесточайшему насилию». Но это – общий закон бытия, открытый ещё Ф. Достоевским, так как «выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничный деспотизм». Чтобы ответить на этот вопрос, недостаточно только любования альтруизмом деклараций и своего оправдания «кинуть землю», «оставить Россию навсегда». Надо в первую очередь помнить то, почему произошло крушение страны в феврале 1917 года. Как могли современники допустить это. Ведь всё последующее, в том числе и происходившее в конце тридцатых годов, было неизбежным следствием этого крушения.
Если бы Анна Ахматова написала только «Реквием», тогда вопрос Г. Адамовича был бы справедливым. Но она кроме «Реквиема» создала «Поэму без героя». И пишет их, по сути, одновременно. Пишет о драме России, начавшейся в 1914 году, в феврале 1917 года, а не в 1937 году… В «Реквиеме» только часть, только одна сторона той драмы, которую она постигала в «Поэме без героя», да и во всём своём творчестве.
Г. Адамович, ссылаясь на беспощадные к самой себе признания А. Ахматовой «Да, я любила их, те сборища ночные», когда все были «бражниками» и «блудницами» как бы в своё оправдание добавляет: «И как любила! Поэтический Петербург 1912-го и двух-трёх позднейших лет без Анны Ахматовой нельзя себе и представить. По-видимому, не так уж всё в нём было ничтожно и «пакостно». Написать так, значит абсолютно не понять того, что переживала А. Ахматова, чем она терзалась позже. Написать так, значит не понять главного, того, что в «беспамятстве смуты» и ставшей причиной последующей трагедии, находились все без исключения. Такое «беспамятство смуты» можно было осознавать, но выйти из него по своему хотению было невозможно. Такие состояния общества во все времена не отменяются и не упраздняются по неким постановлениям, а изживаются и преодолеваются духовной работой. Не поняв тех, предреволюционных лет, Г. Адамович и сводил все к проблемам эмиграции, а не к судьбе страны и народа. «Тема для автора «Реквиема» не новая. Больше сорока лет тому назад, в самом начале революции, Ахматова писала о «голосе», который звал её оставить Россию навсегда, и о том, что этой «речи недостойной» она не стала и слушать. С тех пор, значит, она своего убеждения и своих антиэмигрантских настроений не изменила». Да разве речь только об «антиэмигрантских настроениях»?..
И почему, с какой стати А. Ахматова должна была изменять свое мнение и отказаться от того, что постигла уже в 1917 году, в двадцатые годы? Но примечательно то, что Г. Адамович припоминает А. Ахматовой не стихотворение «Не с теми я, кто бросил землю…», содержащее беспощадный приговор кинувшим землю, а более раннее стихотворение, когда ей голос «был», звавший покинуть Россию навсегда… Она-то уже тогда знала, что это действительно навсегда. Её же обличители, вплоть до Второй мировой войны полагали, что это всё временно, что всё каким-то образом разрешится. Но ведь не разрешилось…
Как всё это было далеко от того, что чувствовала и переживала А. Ахматова, находясь дома, в России. Как в этом стихотворении 1929 года:
Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.
Всё, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать –
Всё унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал…
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.
Но с любопытством иностранки,
Пленённой каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной…
Это ведь уже освобождение от своей «иностранности» и возвращение к «родной земле», к своему народу, самой себе. Это ведь совсем не то, что горделивое цветаевское: «Торжественными иностранцами проходим городом родным». Скорее есенинское: «Язык сограждан стал мне как чужой./ В своей стране я словно иностранец». Но её «с любопытством иностранки», умение слушать «язык родной» и является свидетельством возвращения к родному языку. Трудное и мучительное, через осознание «промотанности наследства», возвращение к русскому миру.
Анна Ахматова каким-то образом сохранила в себе то святое чувство, утраченное значительной частью нашей «образованной» черни, о котором Ап. Григорьев писал ещё в 1857 году: «За границей можно учиться и ездить по разным городам, но надо быть чем-нибудь от Господа Бога обиженным, чтобы для удовольствия жить в каком-либо месте кроме отечества».
О том, как последовательно и настойчиво, несмотря ни на что, Анна Ахматова отстаивала свои воззрения, свидетельствует стихотворение 1961 года «Родная земля», к которому она предпосылает эпиграф из своего же стихотворения 1922 года «Не с теми я, кто бросил землю…»: «И в мире нет людей бесслёзней,/ Надменнее и проще нас». Это однозначно говорит о том, что и почти сорок лет спустя она продолжала свою думу о родной земле, утверждала и отстаивала то неизменное и незыблемое, что не может быть «пересмотрено» ни при каких обстоятельствах:
В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем её в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чём не замешанный прах.
Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно – своею.
Вполне естественно, что в годы Великой Отечественной войны Анна Ахматова создала немногие, но такие монументальные стихотворения, которые выражали саму суть происходящего. Это – прежде всего «Мужество» 1942 года:
…Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём,
Навеки!
И стихотворение «С самолёта», 1944 года, при возвращении её из ташкентской эвакуации, вполне осознавая, что «В сокровищнице памяти народной/ Войной испепелённые года»:
Как в первый раз я на неё,
На Родину, глядела.
Я знала: это всё моё –
Душа моя и тело.
Насколько её поэтический мир был связан с народным самосознанием можно судить хотя бы по её стихотворению 1944 года «Причитание»:
Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
За версту я обойду
Ленинградскую беду.
Я не взглядом, не намёком,
Я не словом, не попрёком,
Я земным поклоном
В поле зелёном
Помяну.
Ведь это стихотворение невозможно понять, если не учесть того, что в основе его лежит известная русская пословица: «Чужую беду руками разведу, а своей ладу не дам». Но в том-то и дело, что ленинградская беда была для неё своей, потому она и не может развести её руками. Это только чужую беду можно легко «развести». Так, не говоря прямо, но образно, через пословицу Анна Ахматова выражала свою кровную причастность к Родине, России, и ко всему, что происходит на её лоне.
И, какая этическая и духовная высота: после всего пережитого, после изгнания на долгое время из русской литературы, она не предъявляет никому счёта, понимая, что такая же участь постигла миллионы её сограждан. И даже в таком положении она находит главное, непреходящее, когда беда оборачивается не утратой, а обретением. Как в этом стихотворении 1962 года:
Вот она, плодоносная осень!
Поздновато её привели.
А пятнадцать блаженнейших вёсен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко её разглядела,
К ней припала, её обняла,
А она в обречённое тело
Силу тайную тайно лила.
х х х
Наши размышления о творческой судьбе Анны Ахматовой и о её «Поэме без героя» будут неполными, если мы не соотнесём их с тем, что происходит ныне в обществе, культуре, литературе – во всей нашей духовно-мировоззренческой сфере. Мы не касались бы этого, если бы здесь не проявилась извечная, внешне незримая закономерность Откровения, отмеченная в начале, о том, как пребывает зло в этом мире: «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны… зверь был, и нет его, и явится» (17:8). Опять-таки напомню, что коль зло в мире неустранимо по самой природе человеческой, и не может быть уничтожено раз и навсегда, это значит, что каждый человек и каждое поколение людей преодолевает его самостоятельно, несмотря на предшествующий опыт.
Когда Анна Ахматова завершала свою «Поэму без героя», другой поэт уже иного времени Николай Рубцов в стихотворении «В гостях» писал в 1962 году всё о той же, и уже новой «богеме»:
Куда меня, беднягу, занесло!
Таких картин вы сроду не видали,
Такие сны над вами не витали,
И да минует вас такое зло!
…А перед ним, кому-то подражая
И суетясь, как все по городам,
Сидит и курит женщина чужая…
– Ах, почему вы курите, мадам!
Он говорит, что всё уходит прочь
И всякий путь оплакивает ветер,
Что страшный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь.
…Но все они опутаны всерьёз
Какой-то общей нервною системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слёз!
И всё торчит.
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тётки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
20 декабря 2023 года, в самый канун Нового года, года Дракона в Москве прошла закрытая голая вечеринка в ночном клубе «Мутабор», нечто вроде свального греха, которую провела блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Но вечеринка эта оказалась вовсе не закрытой, а предельно открытой, так как тут же стала достоянием средств массовой информации и эмоционального общественного обсуждения. На ТВ ролики с этой постыдной вечеринки стали крутить с такой частотой, что сложилось впечатление: это делается вовсе не для того, чтобы осудить этот сатанизм, а для его пропаганды, для его утверждения… Очевидно, что такая её «закрытая» открытость и была целью. Отличало её от прежних «сборищ» лишь название. Если не «Бродячая собака», то «Мутабор», с вполне определённым смыслом: «Я изменяюсь» в контексте магии и волшебства. Суть же осталась прежней, о которой А. Ахматова писала в своей поэме: «И беснуется и не хочет узнавать себя человек».
Примечательной была реакция на этот шабаш сатанизма. На ТВ нашёлся лишь один эксперт, который сразу же точно определил, что это такое, напомнив, что подобное в нашей истории уже было в начале ХХ века, завершившееся февральским крушением страны в 1917 году. Даже, выдающиеся деятели культуры, кроме естественного осуждения этого блуда, не смогли определить духовную сущность явления, которую-то они и должны выявлять в первую очередь, а также – природу тех гендерных поветрий, в которых корчится «цивилизованный» мир. Если это явление только нашего времени, в таком случае, как объяснить стихотворение Катулла «Аттис», в котором прекрасный юноша Аттис «безумством подстрекаем со смятенною душой» сменяет свой пол, оскопляется и становится женщиной, в чём потом горько раскаивается. Катулл жил до Рождества Христова (84–54 гг. до н. э.). А ведь тогда ни Риму, ни Европе, ни всей цивилизации никакое перенаселение не грозило. Значит, это явление имеет другую природу, которую предлагаемыми способами объяснить невозможно. А если невозможно объяснить, то ему невозможно и противостоять, хотя вся история свидетельствует о том, что человечество вплоть до нашего времени с этой «проблемой» как-то справлялось…
Афанасий Фет, переводивший это стихотворение Катулла о несчастном юноше Аттисе, сменившем свой пол и ставшем женщиной, и составивший примечания к нему, писал: «Не дело искусства юридически разбирать правых и неправых… если безумие присуще человеческой природе и кому-нибудь необходимо безумствовать, то дай Бог, чтобы этим безумцем не был я… В человеческой области мы постоянно натыкаемся на двойственность животной души и человеческого духа, вечная борьба между которыми по-уличному называется свободной волей, между тем как торжество той или другой стороны лежит в умопостигаемом характере» (см. Александр Блок, «Катилина», составители С. С. Лесневский, Б. Н. Романов. М., Прогресс-плеяда, 2006).
Другие увидели в этом стратегическую и политическую установку, направленную против нас, против России, что это – сознательное насаждение разврата. И были правы. Да, сразу после Второй мировой войны Запад сделал ставку на развращение нашего общества, словами А. Даллеса: «Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые». Заметим, не оружием грозили нам, а развращением нашего общества. Но это не вся правда, так как развращение и вырождение человека происходит главным образом внутри всякого общества, а не только под влиянием извне. Но отсюда понятно почему США столь бесцеремонно объявили о нашем «стратегическом поражении», то есть о нашем государственном и народном уничтожении: они уверовали, и не без оснований, в то, что подмена наших ценностей на фальшивые уже произошла… И уверовали, как и всегда, опрометчиво… Несмотря на то, что вся духовно-мировоззренческая, культурная и информационная сферы нашей жизни находится пока в неопределённом состоянии, представляя собой главную угрозу нашему народному и государственному существованию…
Но есть и вовсе беспечные оценки происходящего, несмотря на то, что, как видно из наших сопоставлений, «те, кто блистал в тринадцатом году», очень уж сходны с теми, кто «блистает» сегодня. С той разницей, что там было всё-таки и творчество, а здесь, по сути, лишь «шумиха и успех», где всё поверяется исключительно «рейтингом продаж» и бесконечными, абсолютно не имеющими никакого общественного значения литературными премиями.
Выше мы приводили слова Г. Адамовича о том «духе эпохи», «что это была за жизнь»: «Были ли это годы высокого напряжения человеческого духа? Не думаю. Но была в эти годы особая сладость жизни, какое-то смутное предчувствие близких бед и крушений. Оттого все торопились жить, все были ветрены и романтичны». То есть жили в том нервном возбуждении, которое В. Ходасевич назвал «лихорадкой». Восхищаться этим, зная, что произошло потом, нет никаких оснований. Как и нет оснований оправдывать «блистающих» тех нынешних «деятелей культуры», которые с истинной культурой давно потеряли связь. Но вот доктор искусствоведения Михаил Швыдкой успокаивает читателей со страниц «Российской газеты» (№ 2, 2024), что ничего особенного не происходит, «что бы ни происходило в окружающем мире, большинство россиян стремятся сохранить привычный уклад существования». То есть для одних война с увечьями и гибелью, а для других – «блистание». И восхищается заполненностью театров и концертных площадок: «Таких аншлагов, как в нынешнем году, не было даже в доковидные времена». Поразительно его объяснение этого, неизменное со времён Г. Адамовича: «Наверное, потому, что в напряжённые периоды истории обостряется жажда жизни во всех её проявлениях». Ну что, мол, пристали к «деятелям культуры» с этой «голой вечеринкой», если это всего лишь одно из проявлений «жажды жизни»…
А то, что эта «вечеринка» является повторением тех «ночных сборищ» более вековой давности, с теми же последствиями, это, вроде бы и не важно: «Это был очень замкнутый, довольно малочисленный кружок, петербургский, декадентский, эстетствовавший и всегда чувствовавший своё одиночество в стране и если не вражду, то глубокое равнодушие страны к себе… Каждый чувствовал себя свидетелем развязки какой-то тайной драмы» (Г. Адамович).
Доктор искусствоведения, восхищаясь аншлагами в театрах и на концертных площадках, вроде бы, не говорит о том, что именно присутствует на этих площадках и каков репертуар, но оговаривает, чего не должно быть, хотя его и так нет: «Концерты военно-патриотической песни не могут удовлетворить все потребности телезрителей». Где он их увидел, не знаю. Те же беспомощные стихотворные речитативы, которые порой распеваются под видом военно-патриотической песни, ни песнями, ни поэзией назвать невозможно, ибо это – вне культуры. Но оговорка об этом далеко не случайна. Так уже было, о чём писал тот же Г. Адамович об обыкновении «отбрасывать доводы и соображения сусально-патриотические, не изменять самим себе на том основании, что этого будто бы ждёт и даже требует от нас наша обновлённая родина». Но опыт нашей многотрудной истории однозначно свидетельствует о том, что как только патриотизм начинает разделяться на «сусальный» и «не сусальный», это значит, что патриотизм в большой опасности…
Примечателен был и общий хор журналистов на этот нынешний сатанизм: нет закона, чтобы его оценить и привлечь его участников к ответственности. Разумеется, никто не вспомнил, что такое явление было всегда, со времён Древнего Рима, с одним и тем же неизбежным итогом – крушением страны. Стало совершенно очевидным, что наше общество оказалось пока неготовым ни к оценке этого сатанизма, ни к способности противостоять ему. Да и как оно будет противостоять этому злу разложения и вырождения человека, если не может пока его различить, то есть дать ему точное определение. В большинстве своём увидели в этом мерзкую, но всё-таки безвинную шалость, которая якобы может быть извинительна в людях, имеющих через средства массовой информации влияние на народ… Исповедников её принялись взывать к разуму и стыдить. Так можно делать, лишь не вполне понимания природу этого явления. Это наивно, ибо стыдить тех, «Кто не знает, что совесть значит/ И зачем существует она» (А. Ахматова), бесполезно. Они ведь иными стать не могут. Остаётся одно: не допускать их в свой духовный мир. Не допускать того, чтобы это разложение и вырождение человека получало преобладание в общественном сознании. А это – дела уже вполне земные, организационные, которые должна и обязана предпринимать власть. Преступно перед народом и страной этого не делать по каким-то псевдогуманистическим соображениям или из каких-то мелких земных выгод.
Но другого способа оградить людей просто нет. Согласно Откровению, Ангел, сходящий с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, «взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (20:2). «И низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, после сего ему должно быть освобождённым на малое время» (20:3).
Наши просвещённые современники могут сказать: ну что теперь ссылаться на Откровение, на Священное Писание, если к дню сегодняшнему они отношения не имеют. И проявят непростительную самонадеянность и наивность, ибо это не так. Духовная сфера бытия человеческого непрерывна и иной закономерности, иной «архитектуры» что ли, просто не имеет. Нельзя ведь не заметить, что наша цивилизация изначально и до сего дня находится в одной и той же парадигме Вавилонского строительства, которое изменяет формы и названия, не изменяя своей сути. Оно может называться как угодно – то ли «мировым коммунизмом», то ли «глобализацией», но обязательно предполагает отречение человека от самого себя («и сотворим себе имя», Бытие, 2:4), от своей духовной природы, то есть уничтожение человека… Ныне, как и всегда, главной проблемой сохранения цивилизации является вопрос о человеке, о его природе, о сохранении его духовной сущности. Всё остальное зависит от этого.
Духовная же сфера человеческого бытия никогда не определялась и не управлялась законом, юридической практикой, что относится к социальному устройству жизни, но не к духовной природе человека. Во многой мере её постигает литература. Анна Ахматова постигала, преодолевая, и выражала в своём творчестве эту двойственность человека – его физиологической и духовной природы около полувека…
Но зачем же такому порочному обществу, в котором вместо культуры и литературы буйствует чертополох «шоу бизнеса». Зачем же ему истинная литература, которая разоблачает и уничтожает сатанизм? А потому литература изгоняется из общественного сознания, оставляя лишь имитацию её, этот сатанизм пропагандирующую…
А оценка этому явлению в наше время литературой уже дана. На духовном, образно-поэтическом, смысловом, метафизическом уровне. Скажем, в стихах выдающегося поэта нашей эпохи Юрия Кузнецова. Это – отступление от своей веры:
От вечной книги дым валит,
В ней выгорают строки.
Мир покосился, но стоит…
Ещё не вышли сроки.
И как неизбежное следствие вероотступничества – вырождение человека:
Гори огонь! Дымись библиотека.
Развейся пепел по сырой земле.
Я в будущем увидел человека
С печатью вырожденья на челе.
Но по той незримой закономерности бытия, изложенной в Откровении, иначе и быть не может, как уже было, о чём А. Блок писал 9 января 1918 года: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому великой».
Так уже было и так неизбежно будет.
Пётр Ткаченко