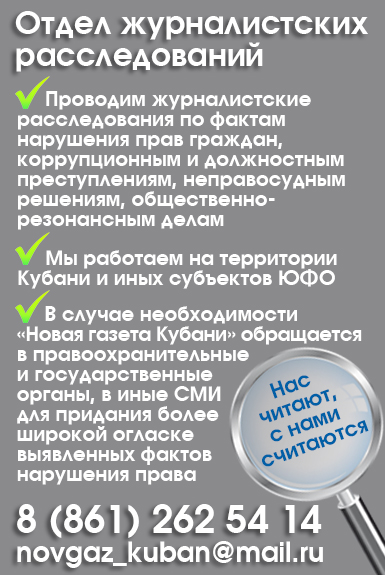Культурный проект «Родная речь»
96
Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли…
Николай Рубцов
Николаю Рубцову выпал короткий и трудный путь в литературе. И это было вызвано не каким-то случайным и недобрым стечением обстоятельств, как полагали многие, но неизбежно выходило из той ситуации в литературе, которая в то время сложилась, а так же из особенностей его поэтического мира. Трудность и даже трагичность его пути, помимо самой природы поэтического творчества, была обусловлена тем, что ему довелось восстанавливать русскую литературную традицию, что не могло не встречать сопротивления, причём, самого жёсткого. Он стал вовсе не жертвой «нелепо-трагических обстоятельств», как полагали даже его друзья, а совсем иных причин, более глубинных и внешне не таких явных. Всё, конечно, определялось тем, что в то время всецело господствовала так называемая «эстрадная поэзия», большей частью декларативная, рационалистическая, с изрядной долей «юродства разной масти», по выражению самого Николая Рубцова, далёкая от народной культуры и народного самосознания. Причём, являясь агрессивной, со скандальным тоном, она подавляла всё остальное в литературе. Её представители, сытенькие «бунтари» бузили у памятника Маяковскому, что само по себе уже указывало на то, какой «традиции» они придерживались. В этом сказывалась давняя расколотость русского самосознания, в разные эпохи представляемая по-разному, но имеющая всё ту же суть – принудить русского человека верить «иным богам» в целях вполне меркантильных. Вплоть до, казалось бы, безобидной дискуссии о «физиках» и «лириках». И не столь важно: осознавали ли это исповедники такого «направления» в литературе. Степень искренности здесь – не аргумент.
Но были в то время и другие центры поэтической мысли. Это, сложившееся к концу шестидесятых годов литературное явление национальных поэтов, продолжавших, а не прерывавших, как «эстрадники», русскую поэтическую традицию. В их кругу естественно и закономерно оказался и Николай Рубцов, как наиболее яркий и самобытный поэт. Можно сказать, что и в кругу своих собратьев, близких по духу людей он стоял особняком, ибо к их «поэзии был снисходителен, ценя больше дружбу самих людей, чем их творчество» (Эдуард Крылов). Точнее было бы сказать, что в противовес эстрадным «бунтарям» в это время в Москве существовал иной, противоположный им поэтический центр – Николая Рубцова в общежитии Литературного института на улице Добролюбова. Ведь никто из тогдашних московских поэтов традиционного направления не обладал такой поразительной и тогда ещё неосознаваемой притягательностью, как Николай Рубцов, когда в общежитие Литинститута приходили «на Рубцова», «посмотреть на Рубцова». И что ещё примечательно – послушать его песни. Удивительно, что и десять лет спустя, когда мне довелось учиться в Литинституте и часто бывать в общежитии, дух Рубцова там всё ещё присутствовал, так как на неформальных встречах моих ровесников, так или иначе, всплывало его имя.
Но парадокс состоит в том, что истинная картина русской литературы второй половины двадцатого века всё ещё остаётся искажённой. Ну, странно же, в самом деле, что наиболее сильная часть поэзии того времени, продолжающая русскую поэтическую традицию была обозвана «тихой лирикой», а лучшая проза – «деревенской», хотя ни по тематическим, ни по внешним, формальным, ни тем более по сущностным признакам ни проза, ни поэзия под эти определения не подходили. Безусловно, это было в определенном смысле литературным шулерством, так как ярлыки эти были явно уничижительными – всё исконно русское народное в литературе представить всего лишь «тихим» и «сельским».
Попутно нельзя не сказать и ещё об одном поэтическом явлении той поры, носившем массовый характер – песнях Владимира Высоцкого. К сожалению, поэты традиционного, «патриотического» направления, даже те из них, кто в определенном смысле считал себя организатором литературно-художественного процесса, просмотрели его явление, отдав его на откуп тем же эстрадникам. Их почему-то в ту пору раздражала даже сама по себе гитара в молодёжной среде, как якобы не соответствующая представлениям о народности. Неужто, хотели в руках молодых людей видеть только балалайку? Но это ведь и вовсе какое-то ортодоксальное представление о народности. Тот же Станислав Куняев в год смерти Николая Рубцова, отвечая на письмо читателя, писал: «Вы сравниваете две несравнимые судьбы…» всецело относя Высоцкого к «массовой культуре» прозападной ориентации с ошеломляющим, и якобы абсолютно рукотворным успехом. («Русский дом», № 9, 1998 г.). При этом берёт сторону лишь тех, кто «делал» Высоцкого. Если для А. Вознесенского Владимир Высоцкий был «златоустый блатарь», то это вовсе не значит, что таковым он был для миллионов его почитателей. Такая широкая популярность песен Высоцкого не могла быть и не была лишь рукотворной. Не всё ведь поддаётся пресловутой «раскрутке», это мы уж знаем из дня сегодняшнего. Но теперь-то ясно, что если бы традиционалисты не отнеслись к Высоцкому столь воинственно, может быть, и не случился бы тот зияющий провал между поколениями, который сегодня очевиден, и песенная культура не свелась бы к шоу-бизнесу, где живой человеческой душе уже не находится места… Может быть, не сложилась бы та трагическая ситуация в культуре, которую мы пока переживаем, когда о литературе собственно уже говорить не приходится, так как она вытеснена на обочину жизни, как крамола и опасность, комиссарами капитализма.
«На том и стою», – с гордостью писал С. Куняев, наставляя читателя, для которого песни Высоцкого – не просто «массовая культура». Но гордиться здесь собственно нечем. Иначе получается, что целые поколения и молодёжь в особенности, были охвачены песнями Высоцкого, находя в них и свои переживания, а упорствующему поэту до этого вроде бы и дела нет, чтобы хоть как-то объяснить этот феномен…
Несколько озадачивает здесь другое. Ведь, казалось бы, что обширное послевоенное поколение, оказавшееся в городах и в значительной своей части, вышедшее из сельской России, запоёт щемящие песни Рубцова, во всяком случае, ему окажется ближе – «Я уеду из этой деревни», чем ностальгия по городскому детству с чёрным пистолетом на Большом Каретном. Но этого не случилось. Ну да, понятно, Высоцкий был актёром, что само по себе предполагало выход его песен к широкой аудитории. Но и Рубцов ведь тоже ни в чтении своих стихов, ни в песнях, исполняемых под гитару или под гармошку, отнюдь не был «тихим». Но его ведь никто почти не удосужился толком записать на магнитофонную плёнку… Да и зачем, если он – один из нас, такой как мы, а не единственный… Может быть, потому его и раздражало модное хождение «на Рубцова», что он видел и чувствовал: то, как он мыслил себя в русской литературе оставалось его читателями и слушателями по сути неосознаваемым.
Понятно, что в такую ситуацию в литературе и в культуре в целом Николай Рубцов вписаться не мог. Он исповедовал совсем иные представления о России, о русском мире, наконец, о самой поэзии, как выразительнице народного духа. А потому, поэт и творчески, и житейски оказался отвергаемый таким положением в литературе. Ведь и то, что он в своём Отечестве не был даже прописан, не имея крыши над головой, – факт более чем символический… О том же, насколько это была жестокая духовно-мировоззренческая борьба свидетельствует и тот, с точки зрения логики и здравого смысла, запредельный факт, что спустя годы, когда, казалось, всё улеглось и во всём можно было уже разобраться, Е. Евтушенко, основной представитель «эстрадной поэзии», вдруг хлопочет о досрочном освобождении убийцы поэта… Оказывается заодно не с поэтом, а с его убийцей. (М. Полётова. «Пусть душа останется чиста…», М., Академия поэзии, 2005 г.). Это более чем странное, видимо, выдаваемое за некое «гуманистическое» действие можно объяснить только особым, специфическим типом воззрений, по характеру либеральным, выходящим из самой сути либерализма – защищать стеснённых в чём-то по формальному, а не сущностному признаку. Но такие воззрения истинный поэт не может исповедывать по самой природе своего дарования, о чём писал А. Блок, отвечая на вопросы одной из анкет: «Я художник, а потому не либерал. Пояснять это считаю излишним». Но, к сожалению, то, что для великого поэта не требовало пояснений, теперь требует обстоятельных объяснений, что, конечно же, свидетельствует о том, насколько поэтическое творчество подверглось искажению под воздействием внешних, идеологических влияний, отклоняясь от своих истинных путей.
Николай Рубцов, конечно же, не мог рано или поздно не столкнуться с этой странной ситуацией в литературе, когда в ней преобладала неестественная, неорганическая поэзия, ну – и со сторонниками такой поэзии – богемой. Это произошло в Ленинграде в 1962 году, когда он, уже приобретя определённый жизненный и литературный опыт – поучившись в техникумах и пройдя флотскую службу, стал посещать собрания поэтов у Глеба Горбовского на Пушкинской улице у Московского вокзала. Это был очень важный период в духовном и мировоззренческом становлении Николая Рубцова, что и отразилось в трудной работе над стихотворением (это видно по вариантам), которое в конечном итоге получило название «В гостях».
Вначале на Николая Рубцова не обратили особого внимания. Но однажды, он пришёл к Глебу Горбовскому со стихотворением, ему посвящённым, которое называлось «Поэт» – первоначальный вариант стихотворения «В гостях». Как вспоминал Глеб Горбовский, «стихи взволновали, даже потрясли своей неожиданной мощью, рельефностью образов, драматизмом правды… И Коля перестал быть для меня просто Колей. В моём мире возник поэт Николай Рубцов. Это был праздник».
Видимо, это стихотворение столь и поразило чуткого Глеба Горбовского, что в нём Николай Рубцов решительно отделял себя от богемы и шире – от того стихотворчества, которое тогда преобладало в литературе, давая ему точную характеристику:
Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей.
Не только не одних, а прямо противоположных «кровей» оказался поэт с этой богемой, что сказалось потом и в переименовании стихотворения – «В гостях». Именно в гостях поэт был среди этой богемы, куда его «занесло». Он даёт характеристику этой богеме, прямо и недвусмысленно называя её злом: «И да минует вас такое зло!» И это вовсе не декларативная характеристика, так как поэт показывает последствия и результат деятельности богемы. Это обессмысливание чуда человеческой жизни, «прекрасного образа мира», нарушение естественного порядка вещей, внесение в жизнь хаоса и уже не только для себя, но и для окружающих людей:
Но все они опутаны всерьёз
Какой-то общей нервною системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слёз!
И всё торчит.
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тётки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
Примечательно и то, что наивности, такой среде свойственные, поэт вычленяет потом из стихотворения «В гостях» и переносит в другое стихотворение «О чём шумят Друзья мои, поэты…»: «Они кричат, Они руками машут, Они как будто только родились». В том же стихотворении оставляет только жёсткую характеристику богемы, как недоброй и разрушительной силы.
Такое решительное отстранение об богемы было, видимо, продиктовано не только её сутью, но и тем, что поэт заметил влияние её на себя. Это подтверждается тем, что в первоначальных вариантах стихотворения есть чисто диссидентская строфа, которую он потом убирает:
Ещё мужчины будущих времён –
Да будет воля их неустрашима! –
Разгонят мрак бездарного режима
Для всех живых и подлинных имён!
Но, как видно, уже тогда такое легковесное, диссидентское разрешение извечного вопроса о соотношении общественного, государственного и личного Николая Рубцова не удовлетворяло. Ведь это было формальное, спекулятивное по сути, не приводящее к декларируемым результатам представление, служащее как правило самоутверждению, но никак не спасению… Да и сводящееся ведь к элементарной, если не сказать больше – примитивной логике: глупый царь или генсек, «бездарный режим» с одной стороны, и умные подданные с другой стороны, причём, – не народ вовсе, а лишь «избранные», богема, безответственная, ибо такой позицией всю ответственность за неустройство мира она перекладывает на царя, генсека, силу внешних обстоятельств, – кого угодно, но снимает её с себя… То есть, тычет в лицо простому люду своей образованностью, которая на поверку окажется вовсе и не образованностью, а скорее начётничеством. Конечно же, такое представление не могло удовлетворить Николая Рубцова. Он уже тогда чувствовал в нём неправду. Неслучайно в последующих стихах у него настойчиво и последовательно проявляется пушкинское понимание соотношения государственного и личного, восходящее к «Медному всаднику».
Петр ТКАЧЕНКО
(Продолжение следует)