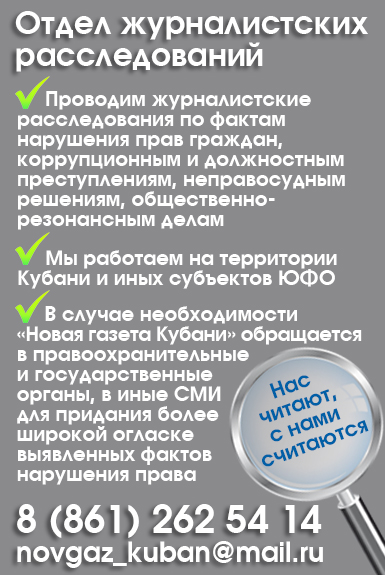Литературно-критическая повесть Петра Ткаченко о творчестве Виктора Лихоносова Часть III
2061
Часть III Продолжение. Начало опубликовано 10.04.2023, 12.04.2023
«В европейском ласковом плену…»
Удивительной оказалась читательская судьба романа В.И. Лихоносова «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж», вышедшего в 1987 году в издательстве «Советский писатель» и сразу же выдвинутого на соискание Государственной премии РСФСР имени М. Горького. Несмотря на то, что ни в писательской, ни в читательской среде обсуждения его не получилось. Обсуждение в печати свелось к сетованиям на то, что столь прекрасный роман читатели почему-то не читают…
Да и с первой публикацией романа возникли трудности. Обойдя редакции нескольких столичных журналов, автор не нашёл в них понимания. И только в журнале «Дон» (№8-10, 1986) роман был опубликован. Даже Станислав Куняев отказался его печатать в «Нашем современнике». Были лёгкие попытки представить дело так, что это робкие редакторы из боязни не рискуют публиковать новое слово в литературе и новое осмысление истории ХХ века. Но из этого ничего не вышло, редакторы как сговорились…
И вот роман наконец-то вышел, «но теперь молчит критика. Почему?» (В. Огрызко, «Книжное обозрение» № 11, 1988) : «Своё удивление молчанием критики высказали так же писатели В. Крупин, С. Семанов, С. Есин, известный философ А. Гулыга. И это при том, что роман Лихоносова знаменует движение в нашем художественном развитии». Критик приходил к выводу, что «в полной мере пока ни критикой, ни читателями роман не осмыслен. Нас ждёт ещё не одно возвращение к этой книге».
Но никакого «возвращения к этой книге» так и не произошло, так же как и не последовало объяснения того, в чём именно роман «знаменует движение в нашем художественном развитии». Отмечалось, что роман вышел «противоречивым». Такой аргумент выдвигается обыкновенно тогда, когда по каким-то причинам хотят уйти от обсуждения по существу. Отмечалось и то, что роман вышел таким потому, что писался он тогда, когда начались «осознаваться истинные масштабы того потрясения, которые пережила семьдесят с лишним лет назад Россия». То есть, когда начался пересмотр и ревизия истории ХХ века: «И всё же любитель острого чтения быстро оставит, соскучившись, эту книгу – сюжет прерывист, да его почти и нет, масса пёстрых отвлекающих мелочей, какие-то появляющиеся на пять минут и навсегда исчезающие полупризрачные люди с одной-двумя репликами, который уже отмечен Государственной премией РСФСР имени Горького, не возбудил пристального интереса критики…» (А. Агеев, «Литературная газета», № 13, 29.03.1989).
В таком нечитании романа В.И. Лихоносова с одной стороны было усмотрено его достоинство, а с другой – даже некий заговор тёмных сил. Г. Кузьминов: «Отчего всё же так редко пишут о Лихоносове, о его творчестве? Как будто заговор умолчания». Л. Баранова-Гонченко: «По поводу критики позволительно задать себе вопрос: а может быть, наиболее активная её часть сознательно проигнорировала роман Виктора Лихоносова «Ненаписанные воспоминания»? («Книжное обозрение», № 52, 1988).
Писательница Лидия Сычёва уже как заклинание взывала то ли в похвалу автору, то ли в осуждение читателей: «Что сочинила критика об этом романе? Не знаю… Господи, а что мне до критики. В библиотеке Литинститута, двухтомник Лихоносова 1984 года издания. Я была первым его читателем…» («Наш современник», № 6, 2000). Правда, романа в этом двухтомнике ещё не было, так как вышел он в 1987 году. Но более двадцати лет спустя она же писала уже о прямо противоположном: «Лихоносова читает вся Россия… Он хорошо знал цену сделанного им и прекрасно понимал «кто есть кто» в писательском мире» («Литературная газета», № 33-34, 2021).
Что же произошло за эти годы, позволившие поменять оценку на прямо противоположную? А произошло очень многое. Русская литература всё более и более вытеснялась из общественного сознания. О ней стали судить уже не по текстам, а по когда-то сложившимся репутациям. Дошло до того, что критерием эстетической оценки произведений вполне серьёзно стали выдвигаться многочисленные премии, как правило корпоративные и не имеющие никакого общественного значения. В литературных разговорах стали оперировать исключительно репутациями: «Один из живых классиков деревенской прозы» («Литературная газета», №9, 2014). Хотя какой «деревенской», если и роман-то о городе? Да и ранее в «деревенщине» автор замечен не был. «Гениальный русский писатель» («Родная Кубань», № 1, 2017 )... В казачьей же среде, среди людей образованных, тех, кто постоянно читает, мне часто приходилось слышать такие отзывы: «До конца так и не смог дочитать». Причём, сообщалось это «по секрету». Видимо, из боязни прослыть простаком.
Между тем такое нечитание романа объяснимо. После Великой Отечественной войны люди жили уже в другой исторической реальности, находились уже в ином состоянии, в иной умственной и нравственной атмосфере, когда появился «Наш маленький Париж». Из него они вдруг узнали, что вся пережитая трагедия страны и народа в ХХ века их дедами и отцами, все страдания, лишения и жертвы были напрасными. И правда оказывается не за их дедами и отцами и не за ними, и вообще правда пребывает не в России, а где-то там, за теми, кто не смог сохранить страну в начале века… Но теперь вдруг они выставлялись «спасителями» Отечества. Не понятное сострадание к ним, а именно «спасители» России…
Они недоуменно посмотрели на это явление, спрашивая: а это теперь к чему и зачем? Ведь это уже, слава Богу, пережито… Почему правда не за ними, а за кем-то? Сам писатель с чувством абсолютной правоты объяснял это так. Потому что та, невозвратно ушедшая жизнь была «с её генералами, наказными атаманами, настоятелями монастырей, купцами, домами и господами» («Кубанские новости», № 45, 2008). Это, мол, и есть «стародавняя история». А здесь же теперь, кроме «красной идеи», нет ничего. Здесь – «семьдесят лет падали». К тому же писатель здесь, ныне живущих вполне презирал, хотя сам являлся по его собственному мнению, «дитём советского тления»: «Среди кого жил, Боже мой?!!». Разве всё это достойно похвалы и восхищения не по сути, а по самой принадлежности? Разве всё это не достойно трудных раздумий над тем, почему так случилось? Но ведь для читателей, получивших хорошее образование в послевоенный период, «стародавняя история» была уже не «с дамами и господами», а со «Словом о полку Игоревым», Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Есениным, Блоком, Шолоховым, Твардовским Исаковским, Смеляковым, – со всей русской литературой.
Но писатель настойчиво поучал, словно жил не с современниками своими, не в нынешней России, а в царской и в «великой эмиграции»: «Самые горькие воспоминания великой казачьей эмиграции не вызвали тихой скорби, солидарной отрады (ах, какие были казаки!)». В самый раз бы задуматься о том, почему «не вызвали»? А какие были казаки? Да, пострадавшие. Но ведь потому, что не смогли, не сумели сохранить страну. Но почему это вдруг выдвигается в качестве идеала? Патриотизма и любви к России? И главное – вместо той реальной жизни, которая такими трудами и жертвами сформировалась…
Вынесшие такие потрясения, страдания и потери люди, на фоне хоть как-то, наконец-то, успокоившейся действительности, естественно увидели в этих писаниях ничто иное как возврат к тем, уже преодолённым потрясениям, пробуждением тех, уже уснувших бурь, за которыми хаос шевелится. Так ведь и произошло… Спасение было увидено совсем не там, откуда оно пришло.
Потому и не получилось обсуждения романа ни в писательской, ни в читательской среде. Но как с этим смириться? И тогда, как и всегда в подобных случаях, автор решил, и не только он, что это не роман не таков, а народец, не почитающий своего ридного: «Многие перестали быть русскими – в самом глубоком, вечно родном смысле этого слова». Словом, не тот народец оказался…Это неруси «тихой скорби, солидарной отрады» выражать «великой казачьей эмиграции» не пожелали. Неразумный народец распознал, что роман этот главным образом не о казаках, а о тех мировоззренческих догматах и заморочках, в которых корчилась и корчится радикальная часть интеллигенции, всё норовящая приладить их к российской жизни.
Но несмотря на это, роман, как и давние произведения, увенчивались премиями. Причём, уже в условиях изгнания литературы из общественного сознания. Отсутствия литературной жизни и её имитации. Значит такие воззрения были «нужны». Кому? Новым идеологическим либеральным архитекторам, уготовляющим новую смуту в России. И устроившим её…
И этот писатель и единомышленники его здесь не причем? В то время как в происшедшей катастрофе крушения страны основной грех был на них. Объяснение: это сделали «они», а не «мы» - это и не объяснение вовсе, а подтверждение той интеллектуальной несостоятельности, которая не позволила им различить смысл и значение происходящего и то время, в котором они сами жили…
Поклонники же В.И. Лихоносова напоминают того наивного самодеятельного историка Юхима Коростыля из его повести «Осень в Тамани», который собирал старину, мечтал открыть музей и стать его директором, так как пенсия у него была маленькая: «И сам он пробовал писать книгу, но дальше начала у него не пошло. «Богата и славна была наша станица». И тормоз. Строчек не видит из-за слёз. Напишет эти слова и дальше не может, слёзы бегут. Зачеркнёт и часами думает, как бы по-другому зайти, с другого конца, чи шо. А рука опять выводит вышесказанные слова, и он, значит, опять в слёзы». Так и восторженные поклонники писателя, напишут «музыка слова», «лирическая проза», или «наш оберег» и всё – тормоз. Правда слезами не обливаются, а впадают в негодование против каждого, кто предлагает читать внимательно сами тексты писателя. И поскольку никаких аргументов в защиту «классика» и «гениального писателя» привести не могут, то всякого посмевшего читать тексты, обвиняют в том, что это, мол слава и лавры В.И. Лихоносова не дают им покоя. И непременно, что это – заказная и проплаченная критика врагами России и казачества… И снова пишут: «музыка слова», и опять – тормоз…
Надо отметить, что первоначально роман «Наш маленький Париж» привлекал внимание самой новизной материала. Ведь тогда мало что было опубликовано о первой волне русской эмиграции, не были ещё изданы эмигрантские воспоминания участников революционной драмы начала ХХ века, не вышла ещё серия книг «Белое дело». К тому же, писатель к тому времени ещё не растерял музыкальности и лиричности своего слова, что делало некоторые страницы его романа действительно трогательными. И я тоже попытался в своё время поставить его роман в контекст обширной историко-краеведческой кубанской литературы, хотя это не очень получалось («Что в душе, то и свято», «Молодая гвардия», №10, 1992).
Задумав большое дело – роман о казачестве, В.И. Лихоносов, не в пример предшествующим до него писаниям, обратился в основном к эмиграции. Нельзя сказать, что это был некий крутой поворот в его творческой судьбе, так как с точки зрения духовно-мировоззренческой роман явился естественным продолжением его прежних и воззрений, и произведений. Но в ходе работы над романом его воззрения на драму русской истории ХХ века окончательно определились.
Через своего друга, критика О.Н. Михайлова он вступает в переписку с писателем Борисом Зайцевым и, пожалуй, с самым талантливым критиком русского зарубежья Георгием Адамовичем, посылает им свои первые книги. Позже почитатели В.И. Лихоносова ссылались на эту переписку как на безусловное признание таланта молодого писателя столь известными писателями. Но переписка эта имела несколько иной смысл.
Да, Борис Зайцев и Георгий Адамович признали талант В.И. Лихоносова, в его лирических повествованиях увидели продолжение русской литературной традиции. «Мне не только понравилась Ваша книга, нет: я очарован ею», – писал Г. Адамович. «Ваша молодость, даровитость и свежесть по-прежнему меня к Вам располагает, – писал Б. Зайцев, – Дарование Вам дано, берегите его и делайте своё дело, несмотря ни на что. Вот Вам завет 88-летнего собрата по перу, как говорили некогда в России».
И что очень примечательно и важно. В лирическом творчестве В.И. Лихоносова «обо всём и ни о чём», они оба увидели ростки новой России, восстанавливающейся после её революционного крушения начала века: «Новая Россия» (Б. Зайцев). «Вы – один из тех русских писателей, которых Россия ждёт, которые ей нужны», – писал Г. Адамович. (Виктор Лихоносов, «Избранное», М., «Терра», 1993).
Но тут В.И. Лихоносов, получив столь высокую оценку своего творчества такими известными писателями, совершает странное допущение, которое потом всецело и определило характер его романа «Наш маленький Париж». Даже не допущение, а стратегическую, историческую и мировоззренческую ошибку. То есть, выдающиеся писатели зарубежья в нём увидели новую Россию, а ему нужна была «старая Россия», которая якобы всецело находилась там. А тут – «русский мир испорчен уродами». Вот тот рубеж, который привёл писателя к несчастью, искажению и правды исторической, и к измене своему дарованию.
Разумеется, Б. Зайцев, Г. Адамович и многие другие писатели, состоявшиеся в России, но оказавшиеся в эмиграции, были «совсем другими людьми», как писал сам В.И. Лихоносов. Да, они были представителями старой России. Но это не давало никаких оснований считать, что теперь Россия всецело – там, а не здесь («Привет из старой России»), что оттуда и только оттуда придёт избавление её от коммунистической идеологии… Потому что они унесли с собой Россию. И главное – взамен той жизни, которая теперь в России была. (Р. Гуль, «Я унёс с собой Россию»). Довольно самонадеянное представление в оправдание своей несчастной судьбы, и конечно, далёкое от истины. Хотя внешне красивое и даже, вроде бы, убедительное… Как показала история, избавление пришло не оттуда, откуда его ожидали многие. Не извне, а внутри страны самоотверженной и жертвенной духовной работой. А допущение – «Мы недостойны вас», «Вы лучше нас» было и вовсе каким-то упрощённым и самоуничижительным. И уж ни в коем разе не писательским, ибо не сословный и не корпоративный подход всегда исповедует истинный писатель. Везде люди – и там, и тут, везде живые или пропащие души, коих, писатель и призван постигать.
А ещё Георгий Адамович высказал прямо-таки пророческое опасение: «Ещё впечатление: Вашей хрупкости, не физической, а душевной. Когда Вас читаешь, становится чуть-чуть страшно за Вас. Как бы кто-нибудь не сделал Вам больно, как бы жизнь оказалась для Вас не тем, не такой, как Вы её себе представляете!». Что имел в виду многоопытный литератор теперь сказать доподлинно невозможно. Может быть, то, что с лёгким лирическим даром пускаться в постижение драматической русской истории опасно. Можно лишь точно сказать о том, что этого опасения Георгия Адамовича В.И. Лихоносов не расслышал, не заметил…
Но такое допущение неизбежно смыкалось с антисоветским, а потом и антирусским движением. И неизбежно приводило позже к коллаборационизму, когда наиболее духовно нестойкие представители эмиграции пришли с немецко-фашистскими захватчиками непростительно запоздало «освобождать Россию от коммунизма». Абсолютно в духе фашистской геббельсовской пропаганды. И не смущало их такое соседство, такой странный «патриотизм».
Надежды Б. Зайцева и Г. Адамовича на «новую Россию», на новых русских писателей в лице В.И. Лихоносова, по сути, не состоялись. В противовес советскому толкованию истории ХХ века он всецело выдвинул противоположное – белое движение, как единственно патриотическое. Но при таком подходе было невозможно постичь драму русской истории.
Но ведь изначально в русской литературе были совсем иные представления. Как, скажем, в стихах Анны Ахматовой.
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид.
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
1917 г.
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
1922 г.
Да, это была поистине душераздирающая драма, которую теперь можно понять, и о которой можно сожалеть. Участникам её можно лишь сочувствовать. Но представить их несчастные судьбы в качестве некоего образца и идеала да ещё вместо, альтернативно противопоставленного всему тому, что происходило в самой России – это непростительное легкомыслие. Значит, абсолютно не понять той трагедии, которая захватила в ХХ веке не только Россию. Об этом думали наиболее проницательные умы в эмиграции: «Десять лет я решаю и все не могу решить, где сейчас душнее, страшнее – здесь, в Европе, или там в России, может быть равно только по-разному» (Д. Мережковский, «Атлантида – Европа. Тайна Запада).
Но примечательно, что в отстаивании своей позиции В.И. Лихоносов прибегал не к наиболее проницательным умам в эмиграции, а к маргиналам. Само слово «казак» было для него как знак качества, как безусловно положительная величина. Опять-таки, сословный и корпоративный подход, а не личностный, не человеческий.
А наиболее талантливые люди в эмиграции думали совсем иначе:
Своих страданий пилигримы,
Скитальцы не своей вины.
Твои ль, Париж, закроют домы
Лицо покинутой страны…
…Что теперь мы можем и что смеем?
Полюбив спокойную страну,
Незаметно медленно стареем
В европейском ласковом плену.
Николай Туроверов
Или – в стихах, пожалуй, самого талантливого поэта русского зарубежья Георгия Иванова:
Жизнь продолжается рассудку вопреки
На южном солнышке болтают старики.
…На мутном солнышке покой и благодать,
Они надеются, уже недолго ждать –
Воскреснет твёрдый знак, вернётся ять с фитою
И засияет жизнь эпохой золотою.
То, что для Георгия Иванова уже в 1955 году было предметом печальной иронии, для В.И. Лихоносова в 1980-х годах и до конца жизни оставалось неким несомненным идеалом.
В связи с этим не могу не обратиться к ситуации чрезвычайно характерной, многое открывающей, о которой мне поведал известный кубанский поэт Виктор Михайлович Жорник. Попутно отмечу, что Виктор Жорник интересный и глубокий поэт в своих лучших стихотворениях. Он трудным путём шёл в литературу, как он сам говорил, «от плуга». Может быть, поэтому он не растерялся в наше перестроечно-революционное время, а продолжал активно работать. Видя разрушенность литературно-художественного процесса и осознавая то, что всё теперь зависит от самих писателей, а не от «начальства», он нашёл возможность издать и распространить десятки книг. Такие, к примеру, строчки мог написать только истинный поэт:
Двадцатый век, ты на исходе,
Ты лик земли переменил –
Мечта о счастье и свободе
Блуждает где-то средь могил…
В пору своей молодости, а точнее осенью 1957 года, он поступил на первый курс Кубанского сельскохозяйственного института. Там однажды он и познакомился с Иваном Герасимовичем Прилепским, работавшим в институтском книжном киоске, обаятельным интеллигентным человеком. Познакомились и подружились, как оказалось, на всю жизнь. Иван Герасимович и его супруга Софья Филипповна вернулись из эмиграции, из Парижа. Жили они в маленькой однокомнатной квартирке по улице Советской у краевой библиотеки имени А.С. Пушкина.
Иван Герасимович покорил тогда начинающего поэта Виктора Жорника. Уйдя в эмиграцию, он работал на шахте, таксистом в Париже. Но главное – он был человеком культуры, литератором, писал стихи. Он и открыл молодому поэту замечательные имена поэтов, в то время у нас ещё никому неизвестные – Николая Туроверова и Георгия Иванова. Он много рассказывал ему о Куприне, Ходасевиче, Мережковских. Ведь Иван Герасимович состоял в Союзе писателей, возглавляемом Николаем Туроверовым. Особенно много рассказывал он о Фёдоре Ивановиче Шаляпине, так как пройдя все муки эмиграции, он учился в консерватории и пел в хоре Шаляпина.
На квартире И.Г. Прилепского Виктор Жорник и познакомился однажды со студентом Краснодарского педагогического института Виктором Лихоносовым, будущим писателем. Понятно, что это было время поиска молодыми тогда литераторами своего творческого пути, определения приоритетов. И они, эти приоритеты складывались изначально. Лихоносову И.Г. Прилепский, рассказывавший о литературе, о судьбах поэтов первой волны эмиграции, читавший их стихи, оказался не особенно интересен. А потому он бывал у него редко. Но зато ездил к его брату Петру Герасимовичу Прилепскому – тоже вернувшемуся из эмиграции и проживавшему в Ростове- на-Дону. Ездил к нему с магнитофоном, записывая его рассказы.
Братья Прилепские, видимо, были разными людьми. Во всяком случае, вернувшись в Россию, в гостях друг у друга не бывали. Примечательно то, почему Пётр Герасимович оказался тогда для будущего писателя Лихоносова более интересным. По единственному признаку – он воевал в "волчьей сотне» А.Г. Шкуро. Свидетельство тех давних поездок писателя нахожу теперь в его «Записях перед сном»: «13 лет не был в Ростове – с тех пор, как навещал Петра Герасимовича Прилепского (донского казака, вернувшегося на родину из Парижа после 56-го года, воевавшего в «волчьей сотне» А. Шкуро)» («Наш современник», № 10, 2006). Ни тогда, ни позже, писатель так и не задался, казалось бы, таким естественным вопросом: что же это было за такое интересное время, если людям первой волны эмиграции разрешили вернуться на родину, не припоминая им «волчьей сотни», если никто никого за это в кутузку уже не волок, а предоставили работу и возможность получить жильё.
Если всё ещё во всей первоначальной бесчеловечности и свирепости торжествовала ненавистная «красная идея», с какой стати советская власть выплачивала большую пенсию жене И.А. Бунина Вере Николаевне Муромцевой-Буниной, о чём поминает Олег Михайлов в публикации «Не услышать родных голосов…»? Но по мнению того же Олега Михайлова, даже жена Бунина оказалась недостаточно «стойкой» в отличие от наших патриотических литераторов, живущих в России: «Да перемену отношений Веры Николаевны ко многому я ощутил и на себе. Узнав, что я переписываюсь с Борисом Зайцевым, она прекратила отвечать на мои письма: боялась». Недостаточно идеологически стойкой оказалась и жена Михаила Булгакова Елена Сергеевна, о чём писал О.Н. Михайлов: «Когда в 1967 году она поехала в Париж, попросил её встретиться с А.А. Сионским, который должен был передать для меня парижское издание «Мастера и Маргариты». Белый офицер, активный член Русского Общевоинского Союза (РОВС), он не скрывал своих антисоветских взглядов (и в письмах ко мне не стеснялся в выражениях) и, очевидно, наговорил ей такого, что Елена Сергеевна, вернувшись в Москву, передала мне экземпляр романа через горничную». А В.И. Лихоносов буквально отчитывал внука генерала Л.Г. Корнилова за то, что он, будучи в России, не приехал на место гибели своего знаменитого деда («Внуку генерала Корнилова). А в это время мы, немногие потомки казаков, предпринимавших «возрождение казачества» в Москве, на Зарядье встречались с внуком генерала Л.Г. Корнилова Лавром Алексеевичем Шапрон дю Ларе, который нас буквально умолял: ну что мы можем там, вот создаём музей, один погон генерала Маркова нашли, а другой где-то – в другой стране… Вся надежда на вас, здесь, в России.
А, может быть и В.Н. Муромцева, и Е. С. Булгакова, и Лавр Алексеевич Шапрон дю Ларэ уже ничего не боялись, а не считали нужным и возможным на такой трагедии страны устраивать лёгкие игры, даже не на уровне военно-исторических клубов, а на маргинальном уровне: «И пришёл в 17 году с дубиною оболдуй, арестовал князей, убили, всё разграбили» («Сожаления»). И это осмысление народной трагедии, драмы русской истории? «Оболдуи», (то есть обалдуи – так верно) были и есть, но что ж писателю на своём поприще опускаться до этого самого «оболдуя»?.. И за этим стояла другая перемена – осознание того, что братоубийственная распря наконец-то стихает в умах и душах людей, что наследие эмигрантов наконец-то возвращается на родину… Нет, такие перемены нашим писателям-патриотам, похоже, были не нужны, им нужна была борьба в её первоначальной свирепости.
Виктор Лихоносов так и не задался вопросом: почему это пригласив его «побеседовать» в КГБ, только пожурили и отпустили домой: «Сухо объяснили, в чём я грешен, побурчали на мою наивность и отпустили из кабинета домой» Почему-то не съели… Такое сообщение, публикуемое после новой революции, когда уже и КГБ нет, надо полагать, должно свидетельствовать о мужестве писателя и о недотёпистости «органов». А, может быть, всё-таки не так? Скорее наоборот. Может быть, уже не свирепствовала «красная идея» так же, как в двадцатые-тридцатые годы и в обществе происходили уже совсем иные процессы, которые писателю оказались неведомыми, непостижимыми? Когда «красная идея» действительно свирепствовала, она без всякой жалости уничтожала не такие имена и личности – Гумилёв, Блок, Есенин, Васильев, Корнилов, Наседкин, Приблудный…
Но ведь было же глубокое осмысление и прошлого, и настоящего. Как в стихах Юрия Кузнецова:
Вся страна горит подножным пламенем,
И глазами хлопает народ.
Матерь Божья, хоть под красным знаменем,
Выноси святых огнём вперёд.
Но такие писатели-патриоты, как О.Н. Михайлов и В.И. Лихоносов всеми своими писаниями, до конца дней своих, даже после того, как произошло новое революционное разорение страны в девяностые годы, утверждали: нет, под красным знаменем спасения России не желаем. «Чистота помыслов», а на деле бедных, ничтожных соображений оказалась им дороже самой России…
Однако, вернусь к И. Г. Прилепскому, человеку культуры, дожившему свою жизнь в Краснодаре и умершему в 1987 году. Перед смертью он передал вывезенные из Парижа книги Виктору Жорнику: «Стихи» Николая Туроверова, изданный в 1939 году в Париже, «Портрет без сходства» Георгия Иванова с автографом, вышедший в 1950 году в Париже, «Некрополь» Владислава Ходасевича 1936 года издания, сборник стихов русских зарубежных поэтов «Эстафета», вышедший в Париже и в Нью-Йорке и другие раритеты. И теперь, перелистывая эти книги, которые держали в руках сами их авторы, я не могу не задаться вопросом – почему всё это оказалось неинтересным и ненужным писателю-патриоту, почему дороже этого ему оказался А.Г. Шкуро, над судьбой которого, можно теперь разве что попечалиться, ибо надо быть очень уж предвзятым, чтобы усмотреть в ней «рыцарство»… Помня бесконечные жалобы В.И. Лихоносова на то, как чинуши чинили ему препятствия в получении книг писателей из Парижа, невозможно не задаться вопросом: а почему эти книги, тоже из Парижа оказались ему не нужными? Потому что они находились в Краснодаре, а не в Париже? И всё? Очевидно, не нужными оказались потому, что им двигал интерес не литературный…
Да и как было не чинить препятствия, если В.И. Лихоносов переписывался с Александром Алексеевичем Сионским, «казаком», неистовым борцом с советской властью. В годы Великой Отечественной войны, он перешёл на службу фашистской Германии, готовя разведчиков для Рейха. В послевоенные годы продолжал борьбу с ненавистным ему советским режимом, и на деле уже с Россией, специализировался на поиске и, по сути, вербовке интеллигентов, выступающих против советской «власти» в России. То есть в формировании пресловутой «пятой колонны» в стране. Иначе как на потенциального агента он и не мог смотреть на доверчивого писателя В.И. Лихоносова. Разве теперь объявленная нам война, уже не книги, а танки из Парижа, не подтверждает непростительную наивность писателя?.. В.И. Лихоносов, переписывавшийся с «казаком» и «белым офицером» мог не знать, на чём он специализировался теперь в борьбе с Россией, но он не мог этого не почувствовать. Однако, это не вызвало у него никакого отторжения. Наоборот, они стали единомышленниками…
А И.Г. Прилепский же писал ещё в 1935 году в Париже:
К России
Господь тебя благослови!
Некоронованной живи…
И в дальний путь ушедших нас,
Хотя бы и в последний час,
Нас – в обновлённую семью
Всех собери под сень свою.
Но такая исповедь эмигранта писателю была не нужна. Никакого очевидного обновления страны, никакой некоронованной, никакого красного знамени. Россия нужна была только «коронованной». То есть, никакая...
А стихи И.Г. Прилепского издал поэт Алексей Соболь в книге «Пророчества лиры» (Славянск-на-Кубани, 2013).