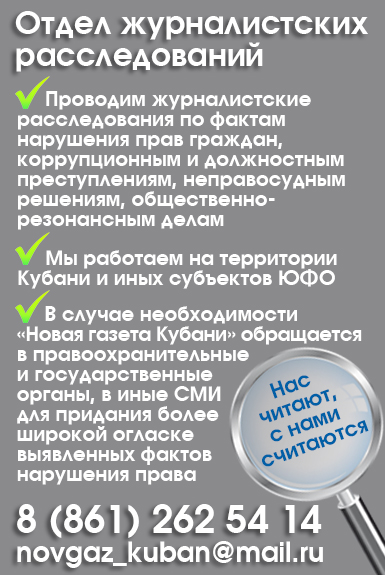Культурный проект «Родная речь»
15466
Последнее задание

Автор: Петр Ткаченко
Командир разведывательного батальона украинской бригады подполковник Слесарчук вызвал к себе майора Константина Потапенко для постановки ему очередной задачи. Дело предстояло деликатное и, как он полагал, с ним лучше мог справиться именно он, майор Потапенко. Грамотный офицер, сообразительный и рассудительный человек, умеющий адекватно реагировать на непредвиденные обстоятельства и принимать правильные решения. Надо было малой группой, малой гурткой совершить краткий рейд на российскую сторону, на, так сказать, временно оккупированную противником территорию. К тому же, это были знакомые места для Потапенко, его родное село, и как думал Слесарчук, это обстоятельство было главным условием успеха предстоящей операции. Кроме того, намечалось его назначение на вышестоящую должность, и от исхода этой операции зависело состоится это продвижение его по службе или нет.
Войдя в кабинет к комбату и доложив о прибытии, майор Потапенко удивился тому, как тот его встретил. Вышел из-за стола, поздоровался за руку, пригласил сесть, назвал его по имени, чего раньше не было. Ведь Слесарчук слыл не то что до предела требовательным начальником, но довольно жёстким и даже грубым. Есть такая категория офицеров во все времена и во всех армиях, которым должность достаётся, видимо, не по чину, не по их способностям, и тогда у них остаётся единственное и верное средство выглядеть настоящим командиром – жёсткое отношение к подчинённым. Общение с ними у них ограничивается нередко разносами. И ничего ведь не скажешь, не возразишь – высокая требовательность предписана им по самому их служебному положению. Майор Потапенко всё это чувствовал, а потому и недолюбливал его. Такая напускная требовательность была неуместна даже в обычной обстановке, в мирное время, а в боевых условиях она только мешала делу и раздражала. Хотя и создавала в глазах начальства репутацию настоящего командира, готового для выдвижения на вышестоящую должность.
Вместе с тем, Слесарчука нельзя было назвать эдаким отъявленным солдафоном. Он многим интересовался, был даже довольно начитан. С претензией на интеллектуальность. Любил порассуждать о таких таинственных сторонах человеческой жизни, какие другим и в голову не приходили. Но понимал их в меру своего разумения. Порой даже нельзя было предположить, что такие идеи и такие соображения могут присутствовать в его служилой голове. О себе он мнил, конечно, больше, чем значил на самом деле, этого, разумеется, не зная.
Был он широкоплечий, с непомерно крупной головой. Лысеющий, редкие, не то седеющие, не то от природы пепельные волосы, были всегда аккуратно прилизаны. Майору Потапенко всегда казалось, что он больше похож на немца, чем на южно-русского человека. Но главное – он так пристально смотрел на людей своими сероватыми, словно выцветшими глазами, так сверлил собеседника взглядом, что каждый, с ним говорящий, заранее чувствовал себя словно в чём-то виноватым. По всему было видно, что он уверен в себе, ни в чём не сомневаясь. Сомневаться в себе могут ведь совсем немногие люди.
– Тут такэ дило, Костя, – начал доверительно и даже ласково Слесарчук, – нада сходыть, збигать в Гончаривку, з вэчира, як тикэ стэмние. Колы именно, скажу потом. Визьмы з собой двух бойцив, нэ бильшэ. Одбэры самих свидомых. Шоб там нэ засвитыться.
– Так Гончаривка – цэ ж моя батькивщина, мое родовыще, там у мэнэ батько и маты живуть, – возразил майор Потапенко.
– Так того ж я тэбэ, а нэ когось другого, туда и посылаю, – твёрдо ответил Слесарчук. –Ты там всэ знаешь. Як туда скрытно попасты и як вэрнуться. Тай батькив заодно провидаешь, уже ж давно их нэ бачив.
– Так-то воно так, – раздумчиво ответил Потапенко, размышляя над тем, о чём сообщил ему комбат. Уже готовый было высказать свои соображения о том, что идти ему в родное село, может быть, и не лучший вариант, что это может стать не условием успешного выполнения задания, а наоборот, может вызвать какие-то непредвиденные обстоятельства, которых заранее предусмотреть невозможно…
Но комбат, не дав ему заговорить, вдруг спросил:
– А дружына твоя, жинка дэ сичас?
– Та була у моих, в Гончаривки, а колы тут началась война, уйихала к своим, дитэй спасая. Но там шо-то нэ заладылось, и вона, мабуть, уже вэрнулась. Наверное уже дома.
– Ну вот, заодно побачишь жинку и дитэй. Так вот, Костя, – продолжал Слесарчук, – дило такэ. Там, в Гончаривки вэчэром будэ собрание, в школи. Будуть избэрать самоуправление. Захотилы стать москалямы. Надо их проучить. – Он помолчал, словно ожидая какой будет реакция Потапенко на сказанное им, а потом уже тише, чуть ли не шёпотом, словно чего-то опасаясь, добавил. – У нас есть сведения, что там собэрэться на совещание начальствующий состав российских соединений. Ось их и нада там накрыть. Колы выходыть, я тоби скажу, но на пидготовку даю два дни. Обдумай як всэ зробыть, а потом мини доложыш. Закавыка тут в том, шо нада ликвидировать объект, но так, шоб цэ носыло уси прызнакы якогось нэсчастного случая. Иначе можно було использовать артиллерию, ракеты или дроны. Но цэ – нэ той случай. Кого с собой визьмэш?
– Та, наверное, сержантив Вдовиченко и Сергиенко.
– Ну и добрэ. Давай, иды и обдумай як всэ зробыть, вси дитали. А потом ище помаракуем вмисти.
Майор Потапенко уже было направился к выходу, но Слесарчук остановил его:
– Да, ище одно. Там, рядом с твоими батькамы жэвэ сосидка Галютка Солоха. Колы побачишь ии, скажы, шо всэ остаеця в сыли. Мы ничого нэ забулы. И всэ. И бильшэ ничого нэ кажи. В общем, пэрэдай од мэнэ привет.
С каким-то и вовсе тяжёлым и даже тупым чувством вышел Потапенко от своего начальника. Особенно его удивило то, что он знает Галютку да ещё передаёт ей привет. Откуда он мог знать эту язву? Но как уже довольно опытный разведчик, Константин, конечно, догадался откуда Слесарчук знал эту издёрганную, вечно чем-то обиженную и всем недовольную Галютку. Но не мог сразу поверить в это. А потом решил, что, видимо, именно такие люди и становятся осведомителями и доносителями. Но ведь жить рядом, улыбаться, щебетать с людьми и за ними шпионить, куда-то доносить на них?..
Галина Солоха, Галютка, как её называли все, давно жила в Гончаривке, с молодости, когда вышла сюда замуж. Но мужа у неё уже не было. Хотя был он мужик работящий и не особенно пьющий, но она его вечно пилила. Особенно когда дети разлетелись по свету, и они остались вдвоём. А потому чаще всего общалась со своими соседями Потапенковыми – Александром Алексеевичем и Марией Петровной, пенсионерами. Чуть что, забегает к ним, даже вроде бы, и без всякого повода. Но поскольку была она женщиной довольно вздорной, Александра Алексеевича остерегалась, так как он её спынял, сдерживал, ставил на место. Особенно в её разглагольствованиях о москалях, которые ей якобы жить просто не дают.
Родом она была из Львовской области. И как только здесь началась война, решила уехать на свою родину насовсем. Там у неё были сёстры. Но через год вернулась притихшая и приниженная, благо хата тут у неё оставалась, а иначе пришлось бы идти по миру. На вопрос Марии Петровны, как там и почему она вернулась, ответила так:
– Пока булы у мэнэ гроши, я була хароша, а потом мини нигдэ миста нэ найшлося. И добавила, что ей обидно, так как была она старшей, воспитывала сестёр. И потом помогала им, пока они учились. Словом, как всегда: родня срэдь била дня, а ночью нэ попадайся. После такой поездки на родину, она, вроде бы, присмирела.
Константин помнил её с юности, с тех пор как она с мужем поселилась рядом. Правда, его удивляло в ней то, что она кичилась своим украинством, демонстративно и как-то уж слишком чрезмерно. Ведь Потапенковы не были украинцами, хотя во всех документах и анкетах значились украинцами. Отец рассказывал Косте ещё в ранней юности, что родом они с Курской области, куряне. Они с матерью, только поженившись, переехали сюда, так как ему, как инженеру, предложили здесь хорошую работу. Да и не имело тогда особого значения, где ты живешь – в России или на Украине. Но потом, то ли при выдаче паспортов, то ли при их обмене, отца уговорили записаться украинцем. Сулили карьерный рост. Тогда он и изменил фамилию: Потапов на Потапенко. Такая, видимо, была тогда тайная политика украинизации. Удумали наивные по ветхозаветному образцу, взять себе людей из среды другого народа. Тогда казалось, что это действительно, не имело особого значения. Но оказалось, что от имени своего отрекаться безнаказанно нельзя, что это имеет последствия и порой трагические. – Так что знай, – говаривал тогда отец, что мы – Потаповы. Он даже вспоминал, как его уговаривали переменить фамилию: на Украине должны жить украинцы, это только хохлы живут там, где лучше, а на Украине – украинцы.
В последующей жизни Костя об этом как-то не думал, во всяком случае, не придавал ему значения. И только потом, а с началом войны особенно, это вдруг приобрело первостепенное значение. И невозможно было понять, как и почему это произошло.
Он, конечно, знал мову, балакал, говорил на ней. Но сказать о том, что хорошо знает украинский язык, не мог. Скорее, это была смесь украинского с русским, диалект, в равной мере понятный всем – и украинцам, и россиянам. На таком языке говорили не только в русско-украинском порубежье, но и во многих украинских областях и в некоторых российских. Да и в армии, в Збройных Силах Украины чаще общались на таком языке. А со своим непосредственным начальником Слесарчуком, когда дело касалось каких-то важных и сложных аспектов службы, не сговариваясь, и вопреки официальной установке, переходили на русский язык.
После получения задания майор Потапенко всё это время пребывал в странном состоянии растерянности, какой-то ноющей внутренней тревоги и даже боли. Он попал в некий безысходный тупик, выхода из которого не видел. Не идти на задание он не мог. Это только безответственные либералы снедаемые эгоизмом, рассусоливают о свободе выбора, не понимая того, как тесно связаны люди в воинском коллективе. Да, присягой, приказами и распоряжениями. Но не только ведь ими, но и ещё чем-то таким, что необъяснимо обыденной логикой, так как каждый является частью этого единого организма, выскочить из которого по своему хотению было невозможно. Но и подрывать в родной Гончаривке школу, в которой он учился, с которой столько было связано дорогого и прекрасного в его жизни, он тоже считал невозможным. Это значило перечеркнуть всю свою предшествующую жизнь с её радостями, любовью и надеждами. И ради чего? И от того, что ответа на этот вопрос не находилось, в висках отдавалось тупой, невыносимой болью. Он впервые в своей жизни не знал, что делать и как быть. Он думал больше теперь уже не о том, как выполнить задание, а как освободиться от этой боли. Что докладывать Слесарчуку, он в точности пока не знал. Но через два дня пошёл к комбату на доклад и уточнение предстоящего задания.
Постучав в дверь, он приоткрыл её. Слесарчук, увидев майора Потапенко, замахал ему рукой:
– А, Костя, заходи, заходи, я тебя, жду. – Ну как, – поздоровавшись, спросил Слесарчук. – Продумал план операции, придумал, нечто такое, чтобы соблюсти те условия, о которых я тебе говорил?
– Да как сказать. Первое и очевидное, чем можно воспользоваться, – там сохранилось старое печное отопление. Через крышу в эти трубы, дымари можно опустить что угодно и сколько угодно…
– М… да, – протянул Слесарчук. – Может быть, и так. Хотя это самое простое, и нашу причастность утаить будет трудно. Но если другого способа уничтожить объект нет, можно согласиться и на этот.
И потом, настроившись на свой обычный «философский» лад, Слесарчук пустился в рассуждения.
– Понимаешь, наших агентов, наших людей там, задерживают обычно со взрывчаткой в руках, с такой уликой, от которой уже не отопрёшься. Но ведь есть немало других способов сделать так, чтобы нанести противнику ущерб, а в то же время всё выглядело бы естественно, словно это произошло само собой, от какого-то стечения обстоятельств или несчастного случая. И это очень важно и чем нам надо пользоваться. Там, на русской стороне таких наших тайных и спящих агентов не выявляют из какого-то ложного гуманизма, что ли. Или потому, что это непросто делать. Хватают только тех, кто со взрывчаткой в руках. А тех, кто с более действенным средством, но не взрывчаткой, не считают опасными. Это довольно странно, но это так. Они, по старым советским или новым либеральным догматам всё ещё ведут себя так, словно война не идёт. А потому, всей мощью пропаганды внушают своим гражданам то, какие мы нехорошие. Словно противник на войне должен быть замечателен во всех отношениях.
Я тебе для размышления приведу только один пример. Ты заметил, как часто в открытой информации сообщается о том, что взрываются квартиры в многоэтажных жилых домах? Объяснение этого обычно такое, что, мол, взорвался газовый баллон или повреждена газовая система. Хотя никаких газовых баллонов и газовых систем в этих домах нет и не должно быть. Ну бывают, конечно, несчастные случаи, пожары. Но я говорю именно о взрывах. Люди учёные, специалисты, разумеется, знают истинную причину этих взрывов, но кто их слушает… А всё дело в том, что в бытовой технике, и в частности, в холодильниках, вот уже тридцать лет, как надёжный традиционный хладагент с хлором заменён на опасный, легко воспламеняющийся изобутан, который при определённых обстоятельствах приводит к непроизвольному взрыву. Итак, взрывы с пугающей методичностью происходят, при этом никто, вроде бы, и не виноват, так как причины их неизвестны. Вернее, они хорошо известны, но их скрывают и продолжают лепить о газовых баллонах, которых там нет. Я это говорю тебе к тому, что вот такие аспекты нам надо выявлять и использовать в нашей войне. Или ты не веришь в нашу победу?
– Да как сказать…
– Вот и ты уже, кажется, сомневаешься…
– Исход войны ведь решается на поле боя, а мы при всей западной помощи…
– Вроде бы так, – перебил его Слесарчук, – но мы, как люди военные, должны крепко помнить, что всё решается на поле боя. Человеческое общество же так устроено, что далеко не всё определяется оружием железным. Есть и иное оружие, которое надо беречь пуще оружия железного. Об этом свидетельствует вся история. Разве от внешних завоеваний погибали великие державы, государства и империи? Начиная с Древнего Рима и кончая Советским Союзом. Отнюдь нет. Они погибали совсем по другим причинам. От внутреннего разложения и прежде всего, правящего класса и той прослойки, которая по самой природе своей призвана определять мыслительные пути общества и которая горделиво называет себя «элитой». Ну и, конечно, от вырождения человека вообще, известного со времён библейских, которое происходит на наших глазах. А потому все разговоры о том, что Россия большая и сильная, что наши потенциалы несоизмеримы, – это в пользу бедных. Всё в мире свершается по иным путям и законам. И потом, люди ведь готовятся всегда к прошлой войне, а сейчас наступил совершенно иной её вид.
Сейчас умные люди, исследователи всё чаще говорят о том, что мы переживаем теперь библейские времена. Но люди всегда, изначально и до сего дня, жили в этих временах. А тот, несчастный, кто считает, что Ветхий Завет и Евангелие – это всего лишь история, что это писано о прошлом, а не о нас нынешних, тот не может объяснить ни истории, ни нашего времени. А без объяснения всё проваливается в небытие. Общество изначально расколото на тех, кто отпал от Бога, отказался от своей духовной природы, последователей Каина и тех, кто остался в своей вере, сынов Божиих. И этот раскол на каинскую и сифскую цивилизации сопровождает человечество во всю его историю. А нам уже давно подсунули провокационную идею классовой борьбы, якобы всё объясняющую – и природу человека, и то как устроено общество. Сколько интеллектуальных усилий затрачено попусту на пропаганду этой ложной идеи об устройстве человеческого общества. Но идея классовой борьбы ничего не объясняет, а лишь разрушает иерархию общества, тем самым, неизбежно сея в нём анархию и хаос.
– Ну, вы откуда начинаете, – с некоторым удивлением сказал Потапенко.
– А как же иначе, Костя. Мы ведь принадлежим человечеству, а значит вся его история – наша. А то явное разложение и вырождение человека, которое мы видим сегодня, разве оно только теперь началось. Оно тоже изначально. Но люди как-то находили в себе силы преодолевать его, не давать ему воли, не подпадать под его тлетворное влияние, сохранять себя. Это главное, что надо понимать во все времена, ибо от него зависит всё остальное. А теперь вот удалось всё-таки навязать людям всякие бесстыдства в качестве нормы и даже добродетели. Сколько, в то время, когда идёт война, таких убогих клоунов, увешанных цацками, по Киеву бродит, вдруг решивших сменить свой пол. А им надо мозги сменить и души подправить. В Книге Бытия говорится, что посмотрел Бог на землю и увидел её растленной, так как всякая плоть извратила путь свой на земле. И только после этого начинается всемирный потоп. То есть, не потоп стал причиной гибели первочеловечества, а то, что произошло с людьми, их вырождение. А потоп, уже только следствие этого. Так же и в наше время, если и случится всё-таки какая-то всемирная катастрофа – ядерная ли, экологическая ли, или какая-то иная, – не она будет причиной гибели человеческой цивилизации, причиной будет то, что произошло с людьми, их вырождение. Ты заметил, как в последнее время природа словно взбунтовалась против человека. Землетрясения, цунами, наводнения по всему свету – это, как и всегда, уже только следствие того, что произошло с человеком, с людьми. А в политическом руководящем слое во всем мире – какие-то фигляры, сплошные клоуны и макроны. Ну как же при этом не быть мировой катастрофе. Это – неотвратимо, если так продолжится и далее.
– Ну, будем надеяться, что человеческий разум не допустит этого, – уверенно сказал Потапенко.
– Нет, не так, Костя. На человеческий разум как раз и нет никакой надежды. Он уже не раз заводил и ещё может завести нас в такие дебри, из которых мы можем и не выбраться…
– Так на что же тогда надеяться? – перебивая его, спросил Потапенко.
– Заметь, Господь создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть, Бог дал человеку душу, но он ничего не говорит о его разуме. Более того, он не доверяет человеческому разуму и не надеется на него. А потому, столь подробно и наставлял нашего прародителя Ноя, как надо построить Ковчег для своего спасения. В Книге Бытия приведена прямо-таки техническая инструкция по созданию его.
Я понимаю, что мы не в силах изменить такого устройства мира, так как оно предопределено свыше. Но само знание того, как он устроен, вера в это уже выводит нас на какую-то совсем иную, неведомую до этого стезю. Что уж кичиться разумом, если на наших глазах опять и снова он заводит нас в какой-то глухой тупик. При всех достижениях науки, техники и технологий. Взять хотя бы тот же искусственный интеллект, с которым теперь носятся как с писаной торбой и как дурни со ступой. Ну совершено очередное научное открытие, необходимое в науке, в вычислительных процессах, во многих сферах современной жизни. Правда, неудачно названное, а, может быть, и преднамеренно так названное – искусственный интеллект, что само по себе провоцирует понимать его так, что он лучше природного, естественного интеллекта, а потому непременно идущего ему на смену. И в таком виде это внедряется в общественное сознание и именно так понимается, пожалуй, большинством людей. Так, тем самым навязывается всё та же ветхозаветная идея не умаления даже человека, а устранения его из этого мира. Вот что может наделать разум без духовных ветрил. Снова, как и всегда.
– Но это ведь общемировое явление, – осторожно вставил Потапов в патетическую речь Слесарчука. – И все в равной мере, что западные люди, что россияне, что мы находимся под крышкой гроба своего…
– Разумеется, это так. И всё дело в том, находит ли в себе силы народ, нация, государство сопротивляться этому или же безвольно следуют за навязываемыми им губительными догматами. Кстати, ты не задумывался над тем, почему это запад вдруг так осмелел. Со времени последней мировой войны и века ещё не прошло, а он вдруг объявил о стратегическом поражении России. И нас, украинцев вовлёк в это. Я думаю, потому, что там мировые стратеги решили, что их программа по уничтожению России, тайно принятая в конце войны, направленная на разложение, развращение и растление людей, а молодёжи в особенности, уже осуществлена. Главное дело, мол, уже сделано. Это ведь не только против россиян, но и против нас, и тогда, когда мы были в единой державе, и теперь, хотя и помогают нам, но не особенно с нами церемонятся. Помнишь программу Даллеса, директора Центрального разведывательного управления США? Мы будем вдалбливать в человеческое сознание культ насилия, секса, садизма и предательства. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. Литература, театры, кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства… Ведь когда оглядываешься назад, приходишь к выводу, что вся послевоенная история является последовательным осуществлением этого плана. Да и сейчас мало что изменилось в этой области, даже тогда, когда уже идёт война… Пока что одни благие пожелания и декларации. Всё застыло словно в каком-то ступоре, из которого, как и всегда, может вывести единственное средство – какое-то грандиозное событие, какая-то грандиозная битва, что ли. И тогда все эти извращения рода человеческого куда и денутся. Это я к тому говорю тебе, что наше положение теперь очень сложное, но не безнадёжное. И заметь, ведь многими нашими агентами там являются сами россияне, идущие на сотрудничество с нами, причём, добровольно, по разным причинам, но чаще – из-за своей мелкой душонки. Это говорит о неблагополучии в обществе. И нам грех этим не воспользоваться
Ну всё, сегодня вечером приступай к выполнению задания. Жду вашего возвращения. Да ещё одно, – словно спохватившись, сказал Слесарчук. – Я должен тебе сказать об этом. Тут меня уже вызывали на беседу, обещают вышестоящую должность. Так вот, я рекомендовал на своё место тебя. Уверен, что ты справишься. Ну всё, иди. С Богом.
– Ну а если в ходе операции случится какая запынка, скажем, столкновение с противником?
– Действуй по обстановке, ты уже опытный разведчик. И потом, мы люди военные, ко всему должны быть готовы. Да и вообще, Костя, бойся жить, а не умирать.
Майор Потапенко вышел от комбата. И странное дело, после беседы с ним, всё представилось ему несколько в ином свете, не таким уж безнадёжным – и общая обстановка, и его предстоящая операция. И он пошёл готовить своих сержантов к выполнению задания. Он думал, что Слесарчук предложит ему какой-то свой, уж точно беспроигрышный план предстоящей операции, но было видно по всему, что такого плана у него самого не было. Надо же, – в сердцах подумал Потапенко. – Он знает, как устроен мир, но как вести эту странную, явно идущую к своему трагическому финалу войну, не знает…
Когда совсем стемнело, выдвинулись на передний край, заранее зная, где находятся посты и огневые точки россиян. Долго лежали, притаившись в бурьяне, вслушиваясь в тишину летней ночи, только иногда нарушаемую вдали автоматными и пулемётными очередями, словно проверяющими – все ли тут ещё живы.
– Ну, всё, хлопци, пошли, – шёпотом сказал Потапенко, легко толкнув сержанта Вдовиченко. – Володя, я – впереди. Ты – за мной метрах в десяти-пятнадцати. Игорь, – сказал Сергиенко, – ты – замыкающий. Рюкзак с гостинцами – у тебя. Если я на что напорюсь, сразу не отступайте, а то перестреляют вас как куропаток. А – в разные стороны, в шуршу и затаитесь в ночи, пока всё успокоится. Если со мной что серьёзное, далее пойдёте сами и действуйте так, как договорились.
Но тёмная облачная ночь и приборы ночного видения помогли им беспрепятственно добраться до села. Гончаривка тонула в темноте. Люди строго соблюдали светомаскировку. На улицах не было ни души. К школе подошли незаметно. Там окна тоже были затемнены, хотя оттуда и доносился какой-то глухой гомон. Потапенко несколько удивился тому, что на входе не было военной охраны. На крышу школы Потапенко и Сергиенко взобрались по пожарной лестнице. Вдовиченко остался внизу, на всякий случай, прикрывая разведчиков. Когда всё было готово, отошли на какое-то расстояние, и майор Потапенко привёл взрывное устройство в действие. Страшный взрыв разорвал тишину Гончаривки. Огромный факел огня осветил вокруг испуганные дома и хаты.
– Ну, вот и всё, – сказал Потапенко. – сейчас подойдём к моему дому. Я заскочу к своим проведать их. Надеюсь не на долго. А вы затаитесь поблизости в зарослях, в куширях и ждите меня.
Майор Потапенко подошёл в темноте, как тать, к родному дому. Сколько раз он уезжал отсюда и сколько раз возвращался. И когда был в военном училище и потом, когда уже служил офицером. И всякий раз сердце его трепетало от непонятной тревоги и радости. Радости встречи с родными – отцом, матерью, а позже с женой Оксаной и детьми – семилетним Сашей и пятилетней Наташей. Сколько именно здесь, а не где-то, хранилось для него самого дорогого в его жизни. Но впервые он подходил к родному дому ночью, остерегаясь и крадучись.
Жалобно скрипнула калитка. В доме было тихо. Он подошёл к входной двери, на которой в темноте нащупал замок. Дома никого не было. Постояв в раздумье у родного порога, он решил зайти к соседке Галютке, узнать где его родные.
В её доме тоже было тихо. Но входная дверь была заперта изнутри. Он легко постучал. И тотчас в комнате вспыхнул свет, что он заметил через щель в светомаскировке. Загремели замки и запоры, и Галютка, не спрашивая кто пришёл, словно кого-то ждала, распахнула дверь. Свет из коридора осветил Константина.
– А, это ты Костя. Видкиль ты взявся?
И он, почему-то вскинул руку и, указуя пальцем вверх, в небо, ответил:
– Оттуда.
– Тут такэ робыця, – затараторила Галютка. – Вроде бы, школа взорвалась чи шо. Шо робыця, и колы оно уже кончится. Стикэ можно издиваться над людьмы.
– А мои где? – перебил её Костя.
– Та вси ж пишлы в школу. Там собрание должно було буть, а потом обищалы кино. Давно у нас кина нэ було. Ось оны вси и пишлы – и батько з матэрэю, и Оксана з дитьмы…
– Да-а-а, дела, – растерянно вздохнул Потапенко. – А ты почему ж не пошла?
– Та я прэбулила.
И по тому, как она это сказала, сразу, словно ответ был заготовлен у неё заранее, он понял, что она врёт. Да и не выглядела она больной.
– Ну что, Галютка, скажешь мне теперь? Твоих рук это дело? Ты сообщила о том, где и когда будет собрание?
– Та ты шо – всполошилась она. – Та хто ж мог подумать, шо так може выйтэ.
– И что прикажешь мне теперь с тобой сделать? – спросил он и решительно передёрнул затвор автомата.
– Ты нэ зробыш цёго, – взмолилась она.
– Ещё как зроблю, уже давно зробыв, и не одну душу выпустил на волю из грешного тела. Теперь твой черёд.
– Нет, – она закрыла лицо руками…
Но стрелять в неё он не стал. Автоматная очередь прошлась поверх двери, высекая древесную щепу и осколки стёкол веранды. Галютка со страху упала на порог, думая, что уже убита. А он, решительно повернувшись, пошёл к своим бойцам. Сержанты уже бежали ему навстречу.
– Товарищу майор, шо такэ? – взволнованно спросил Вдовиченко.
– Да ничего особенного, шуганул тут одну шпионку и всё. Её стерву надо было бы шлёпнуть, но не хочу брать лишний грех на душу. Пусть живёт с этим подлюка.
– Мы же так можем себя обнаружить, – с упрёком сказал Сергиенко.
– Игорь, да мы себя уже давно обнаружили, и здесь в Гончаривке, и по всей Украине, и на всём белом свете. Всему миру уже сказали, кто мы такие – бандиты наёмные в своём родном доме. И я своими руками…
– Товарищу майор, та шо вы такэ кажэтэ, – попытался успокоить его Вдовиченко.
А он не стал говорить сержантам, своим подчинённым о том, какая именно драма произошла здесь, сейчас, этим вечером в его родной Гончаривке, и какая трагедия произошла в его жизни. Но они и в темноте заметили, что таким взволнованным, растерянным и даже злым их командир ещё никогда не был.
– Нет, хлопцы, так родину свою не защищают. Так воевать, можно и вовсе без родины остаться. Как я уже остался… Мне надо побыть одному. А вы идите и схоронитесь под той вербой, мимо которой мы шли, и ждите меня там. Если услышите выстрелы, бегите ко мне, а если нет, ждите пока приду. У нас есть ещё время.
И он пошёл, не зная куда и зачем. Происшедшего он не мог объять разумом, тем более поверить в него. Ему казалось, что это произошло с кем-то, а не с ним. Сердце его колотилось так, что готово было выскочить из груди, а он – раствориться без всякого следа в этом безбрежном и таком жестоком мире.
Всё в его жизни было кончено. Раньше он думал и надеялся на то, что эта странная война скоро закончится и всё станет так, как было прежде. Но чем далее, становилось всё яснее, что так, как прежде, уже никогда не будет. А теперь ему уже было невозможно ни что-либо поправить, ни тем более начать всё сначала. Всё сразу потеряло для него всякий смысл. В душе была такая невыносимая пустота, какую терпеть дальше было уже невозможно, да и не нужно. Он уже готов был совершить суд над собой, так как жить далее, было незачем. В таком жестоком и немилосердном мире он не хотел и не мог больше находиться, не хотел больше во всём этом бедламе участвовать.
В темноте наткнулся на какое-то бревно, лежащее у тропинки. Присел на него. Автомат поставил на землю между ног. Передёрнул затвор. И представил свою, обезображенную пулями голову. Нет, это невозможно было вынести, хотя так легко и просто можно было сделать. Ему было уже всё равно и всё едино. В конце концов не тот живёт больше, кто живёт дольше… И хоть так, хоть эдак у всех у нас впереди – вечность. Не надо доживать до седин, чтобы понять это. Всему ведь есть свой конец. Долголетний человек немногим отличается от всякого другого. Он – тот же цветок, только задержавшийся в своём увядании, век которого в сравнении с вечностью тоже ничтожен. Только душа всё переживёт, а его душа, кажется, уже всё испытала. Ведь главное, что могло произойти в его жизни, уже произошло. Он даже удивился тому, как такие простые истины не приходили ему в голову раньше.
Он присмотрелся к этому бревну и вдруг, даже в темноте, узнал это место. Здесь они бывали с Оксаной, гуляя тёплыми летними ночами по Гончаривке, когда он курсантом приезжал в отпуск. Присаживались на это бревно, бог весть откуда взявшееся и с каких времён здесь лежащее… Он поставил автомат на предохранитель, решительно встал и пошёл к своим бойцам.
– Всё, ребята, возвращаемся, – сказал он беспомощно и тихо. – Идём так же, Володя – за мною, Игорь – замыкающим.
Вернувшись в расположение батальона, он отправил сержантов отдыхать, а сам пошёл докладывать об успешном выполнении задания. Подполковник Слесарчук был на месте, несмотря на уже позднее время. Видимо, действительно ждал возвращения группы. Постучав, Потапенко вошёл в кабинет. Слесарчук торопливо пошёл ему навстречу:
– Ну как? Удачно всё прошло?
– Дальше некуда, – тихо сказал он. – И уже громче доложил:
– Товарищ подполковник, ваше задание выполнено успешно. При этом достал из кармана ручную ребристую осколочную гранату, вынул чеку и поставил её на стол. Слесарчук с ужасом смотрел на эту гранату, не зная, что делать и понимая, что предпринимать что-либо было уже невозможно…
Последнее, что увидел майор Потапенко – это красный облак, полыхнувший перед его глазами.
Дальше эта странная жизнь, вдруг утратившая свои исконные и извечные пути, продолжилась уже без него…
Пётр Ткаченко
«История не терпит суесловья. Часть десятая»

Автор: Петр Ткаченко
История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8, Часть 9
Как кубанцы хопёрцами не стали…
После того, как с 1774 года несколько опорных пунктов на Керченском проливе отошли к России, возникла необходимость связать Азов с нашими поселениями на Тереке непрерывной линией крепостей с водворением на ней казаков. В апреле 1777 года князь Г.А. Потёмкин представил Императрице Екатерине II всеподданнейший доклад об учреждении Азовской линии и переселении туда Волгского казачьего войска, половина которого семью годами ранее, ещё в 1770 году переведена была на Терек и образовала собою Моздокский полк. При этом Волжкий полк был почему-то переименован в Моздокский: «В 1769 году волжские казаки были переведены на Терек под именем Моздокского полка» (В.А. Потто).
Доклад Г.А. Потёмкина Императрице так и назывался: «Всеподданнейший доклад князя Г.А. Потёмкина об учреждении Азовской линии и переселении на Северный Кавказ Волгского и Хопёрского казачьих войск в 1777 году». Полки планировалось переселить одновременно, но главную надежду Г.А. Потёмкин возлагал именно на Волжкий полк, так как Хопёрский ещё только формировался. Сам Г.А. Потёмкин отмечал, что «переселение Волжкого войска на Терек главнейшим стало быть для меня упражнением». И далее – именно Волжскому полку, называемом порой войском, он придавал первостепенное значение в создаваемой им Азово-Моздокской кордонной линии: «Назначенным к переселению на ту линию Волжкому войску, о котором уже и удостоился я в прошлом, 1776 году, получить Высочайший указ, так же Хопёрскому полку донских станиц, и следовательно, в ненужном месте расположенному, указать перейти туда наступающею весною».
Князь Г.А. Потёмкин и создавал-то Хопёрский полк для его службы на Кавказе, а потому и отмечал, что этому полку «в ненужном месте расположенному», следовало идти на Кавказ. Ведь крепость Кизляр, построенная в 1735 году, и Моздок – в 1763 году были главными опорными пунктами Моздокско-Кизлярской линии. Но огромное пространство нашей степной границы между Тереком и Азовом оставалось незаселённым. Без учёта этого стратегического плана князя Г.А. Потёмкина не вполне понятна история отдельно взятых того или иного участка линии, того или иного полка: «Екатерина приказала перевести на Терек ещё часть волжких казаков, живших около Дубровки, и поселить их под именем Моздокского полка между самой крепостью и гребенскими городками. Казаки прибыли с Волги в 1769 году и были водворены на Тереке в станицах Галюгаевской, Наурской, Ищерской, Мекенской и Калиновской своим походным атаманом полковником, впоследствии генералом Савельевым, имя которого в своё время было так популярно между казаками, что сады в Наурской станице и поныне называются ещё Савельевскими» (В.А. Потто, «Кавказская линия», Ставрополь, издательство «Кавказский край, 1994 г., т.1).
Интересно было бы знать, почему Волжский полк при переселении на Кавказ был переименован в Моздокский. Хопёрский полк не был переименован. Хотя по этой логике (по месту дислокации) он мог быть переименован, скажем в Ставропольский…
Не буду напоминать долгую историю заселения Кавказской линии от Изрядного источника, пограничного поста с Черноморским войском до впадения Терека в Каспийское море, заселения полками, как туда прибывающими, так и там создаваемыми верховной московской властью. Касаюсь истории лишь тех полков, которые отвечают на вопрос об истории кубанского казачества.
Надо иметь ввиду, что положение Черномории изначально определялось тем, что с переселением Черноморского войска на Кубань, оно составило особую административно-территориальную единицу – землю Черноморского войска, так как было связано с политикой в отношении Крыма: «Кавказская проблема занимала подчинённое положение в решении Крымского вопроса, то после присоединения Крыма она приобрела самостоятельное значение» (В.Н. Ратушняк, «Очерки истории Кубани», Краснодар, «Советская Кубань», 1996 г.). И подчинялось войско сначала таврическому губернатору. В.А. Потто с некоторым удивлением писал о том, что «Черноморское войско странным образом подчинено было не начальникам Кавказской линии, а Херсонскому генерал-губернатору и составляло подобно Грузии, особый центр борьбы с горцами до самых времён Ермолова, когда и линия, и Грузия, и Черноморское войско соединились в единстве действий». («Два века Терского казачества (1577-1801)». Владикавказ, 1912, Ставрополь, 1991). Но и позже оно представляло собой отдельную административную единицу, не входя в состав Кавказской линии – Кубанскую область. Такое положение Кубани сохранялось и в последующем. А потому и рассматривать историю Кубанского казачьего войска всецело через истории Кавказской линии мягко говоря, не совсем оправдано.
И уж если определять старшинство, то логичнее было бы определять его в Линейном войске, где и находился Хопёрский полк, но не в Черноморском войске, куда он прибыл уже позже. И то справедливее и исторически более точно было бы определять его по волжким казакам, действительно старожилам этого края. Ведь сюда русские люди начали проникать с Волги ещё во времена первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного, который первым «жаловал» казаков, используя их во всех военно-политических акциях и оказывая им помощь в борьбе с врагами. Справедливо писал И.Д. Попко, что «знакомство русских людей с Тереком началось ещё в ХIV веке. Первые проникали сюда варяжским обычаем…». Как отмечалось историками уже нашего времени, «на Волге, где постоянно передвигались правительственные войска, рано возникли укреплённые города, вольному казачеству было трудно удержаться. Часть волжких казаков ушла в Сибирь с Ермаком, остальные переселились к 1610 г. на Дон, Терек, Яик» (Ю.Г. Аверьянов, «Казаки России», Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Москва, 1993 г.).
Уходили в недосягаемые места, в том числе и организованно, о чём писал И.Д. Попко: «Во второй половине ХVI века казаки эти, подбитые коноводами ушкуйниками, поднялись большой станицей (отрядом), посадились в струги с семьями и животными и выплыли весенним половодьем в Дон, откуда по Камышинке переволоклись на Волгу и пустились не незнаемым, конечно, путём к недосягаемому никакой московской погоней убежищу – устьям Терека».
Что же касается уже более позднего собственно Волжского полка (или войска), то он переселился с Волги на Кавказ ранее Хопёрского полка, в 1770 году, а окончательно – в 1777 году под именем Моздокского полка. Всё это свидетельствует о том, что старшинство в Линейном войске следовало бы определять именно по Волжкому полку, который вошёл в его состав в 1832 году. Но не в Черноморском же войске, так как хопёрская история в его предшествующей истории просто не присутствует. Об этом убедительно хотя и деликатно писал Ф.А. Щербина: «Так как хопёрцы вышли на р. Хопёр раньше, чем были разрушены две Запорожские Сечи – одна в 1709 и другая, последняя в 1775 году, то на этом основании хопёрцев надо считать старшею ветвью запорожцев, а черноморцев младшею. Но это едва ли так. Черноморцы в полном составе были раньше и запорожцами. Одно войско стало другим с изменением наименования. Во время же зарождения хопёрского войска запорожцы были в меньшинстве в рядах выходцев из Слободской Украины, а хопёрские выходцы в свою очередь составляли только незначительную часть донского казачества» («История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1910, 1913). Вот откуда исторически следует старшинство в Черноморском, Кубанском войске – от запорожцев, но никак не от Хопёрского полка, тем более, что по выражению историка «старолинейцы составляли не казачье войско, а только полки». Кубанское же войско полковой организации не знало. И вообще, как считал историк, «хопёрцы – собирательное имя разного казачества, за разные времена и в разных местах. Хопёрцы никогда не составляли казачьего войска, с войсковою организацией и управлением». В таком случае, было вообще странным определять старшинство в казачьем войске по полку, который был казачьим лишь по наименованию…
Надо отметить, что уже при самом заселении Черномории и организации кордонной пограничной службы начало было складываться управление по примеру армейского, когда селениями командовали кордонные старшины. Это обернулось злоупотреблениями. Старшины начали нагружать селения разными хозяйственно-бытовыми заданиями, что не могло не вызвать возмущение казаков. И тогда атаман З.А. Чепега 19 ноября 1793 года удаляет кордонных старшин от командования селениями и даёт указание избирать в них атаманов (Алексей Ларкин, «Ольгинский кордон», Краснодар, «Традиция», 2020 г.). Таким образом, было восстановлено именно казачье управление.
Сказалось это и позже. А.П. Ермолов, стремившийся к единому управлению линией, в конце концов, вернул в курени атаманов. Даже тогда, когда в 1820 году Черноморское войско изъяли из подчинения таврическому начальству и, вроде бы, передали под командование Отдельного Кавказского корпуса, оно не переставало быть самостоятельным войском, со своей системой защиты кордонной линии, отличающейся от системы линейного войска. Это охватывало все стороны жизни черноморцев: «Различны были также и отношения черноморских и линейных казаков к горцам. Черноморец был миролюбивее по натуре и относился к врагу легче и гуманнее, чем линеец» (А.В. Ларкин). Хотя, заметим, это было продиктовано не «натурой» людей, а скорее, самим характером и особенностями организации их службы.
В конечном счёте всё ведь определялось самим характером кавказской войны, которая существенно отличалась от иных войн, которые приходилось вести России. Это хорошо понимали наиболее проницательные люди, к сожалению, не многие, такие как выдающийся военачальник генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов. Штаб его находился в Ольгинском укреплении, откуда он предпринимал первые походы в Закубанье на Черноморское побережье. Отсюда началось строительство в 1832 году Геленджикской кордонной линии. Здесь вырабатывались стратегия и тактика Кавказской войны, которые смутно понимались высшим руководством в Петербурге, в обществе и даже в военной среде. А.А. Вельяминов исходил из того, о чём он сам писал, что «Кавказ можно уподобить сильной крепости. Одна только безрассудность может предпринять эскападу против такой крепости». А потому он предлагал политику медленного продвижения и бесповоротного обустройства территорий, обживая их казаками. И, кстати, – совместно с горцами. Петербург же требовал от него карательных экспедиций для наказания горцев. «Но сим средством, – как он писал, – нельзя достигнуть покорения горцев». Он отлично понимал, что речь не может идти о капитуляции горских народов, чего от него требовал Петербург, а «речь могла идти только лишь о тонко разработанном компромиссе» (Яков Гордин, «Кавказ: земля и кровь», Санкт-Петербург», 2000 г.). Он даже избегал выражения покорение горцев, а говорил – «устроить их благосостояние».
Невозможно ведь объективно и честно объяснить всю сложность Кавказской войны, если политику России, согласно марксистской догматике с изрядной долей русофобии признавать «великодержавно-шовинистической», а горских народов – «национально-освободительной». Постарались на этом поприще и наши революционные демократы, о чём убедительно писал В.В. Декоев: «Такая тенденция была особенно характерна для революционных демократов (Н.Г. Чернышевского, Н.А Добролюбова, А.И. Герцена). Представители антисамодержавной политической мысли, они рассматривали Кавказскую войну в едином контексте социально-освободительных и антиколониальных движений против русского царизма». («Проблемы Кавказской войны ХIХ в.: исторические итоги; «Сборник русского исторического общества. Россия и Северный Кавказ», том 2 (150), М.; «Русская панорама», 2000). В том-то и дело, что причины этой войны крылись не только в стремлении России на Кавказ и к южным морям, но и в горских народах, силою исторических обстоятельств (малоземелье), поставленных в такое положение, что набеги и грабежи соседей были для них неотъемлемой статьёй дохода… Но как видим, объективное понимание Кавказской войны вырабатывалось сложно и многие десятилетия спустя…
За многие годы изучения истории и культуры кубанского казачества мне встретилась, пожалуй, только одна действительно аналитическая работа по историографии Хопёрского казачьего полка, реальная проблематика в которой оказалась не утопленной в красивых декларациях о казацкой славе и о служении престолу и Отечеству. И то статья не кубанского исследователя, а историка из Ставрополя – В.А. Колесникова: «Историография Хопёрского казачьего полка: от генерала И.Л. Дебу до отставного хорунжего П.Л. Юдина» («Кубанский сборник», № 1, 2006 г., научный редактор, составитель О.В. Матвеев). В ней автор даёт историю возникновения старшинства и, по сути, несостоятельность исчисления истории Кубанского казачьего войска по такому старшинству, так как это перекрывало пути постижения его действительной истории. Иными словами, историки всецело ограничивались реально-бытовой стороной дела, не касаясь духовно-мировоззренческой сферы, в которой-то и находится истинное постижение истории. А потому из таких работ не складывалась общая цельная картина заселения Северного Кавказа согласно проводимой политике имперской властью. Но главное состояло в том, что такое назначение старшинства в Кубанском войске понуждало исследователей заниматься историей хопёрцев, а не кубанцев, как аксиому повторяя догмат о том, что они – старейшие в Кубанском войске.
По сути, историк В.А. Колесников уже проделал ту работу, которую я намеревался делать и ответил на те вопросы об истории Кубанского войска, которыми я задавался. И я благодарен ему за это, так как его работа оказалась действительно аналитической и в полном смысле слова научной не только по форме, но и по содержанию, по существу рассматриваемой проблемы.
Эту главнейшую особенность организации Кавказской линии отмечал и В.Г. Толстов: «Кавказские казачьи полки, кроме Черноморского войска, жили совершенно самостоятельною жизнью, управлялись сами по себе… Мысль о соединении в одно целое всех казачьих полков и войск на Кавказе возникла давно в высших правительственных сферах» (В.Г. Толстов). Но соединение отдельных полков в единое казачье войско, как и соединение всех подразделений на Кавказе под единое управление не удавалось, хотя такое намерение было и попытки предпринимались: «В 1824 году генерал Ермолов снова поднял этот вопрос и даже представил подробный доклад о соединении кавказских казачьих полков в одно войско, но из этого опять ничего не вышло. Только в 1832 году все отдельные казачьи полки, кроме Черноморского, были соединены в одно целое войско под названием Кавказского линейного казачьего войска» (В.Г. Толстов). Но даже с образованием этого войска его трудно было назвать в полном смысле казачьим, так как оно имело полковую организацию и существовало по войсковому положению.
Показательно, что В.А. Колесников обозревал, видимо, по неистребимой «традиции», историографию именно Хопёрского полка, хотя писал о Кубанском казачьем войске. Или иначе уже и невозможно было говорить об истории Кубанского войска, так как эта недобрая «традиция» свелась к тому, что история Кубанского казачьего войска оказалась подменённой старшинством его по Хопёрскому полку, а, по сути, историей этого полка, причём, без всякого анализа того, действительно ли это так. Историк В.А. Колесников избежал этой «традиции», представив подробную историографию. А потому он имел полное право на довольно жёсткий упрёк предшествующим историкам в «низкой в тот период саморефлексии кубанского казачества, из рядов которого происходили и сами местные исследователи, … полученную ими от старшего поколения определённую заданность в виде летописей сплошных походов, сражений и героических поступков того или иного подразделения они, за редким исключением (П.Л. Юдин), так и не смогли преодолеть». Историк, по сути, упрекал предшествующих исследователей в том, что, приводя факты, они не осмысливали их в общей истории народа и страны.
Но ещё большее право он имел на упрёк современным историкам: «Осмысливая почти 15-летний период активных исследовательских усилий, направленных на изучение малопопулярной в советской региональной науке казачьей истории Кубани, можно констатировать, что современная генерация «казаковедов» логически завершают начинания своих предшественников ХIХ – начала ХХ в.в. В новейших статьях и монографиях всестороннему рассмотрению подверглось участие Черноморского и Линейного казачества в Кавказской войне, уточнены и по-новому оценены сюжеты, связанные с формированием полков, устройством кордонных линий, действия казаков во внешних военных компаниях империи, но в то же время гораздо меньше удаляется аналитической стороне кавказоведения». То есть, не уделяется внимания самому смыслу происходившего. И историческая наука о казачестве оказалась в каком-то хроническом ступоре, без какого-либо её развития.
В.А. Колесников обратился к первоисточникам, изначальным справочникам, таким как «Словарь географический Российского государства, описывающий азбучным порядком, собранный Афанасием Щекатовым» (М., 1808 г.). И, кажется, с некоторым удивлением отмечал: «Показательно, что в разделе «Казаки» данный словарь не упоминает хопёрцев, как таковых, видимо, по причине их малочисленности и относительно недавнего периода существования полка». Или – к такому основательному изданию, как «Статистическое описание Российской империи в нынешнем её состоянии…» (С.-Петербург, 1808 г.): «Сведения, помещённые профессором географии и статистики Е.Ф. Зябловским в его популярном для современников «Статистическом описании Российской империи», где говорится о гребенских, донских, запорожских, слободских, малороссийских, волжских, оренбургских, уральских, сибирских, черноморских, чугуевских и бугских казаках, но нет ни слова о представителях интересующего нас полка». То есть, не упоминается о казаках хопёрских.
А в таком авторитетном издании как «Военный энциклопедический лексикон» о хопёрском полку приводятся следующие строки: «В 1717 г. при построении Новохопёрской крепости (ныне уездный город Воронежской губернии) переведены были туда на жительство несколько сотен донских казаков, которые первоначально составляли гарнизон крепости. В 1777 г. из них составлен пятисотенный полк и переселён в Кавказскую область, в том же году в состав полка поступили пленные персияне и несколько семейств мирных горцев». И что удивительно, и здесь не упоминается о предположительной истории хопёрцев, связанной с Петровскими походами на Азов 1695-1696 годов, по которым и было определено старшинство Кубанского казачьего войска. Но если бы только старшинство определялось. Но была установлена новая история войска, его истинной истории не соответствующая…
Историография Кубанского казачьего войска, как впрочем, и Кавказской линии, отличается каким-то поразительным непостоянством и переменчивостью. Она изменялась, причём, радикально, в ту или иную эпоху по соображениям отнюдь не историческим. Это убедительно и показал в своём исследовании В.А. Колесников.
Складывается впечатление, что на каком участке линии, в каком войске, и в каком полку служил тот или иной историк, о том и писал, абсолютизируя своё подразделение, ставя его в центр событий Кавказской войны. Так собственно и произошло с Хопёрским полком: «Первым, кто по-настоящему проявил внимание к Кавказскому линейному казачеству, стал генерал-майор, сенатор Иосиф Львович Дебу», в его замечательной, содержательной книге «О Кавказской линии и присоединённом к ней Черноморскому войску…» (Санктпетербург 1829 г.). И понятно, ведь он был начальником левого (Терского), а с 1816 года – возглавлял правый (Кубанский) фланг Кавказской линии. Его работа положила начало изучению Кавказского линейного войска, что было и замечательно, и необходимо. Но мы говорим всё-таки о Черноморском, Кубанском войске… Так складывался некий стереотип в понимании кавказского казачества, когда кубанцы рассматривались не иначе как через линейцев, ядро которых якобы составляли хопёрцы, каковыми они не были.
С 60-х годов ХIХ века исторические материалы о хопёрцах начинают существенно отличаться. Скажем, в работах Василия Александровича Потто. Справедливо отмечал В.А. Колесников, что заслуги хопёрцев «вплоть до официального назначения им старшинства, особенно не рассматривались и не подчёркивались, а в различных изданиях, где речь шла о кубанском войске, традиционно повествовалось о переселении на Кавказ черноморских казаков».
Что стало причиной столь радикального изменения истории Кубанского войска: найдены новые архивные материалы, новые события по-новому открыли смысл происходившего ранее? Да нет же, всё определялось личными пристрастиями того или иного автора, что не позволяло представить общую картину Кавказской войны.
В высшей мере примечательно и то, как зарождалось это старшинство и чем оно тогда мотивировалось. Оказывается, всё началось чуть ли не с простой заметки, корреспонденции: «Что касается хопёрцев, то их «кавказская военная история» первоначально уступала вышеупомянутым очеркам, ограничиваясь лишь небольшой заметкой, посвящённой посещению великим князем Михаилом Николаевичем станиц 4-й (Хопёрской) бригады (1-2 мая 1867 года). На торжественном обеде в ст. Невиномысской Его Императорское Высочество произнёс тост за здоровье 4-й (Хопёрской) бригады, в котором несмотря на протокольность мероприятия, тем не менее, оказались озвучены важные аспекты. Так было сказано, что именно это подразделение является старейшим из частей Кубанского войска… Данная корреспонденция была подписана псевдонимом «Хопёрский казак И.К.», за которым легко угадывался один из будущих столпов Хопёрской историографии генерал-майор Иван Семёнович Кравцов» (В.А. Колесников), И.С. Кравцов – «историк-любитель», командовавший в то время Хопёрской бригадой. Он и составлял историческую справку для высочайшей особы. Позже он становится знаковой фигурой в дальнейшей эволюции хопёрской историографии, певцом хопёрской старины… Так хопёрская историография становилась историографией кубанской, что трудно назвать «эволюцией», имеющей отношение к истории кубанского казачества… Но удивительно, что писания «историка любителя» в дальнейшем становятся чуть ли не основой для профессиональных историков – П.П. Короленко, Е.Д. Фелицына, Ф.А. Щербины.
Любопытна и сама мотивация установления старшинства в Кубанском войске по Хопёрскому полку: «Перелом в репрезентации кубанского казачества в местных и столичных печатных материалах внёс приказ по военному ведомству № 106 от 28 марта 1874 года, согласно которому начало всего войска должно было считаться по старшему одного из его полков – Хопёрскому. Это распоряжение мотивировалось Сенатским указом от 2 июня 1724 г., обнаруженным в первом издании полного собрания законов Российской империи, где в пункте 13 говорилось, что казаки, живущие в Новохопёрской крепости «были в походе под Азовом и на разных баталиях шведских». Дата основания второго по величине казачьего войска, таким образом, была окончательно утверждена по 1696 году, и оставалось только осуществить достойную «подачу» истории хопёрцев, тем более, что не за горами маячил двухвековой юбилей» (В.А. Колесников).
Обратим внимание на то, что в упомянутом Сенатском указе говорится не о хопёрцах, а уже о новохоперцах; каковыми они стали в 1717 году, после царского разрушения их городков. Более 20-ти лет спустя после Петровских походов. А дата старшинства тем не менее устанавливается по 1686 году только по предполагаемому участию хопёрцев в Петровских походах на Азов. Да и «баталии шведские» были уже позже. Явное несоответствие даты, по которой устанавливалось старшинство. Совершенно справедливо отмечал современный историк, что «малодоказательными выглядят и версии автора (Толстова и, пожалуй, всех авторов – П.Т.) в отношении участия хопёрцев в громких событиях Петровской эпохи… слабая доказательность их старшинства именно в 1696 г.» Понятна деликатность историка о слабой доказательности такого старшинства. Но в пользу этой даты не было никакой доказательной базы.
Обратим внимание так же и на то, что стало причиной, столь, предвзятого толкования истории для кубанских исследователей: «Не обошёл своим вниманием рассматриваемых казаков и такой признанный к этому времени специалист как войсковой архивариус Прокофий Петрович Короленко. Убеждённый «черноморофил», радетель запорожской старины, он, как показали дальнейшие события, вынужденно обратился к прошлому чуждых ему линейцев, не посмел оспаривать Высочайшее утверждённое по Хопёрскому полку старшинство». И не только он не посмел оспаривать высочайшее решение… Но теперь-то, когда и высочайших особ, это устанавливавших, давно уже нет, можно более здраво и объективно отнестись к своей истории, наконец-то «посметь» это сделать?
Если говорить о докавказской истории хоперцев, то В.А. Колесников предлагал иное, более объективное старшинство: «Логично было бы взять за точку отсчёта самого заслуженного из них Острогожского, т.е. в 1652 г., что существенно отодвинуло бы хронологическую планку старшинства». А если говорить о кавказской их истории, то там они далеко не были первопоселенцами и, как мы уже увидели, не являлись самым старым полком.
Поскольку труды казачьих историков зачастую носили характер полковых хроник, писавшихся самими служилыми людьми, самодеятельными авторами, то они, как уже сказано, абсолютизировали роль своих подразделений в истории края. То есть, проявляли при этом некий исторический сепаратизм. И как ни странно именно эти труды, поддерживаемые сверху, определили направление и задали тон исторических изысканий, даже в исследованиях профессиональных историков, ставя их в двусмысленное положение: с одной стороны, стремление создать истинную историю, с другой – не смея противоречить установлению, предписанному свыше. Не избежал этого даже такой историк как И.Л. Дебу. Это сказалось уже в названии его книги: «О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске». Конечно, Черноморское войско не присоединялось к Кавказской линии. И не были эти войска слиты в единое войско даже после 1860 года. И уж тем более, хопёрские казаки не составляли ядра Кубанского войска, как писал о том И.Л. Дебу. К Черноморскому войску были присоединены шесть бригад линейного войска правого фланга Кавказской линии: «8 февраля 1860 г. издан указ о переименовании правого крыла Кавказской линии Кубанской областью, левого – Терской областью. К правому крылу относилась территория от северо-восточного берега Черного моря до верховьев р. Малки, включавшая земли Черномории, Старой линии, Черноморское побережье, а так же вновь занимаемые пространства за р. Кубанью. 19 ноября того же года Черноморское казачье войско, в состав которого, вошли шесть бригад Кавказского линейного войска, переименовано в Кубанское. В итоге этих преобразований Екатеринодар стал центром одной из крупнейших административных единиц юга России – Кубанской области, оставаясь одновременно резиденцией наказного атамана Кубанского казачьего войска» («Екатеринодар – Краснодар. Два века города. Материалы к летописи, Краснодар, 1993 г. То есть, преемственность от Черноморского войска была сохранена.
Об этом писал ранее в своей истории и В.Г. Толстов: «В 1860 году из Кавказского линейного и Черноморского казачьих войск было образовано два войска: Кубанское и Терское. В состав первого из них вошли всё черноморское войско, Хопёрская, Ставропольская, Кубанская (состоящая из донских казаков – П.Т.), Кавказская, Лабинская и Урупская бригады; остальные бригады Кавказского линейного войска образовали Терское войско».
С какой стати теперь, в новом Кубанском войске история его должна исчисляться по старшинству от Хопёрского полка, никак предшествующей историей с ним не связанного? Никаких ни исторических, ни логических причин для этого не было. Кроме, разумеется, решений высокого начальства. Но мы ведь говорим всё-таки об истории, а не об обслуживании псевдоисторической наукой постановлений начальства, которые могут быть разными – и во благо народу, и во вред ему, что видно уже по приводимым нами историческим примерам.
И кстати сказать, подобное административное деление в этом регионе сохранялось и позже, сохранилось оно вплоть до сегодняшнего дня : Ставропольский край и Краснодарский край, но не некое единое административное образование.
Я ссылаюсь столь обильно на предшествующих историков, стараясь избежать эклектичности, так как в их трудах есть много верного, объективного, хотя подчас и потопленного в декларациях, казачьим историкам свойственных изначально. Я только обращаю внимания на те их выводы, которые, как мне кажется, объективно представляют историю казачества, без которой и история России остаётся неполной.
На первый взгляд может показаться непонятным и необъяснимым то, почему черноморцы к этим преобразованиям и даже к переименованию их войска в Кубанское отнеслись отрицательно и даже враждебно. 4 октября 1860 г. во Владикавказе, генерал-фельдмаршал А.И. Барятинский подписал проект преобразования Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск… По принятому плану, по предложению генерала Г.И. Филипсона: предстояло переселение казаков в Закубанье, на передовые линии единовременно, целыми станицами, что было для них разорительным. Они стали требовать предъявления им царского Указа и заявили, что без «верховного повеления», станицы идти на новые линии отказываются . «Однако требуемого «Высочайшего указа» «не изходатайствовали», а потому ничего предъявить казакам не могли». (В.А. Жадан. «Забытый атаман Кубанского войска», «Кубанское казачество: три века исторического пути», Краснодар, 1996 г.)
Наказному атаману Кубанского казачьего войска генерал-адъютанту графу Н.И. Евдокимову 2 мая 1861 года была подана «Докладная записка дворян Черноморского казачьего войска», которую подписали генерал-майоры Котляревский, Кухаренко и 92 штаб и обер-офицера. Налицо было явное неповиновение местному начальству. В «Докладной записке…» излагались условия переселения за Кубань: «Чётко обозначить границы закубанской территории, предлагаемой к заселению именно черноморцами, и закрепить её за войском «Высочайшей грамотою» по примеру 1792 года… переселение осуществлять по желанию и жребию, без принуждений… Выступили дворяне и против названия Кубанского войска. Они требовали «отделить» от Черноморского войска шесть линейных бригад и возвратить черноморцам прежнее название войска» (В.А. Жадан. «Бунт дворян-казаков в Екатеринодаре весной 1861 года», «Казачество России: история и современность 1792-2002…», Краснодар, 2002 г.).
Черноморцы хотели остаться черноморцами, по всей видимости, потому, что подозревали, что в результате этих преобразований в Черномории будет установлена служба по примеру Кавказской линии. То есть, их казачье войско собственно войском перестанет быть. Примечательна при этом их оговорка: «По образцу 1792 года», то есть, с дарованием им земли на вечные времена.
Атаману Н.И. Евдокимову пришлось взять на себя ответственность и отменить переселение весной 1861 года, подготовить и отправить в Тифлис новый проект заселения предгорий – по жребию от всех станиц правобережной Кубани, со значительными льготами. Царь Александр II выразил Н.И. Евдокимову своё неудовольствие. Однако, одобрил его план. Была одобрена и система переселения. В конце концов, жёсткий конфликт даже с арестом десяти наиболее влиятельных офицеров-черноморцев с отправкой их в Ставропольскую тюрьму, был улажен, итогом чего стал рескрипт императора от 24 июня 1861 года. А в сентябре 1861 года во время приезда Александра II в Кубанскую область, все участники бунта были помилованы. Показательно, что главным вопросом в этом конфликте был вопрос о земле, о передаче её войску в вечное и потомственное владение. Это подтверждается и тем, что Царскую грамоту на владение закубанскими землями Кубанское казачье войско получило лишь в 1889 году…
Было бы опрометчивым объяснять этот бунт только классовым подходом, тем, что это, мол, взбунтовались только дворяне, владельцы хуторов, стад, мельниц и больших пространств земли, опасаясь их потерять. Причина его была более глубокой и в конце концов крылась в существенных различиях Черноморского Кубанского казачьего войска и Кавказской линии, всего уклада их службы и жизни.
Это какое-то изначальное противопоставление самостоятельных казачьих войск – Черноморского (Кубанского) и Линейного (Терского) чувствуется в исторических исследованиях до сего дня. Причина его, кроется в существенном отличии этих войск. Ведь Кавказское линейное войско (1832 г.) имело, по сути, армейскую организацию и существовало по войсковому положению. Говорить при этом о казачьей демократии не приходилось, так как полновластными начальниками, как военными, так и гражданскими, являлись командиры полков, а в станицах есаулы. Даже земля принадлежала не войску в целом, а отдельным полкам. Конечно, это можно было бы объяснить беспокойной пограничной службой с постоянными набегами неприятеля и защитою своих городков и станиц. Другой, мол, формы службы и жизни в таких условиях и не могло быть. Но ведь и служба черноморцев была не менее беспокойной и опасной.
Завершая свои размышления об истории с историей Кубанского казачьего войска, сошлюсь на не подлежащий сомнению вывод историка В.А. Колесникова: «Назначение старшинства в Кубанском войске по хопёрцам заставило полковое историописание развиваться в достаточно узких рамках, ограниченных вопросами происхождения, давности службы, участия или неучастия представителей в том или ином славном событии. Не стоит забывать и то обстоятельство, что казачьи историки Кубани обязывались к обеспечению и определённых идеологических функций, что во многом влияло на качество их изысканий и, безусловно, обедняло содержание выходивших работ, делая их менее объективными». То есть, при таком «старшинстве», предполагавшем лишь военную сторону жизни казачества, не достигается его историческая полнота в долгий, трагический период освоения Северного Кавказа, и прежде всего – его духовно-мировоззренческая, цивилизационная роль в истории России, так как при этом вольно или невольно искажается сама уникальная природа казачества, только России свойственного и присущего. Мне же остаётся напомнить извечную истину, выраженную в стихах большого поэта советской эпохи Ярослава Смелякова: «История не терпит суесловья,/ трудна её народная стезя./ Её страницы, залитые кровью,/ нельзя любить бездумною любовью/ и не любить без памяти нельзя».
Как теперь со всем этим быть? Просто перестать искажать свою историю, ссылаясь на какие бы то ни было тесные обстоятельства, какие у всех и во все времена бывают; помнить о том, что искажённая история неизбежно влечёт за собой и искажение жизни, что коснётся всех, в том числе и тех, кто это делает; помнить о том, что говоря об истории, мы говорим и о своей нынешней жизни; наконец, следовать завету наших великих предшественников: «Да ведают потомки православных/ Земли родной минувшую судьбу» (А.С. Пушкин, «Борис Годунов»).
Нас могут упрекнуть в том, что мы в своём повествовании не привносим новые факты, не обращаемся к неизвестным до этого источникам, что является бесспорным признаком новизны исследования. Но нам бы в пору разобраться с фактами хорошо известными, поставить их в правильное соотношение и не выводить из них тех смыслов, какие из них не следуют, что не является редкостью в нашей историографии…
Что же касается происхождения и природы казачества, то оно, безусловно, выходило из всей предшествующей русской жизни, оно было – «необыкновенное явление русской силы» (Н. Гоголь). И.Д. Попко полагал, что «в казачестве нашла своё продолжение первая, прочно организованная военная сила на Руси – дружина». Ф.А. Щербина считал, что «казачество появилось на смену вечевого уклада народной жизни». И это справедливо, если рассматривать историю народа и страны в её общем непрерывном течении со времён стародавних до нынешнего дня.
Петр Ткаченко
«История не терпит суесловья. Часть девятая»

Петр Ткаченко
История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8
Сага о Хопёрском полку
Историки, обосновывая старшинство в Кубанском войске по Хопёрскому полку, рассматривают его историю до переселения на Кавказ и историю хопёрцев, точнее было бы сказать, новохопёрцев, уже на Кавказе. Хотя докавказская история хопёрцев к определению истории Кубанского казачьего войска никакого отношения не имеет. И, тем не менее, в аргументации историков, пожалуй, в равной мере присутствуют как докавказская, так и кавказская история хопёрцев.
Что касается докавказской жизни хопёрцев, то исследователи, писавшие о ней, повторюсь, проявляли, как справедливо отмечал В.А. Колесников, «слабую доказательность их старшинства именно с 1696 года». Об их пребывании на Северо-Западном Кавказе тоже нельзя сказать, что там они занимали некое «особое место», и что им принадлежала «исключительная роль» в освоении края. Да, можно сказать, что они «старожилы» этих мест. Но не единственные, а наравне с другими подразделениями, полками и даже казачьими войсками. И прежде всего Волгжским (Волгским) войском.
Неизбежно встаёт вопрос: «Так что мы берём за основу для выделения хопёрцев вообще, а потом и Хопёрского полка среди других войск, полков и подразделений – их докавказскую историю или же их старожильничество уже на Кавказе? Ответ очевиден, – конечно, за такую основу надо брать их кавказское житие. Но историки продолжали писать об их докавказской истории, порой теряя к ней интерес как не содержащей предмета для исследований. Более того, именно по докавказской их истории определяли старшинство в Кубанском войске, хотя об участии хопёрцев в походах Петра I на Азов и их подвигах там, история умалчивает. Но тогда нельзя не задаться вопросом: как быть с действительно грандиозным подвигом донских и запорожских казаков, где были, видимо, и хопёрцы, задолго до походов Петра I при Азовском осадном сидении 1637-1642 годов? Их действительный подвиг в связи со старшинством по Хопёрскому полку, получается, выпадает из истории. И всего лишь потому, что это были не Петровские походы, а самочинные донских и запорожских казаков, что, как понятно, величия их подвига умалять не может. По исторической справедливости их подвиг не может быть выброшен из истории.
Освоение Северного Кавказа было делом государственным, осуществляемым силами всей Империи, где каждому подразделению и полку отводилась своя роль и задача, считать которую некой заглавной не было никаких оснований. К тому же заселение края не было только и исключительно казачьим. Как писал Ф.А. Щербина, «крестьянская колонизация края велась более успешно, чем казачья». Во всяком случае, участие в ней армейских полков было не менее значительным, чем собственно казачьих. О заселении Северного Кавказа, как общегосударственном деле писал так же и И.Д. Попко, никак не выделяя, при этом хопёрцев, и не видя в них некой особой роли: «По дальнейшему протяжению линии поселились слободско-украинские казаки, переведённые с Хопра в одно время с волгскими и составившие Хопёрский полк, который в круг нашего описания не входит».
Но сначала – всё-таки об истории Хопёрского полка, коль именно он оказался в центре определения истории Кубанского казачьего войска, без достаточно веских на то оснований. Полковой историк есаул В.Г. Толстов отмечал, что «первые весьма неопределённые известия о казаках на реке Хопре относятся к началу ХVII столетия, к первым годам правления Михаила Фёдоровича, когда в Москве узнали, что на Хопре мятежные казаки с атаманом Заруцким «воруют и прямят Маринке и сыну ея». Речь шла о польской авантюристке Марине Мнишек, связанной со Лжедмитрием и последующей антимосковской политикой. А первые официальные источники о хопёрских казаках относятся к 1669 году, когда Стенька Разин принёс повинную и засел за житьё в построенном им Кагальницком городке. Ну и уж совсем хорошо узнали в Москве хопёрцев, о том, что «состав населения их отличался всегда неспокойным и мятежным характером» во время войны со шведами, когда осенью 1707 года на Дону вспыхнул Булавинский бунт, имевший трагические последствия для хопёрских казаков. Безусловно, бунт был спровоцирован царским указом о возвращении из донских казачьих городков беглых, которые приняты в число казаков после 1695 года. Поводом же к такому царскому указу стали жалобы на то, что податей взымать не с кого и в армию стало призывать некого, так как казаки разбегаются. Пётр Алексеевич, по своему обыкновению, и здесь разрешил всё скоро и радикально, не особенно задумываясь о последствиях своего решения.
Как известно, в конце 1707 года на Дон был послан князь Юрий Долгорукий с пехотным полком в две тысячи человек при пятидесяти двух офицерах. Булавин ушёл на Хопёр, где без особых затруднений поднял мятеж в казачьих городках по Хопру, Бузулуку, Донцу и Медведице. Немаловажную роль в бунте сыграло и то, что в это время пятнадцать тысяч лучших казаков находились на «баталиях шведских», а дома оставались, скажем так, менее стойкие от внешних влияний люди.
Двадцать офицеров и до тысячи солдат, прибывших на Дон, погибли от рук бунтовщиков. Был убит и князь Юрий Долгорукий. В марте 1708 года Булавин снова появился на Хопре в Пристанском городке. К нему пристали все двадцать пять городков с 3676 казаками. Затем Булавин взял Черкасы, где был избран мятежниками в войсковые атаманы.
Пётр I двинул на Дон для подавления мятежа до двадцати тысяч регулярных войск под начальством князя Василия Долгорукого, брата убиенного мятежниками Юрия. Царь распорядился «все городки от Пристанского до Бузулука разорить»: «Указом 14 мая 1711 года он приказал городки верховых с Хопра за воровство, за принятие Булавина к себе и за то, что ходили против государевых войск, и жителей свести в низовые станицы, чтобы впредь на то смотря, так воров и бунтовщиков и шпионов принимать было не повадно. В июле 1712 года Пристанский, Беляевский и Григорьевский хопёрские городки, после выселения из них жителей, были разорены и принадлежащие им земли присоединены к Воронежской провинции» (Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1910, 1913).
Более семи тысяч казаков было казнено и побито. По указу царя на месте Пристанского городка позже была построена Новохопёрская крепость с земляными валами и внешним рвом. Азовский генерал-губернатор Апраксин в ведении которого находилась Воронежская губерния, объявил о вызове к Новохопёрску вольных черкас, посадских людей и вообще казаков и начал их приём с 1717 года. В Новохопёрский гарнизон записалось 219 охотников из донских казаков, которые стали зваться новохопёрскими казаками. Это была Хопёрская команда, которая шестьдесят лет спустя преобразована в Хопёрский полк.
После столь жестокого царского наказания хопёрский край оставался малолюдным. По переписи уже 1771 года в Новохопёрске было всего 247 казаков команды и отставных. И в четырёх слободах проживало ещё 1215 человек мужского пола, некоторые из которых наряжались на охрану крепости, а остальные никакой службы не несли. В связи с переписью и не зная её причины, новохопёрцы заволновались, полагая, что всех, кто не служит, могут зачислить в подушной оклад или отдать в солдаты. И тогда начались хлопоты по созданию Хопёрского казачьего полка.
Сначала думали действовать через коменданта Новохопёрской крепости полковника Подлецкого, но казаки не доверяли ему, не любили его и подозревали, что он не даст делу ход. И тогда они, сговорившись, выбрали из среды своей казака слободы Пыховки Петра Подцвирова и доверенных лиц. Поздней осенью 1772 года эта делегация прибыла в Петербург и подала в Военную коллегию прошение на Высочайшее имя. Новохопёрцы просили учредить пятисотенный казачий полк, а также, в подушной оклад их не класть и возвратить исстари принадлежавшие им земли и разные угодья. Избранные жаловались также на Подлецкого, что он обременяет их неуказанною службой, употребляет на казённые и частные работы бесплатно и поступает с ними несправедливо.
Подлецкий попытался было отдать Подцвирова под суд, якобы за самовольную отлучку от команды, но казаки отстояли его. А Подлецкий вынужден был оставить свою должность, так как высшее начальство не признало Подцвирова виновным. 6 октября 1774 года Военная коллегия ходатайствовала о сформировании из новохопёрских казаков пятисотенного полка. По ордеру графа Г.А. Потёмкина от 24 сентября 1775 года за № 1524 командиром Хопёрского полка был назначен армии премьер-майор и войска Донского полковник Устинов, который и приступил к его формированию.
Надо сказать, что несколько ранее, в июле 1774 года президент Военной коллегии генерал-аншеф Григорий Александрович Потёмкин был назначен Новороссийским, Астраханским и Азовским генерал-губернатором и начальником всей лёгкой кавалерии, в том числе Моздокского, Хоперского (ещё не существующего), Чугуевского и Тобольского казачьих полков и Донского, Волжского, Астраханского, Оренбургского, Яицкого казачьих войск. Таким образом, всё дело обустройства и обороны наших южных рубежей сосредоточилось в его деятельных руках. И поскольку до этого наша граница на Кавказе тянулась по Тереку от Каспийского моря до устья реки Малки, на всём протяжении заселённая станицами кизлярских, гребенских, терских и моздокских казаков с укреплёнными пунктами Кизляром и Моздоком, теперь, когда к России отошли берега Азовского моря, князь Г.А. Потёмкин замыслил продолжить линию от Моздока к Дону, то есть, создать Азово-Моздокскую укреплённую линию, поселив там хопёрских и волжских казаков. Но не только казаками мыслилось укрепление этой линии. На Кавказ был вызван генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Он принял командование Кавказским корпусом. В зиму 1777 года и в 1778 году при помощи трёх тысяч рабочих с Дона линия была укреплена редутами и фельдшанцами от Азова до Тамани, а оттуда вверх по Кубани до нынешней станицы Кавказской.
Г.А. Потёмкин сделал доклад Императрице относительно заселения хопёрцами и волжскими казаками Азово-Моздокской линии. Государыня утвердила его доклад, начертав на нём собственноручно 24 апреля 1777 года: «Быть по сему». Хопёрскому полку предстояло переселение на Кавказ, где он поступал в распоряжение генерал-майора Якоби, астраханского губернатора: «Летом 1778 года на новую линию с Хопра прибыла первая партия казачьих семейств со всем имуществом и распределилась на житье в оконченных постройкою станицах при Ставропольской и Северной крепостях… Наконец, летом 1780 года с Хопра перешли на новую линию все остававшиеся там казаки, женщины и малолетки, и в феврале 1781 года весь Хопёрский полк окончательно водворился и устроился на Азово-Моздокской линии в своих станицах при Северной, Ставропольской и Донской крепостях в каждой по 140 семейств» (В.Г. Толстов). Так началась кавказская жизнь хопёрцев, кстати, не менее буйная, чем была на Хопре, что историк полка описал довольно подробно.
Опять-таки, не могу не соотнести титанический труд наших великих предшественников по обустройству Новороссии, присоединению Крыма, освоению Кавказа, укреплению наших южных рубежей с тем, как мы сегодня понимаем и расцениваем их подвиг. Того же князя А.А. Потёмкина, который и был всем этим занят, – от замыслов до воплощения. Александр Разумихин в историческом эссе «Судьбе было угодно» («Наш современник», № 6, 2025 г.) пишет о князе : «Хотя все титулы, звания и даже деяния можно было бы свести к одной всеобъемлющей формуле: фаворит и даже морганатический супруг Екатерины II». Автор «постельного» исторического эссе, видимо, полагая, что он уличает князя в протекции ему со стороны Императрицы, уничижительно пишет о нём, как он благодаря этому, за десять лет от подпоручика дорос до подполковника: «А дальше пошло-поехало. Буквально через десять лет подпоручик уже подполковник». Но десять лет, а не «всего десять» – это нормальное чинопроизводство без всякой протекции. Но, разумеется, при ревностной службе. Ах да, потом Екатерина II пожаловала ему колоссальные земельные владения в Крыму, именным указом пожаловала титул Таврического, возвела в генерал-фельдмаршалы. «И ведь было за что, даже забыв про его фаворитство», – пишет автор эссе. Но фаворитство его не забывает, оставляя в качестве «всеобъемлющей формулы» даже в оценке «деяний» его.
Ну сыграл решающую роль в присоединении Крыма; ну основал города Екатеринослав, Херсон, Севастополь, Николаев; ну заложил основы и начал строительство Кавказской кордонной линии. Но ведь всё равно фаворит… Невольно задаёшься вопросом: как могли наши выдающиеся предшественники сочетать и «любовные похождения», и великие дела? У толкователей же их жизни на первом плане – «любовные похождения», а дела так себе, потом, как мало что значащее. А есть ли «дела», у тех, кто сегодня тотально на виду, благодаря лукавству средств массовой информации, то чаще – одни «похождения» или мошенничество всех видов. С такими ли исключительно «постельными» представлениями о жизни человеческой судить о великих людях, плодами деятельности которых мы сегодня пользуемся?..
Откликаясь на историю полка В.Г. Толстова, П. Юдин писал, что «Хопёрцы не составляли самостоятельной единицы, не были ни Войском, ни полком, а всецело входили в состав Войска Донского, как и прочие казаки Бузулукские, Медведицкие, Урюпинские и т.д., именовавшиеся по тем урочищам, где они имели свои постоянные становища». Они стали полком в 1775 году и сразу же началось их водворение на Кавказ. Собственно, для этого полк по замыслу Г.А. Потемкина, и создавался. Но тут оказалось, что хопёрцы, столь настойчиво добивавшиеся создания пятисотенного казачьего полка, следовать на Кавказ не особенно хотели. В связи с этим П. Юдин писал: «Описывая переселения казаков на Кавказ, автор не коснулся очень важных и интересных эпизодов – возникновения среди хопёрцев волнения, побегов некоторых из них, наказания и крутые расправы с ними их первого командира полка Устинова, этого изверга рода человеческого и кровопийцы казачьего, которого, однако, Г. Толстов рекомендует, как заботливого начальника. Нет сомнения, что ему эти сведения не были известны, так как он пользовался документами, извлечёнными Дмитренкой из Московского архива иностранных дел, тогда как указываемые мною материалы хранятся в Астраханском архиве».
Всё это к тому, что докавказская жизнь хопёрцев не отличалась какими-то воинскими подвигами, в том числе и в Петровских походах на Азов. И уж тем более, нельзя её назвать служением престолу и Отечеству. Не назовешь же их, по сути, поголовное участие в Булавинском бунте таким высокопарным служением. С 1777 года возможность такого служения на Кавказе, вновь созданному Хопёрскому полку, предоставлялась. Наряду с другими полками, переселявшихся туда и создаваемых там имперской властью.
Как уже видели, установление и настойчиво навязываемое старшинство в Кубанском казачьем войске по Хопёрскому полку действительно ставило историков в двусмысленное положение. Излагая историю Кубанского войска, они не могли, вместе с тем, не пускаться в давнюю историю хопёрцев, ещё до создания Хопёрского полка, никакой преемственностью с кубанцами не связанной, так как к тому времени официально было провозглашено 200-летие Кубанского казачьего войска, которому исполнялось 100 лет. Не избежал этого и такой известный и основательный историк как П.П. Короленко. Но, в конце концов, он развенчивает миф о старшинстве хопёрцев и подчёркивает заслуги и соответственно и большие претензии на первенство в Кубанском войске черноморцев: «Главный вывод, к которому приходит П.П. Короленко, это отсутствие преемственности основателей Новохопёрской крепости с прежними (до 1708 г.) поселенцами Хопра, поскольку те, кто стал причисляться к ним в 1717 г. и в последующие годы, являли собой выходцев из соседней Тамбовшины, черкасов и посадских людей» (В.А. Колесников). Но в таком случае 1696 год здесь вообще не при чём, как не имеющий никакого отношения к кубанцам. Историк в нём возобладал над иными соображениями и внешними влияниями, что удавалось далеко не многим исследователям как в прошлом, так и теперь.
Петр Ткаченко
«История не терпит суесловья. Часть восьмая»

Петр Ткаченко
История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7
Тут же на этом казачьем фестивале кубанский диалект называли балачкой, а не балакачкой, как он в действительности называется. Но балачка это украинское слово, обозначающее слух, сплетню. Кубанцы же выработали своё название диалекта – балакачка. И когда организаторам задавали вопрос о том, что есть же словари кубанского диалекта, кстати, там же, на фестивале распространявшиеся, они отвечали: мы об этом знаем, но не все с этим согласны. Разумеется, с этим не согласны невменяемые украинофилы, которых на Кубани, видимо, немало. Но в таком случае это – Казачий фестиваль или антиказачий, если судить не по его красочной форме, и масштабу привлечения его участников, а по сути пропагандируемых на нём идей, понятий и представлений? Представлений, далёких и от истории, и от традиционной народной культуры.
Не могу сказать, что это особенность только этого фестиваля. Это – общая беда, некое недоброе поветрие, уже давно преобладающее в нашем обществе: приоритет формы, лицедейства, имитации, шумихи и успеха, которые не идут впрок, над содержанием и смыслами… Но в таком случае возвращение к традиционным ценностям невозможно… Внешний блеск и нищета содержания, историческая неправда не могут возвратить нас к традиционным ценностям.
В связи с этим если – возникает вопрос, то такого порядка: это делается по незнанию или умышленно? Если по незнанию, то такие необразованные люди не должны заниматься этим. А если умышленно, то тут возникает совсем иная мера ответственности, равная той, какая предъявляется теперь иноагентам… Так же, кстати, как и издателям явно коллаборантской литературы, выдавая её за патриотизм казачества.
И только почти шестьдесят лет спустя после Азовского сидения 1637 – 1642 годов, в 1695–1696 годах, царь Пётр I предпринимает свои походы на Азов: армией и всем войском Донским: «По наступлении весны 1695 года одна армия изо ста тысяч человек пошла под предводительством генерала Шереметева по Днепру… другая из тридцати одной тысячи и сухопутно, и водою всего войска Донского под командою боярина Алексея Семёновича Шеина в присутствии Государя 4 июля осадила Азов…» (А. Попов).
Но взять Азов в тот год не удалось. Осада была отложена на 1696 год. В начале весны всё войско на этот раз состояло из 124193 человек, кроме 3997 матросов. Опять-таки, без какого-либо особого выделения хопёрцев, считавшихся донскими казаками, которые таковыми в действительности и были. По прибытии сухопутной армии, атака на Азов началась 16 мая. И только 17 июня город был окружён со всех сторон.
По повелению Государя 29 июня главнокомандующий А.С. Шеин послал коменданту Азова увещевательное письмо о сдаче Азова с выпуском войск и жителей, куда хотят, с оружием и пожитками. Комендант Азова, не находя ниоткуда себе помощи, приказал выставить знак к переговорам: «Турки в 6 часу дня чрез посылку от себя, город россиянам к сдаче объявили, который с отпуском всего гарнизона, 19 июля отдан… Находившихся там 200 человек турков оборвали казаки, и отправили их в степь в серых кафтанах с мешками, в которые дано было им столько хлеба, чтобы степь перейти, а сами с жёнами и с детьми в оную вошли. Азовский же гарнизон с жёнами и с детьми отпущен был на 18 стругах, под препровождением двух российских галер, до реки Кагальника» (А. Ригельман).
О том же писал и А. Попов, существенно уточняя обстоятельства взятия Азова войсками Петра I: «По выпуске 20 числа турецкого гарнизона 3700, граждан 3900, и жён и детей 2000 на 18 бударах рекою Доном до Кагальника; турецкий комендант, оставшийся в Азове для его сдачи встретил в воротах Монарха с главнокомандующим, чиновниками и войском и став на колени, поднёс на серебряном блюде ключ от города». Как писал полковой историк В.Г. Толстов, «19-го июля турки, в числе более 3-х тысяч, покинули Азов, и русские полки вступили в город».
Ну а потом Пётр I, как и подобает «прогрессивному» монарху, придал этому событию, как сказали бы сегодня, соответствующее информационное обеспечение, как грандиозной военной победы: «Его Величество, царь Пётр Алексеевич, для объявления всему государству своему о счастливой победе над Азовом и о взятии онаго, так же и о храбрых подвигах, при том оказанных малороссийскими и донскими казаками с их начальниками, писал во все места и к Московскому Патриарху Адриану, и тем их прославя, обнародовал». (А. Ригельман). И заметим, опять-таки говорится о подвигах малороссийских и донских казаков и их начальников, но ничего не говорится о казаках хопёрских… Конечно и хопёрцы принимали участие в Азовских походах, тем более, что их городки находились на прямом пути к Азову, но какой-то значительной роли в них играть они не могли, так как ко времени этих походов, то есть «к 1695 году, на Хопре существовали уже несколько казачьих городков и станиц, хотя с незначительным на первых порах народонаселением» (В.Г. Толстов).
Но и это взятие Азова войсками Петра I оказалось не окончательным. Его пришлось вернуть туркам по Прутскому договору: «После передачи туркам Азова, по Прутскому договору, наша южная окраина вновь стала открытою для вторжения в наши пределы кубанских и крымских татар, набеги на Дон, в особенности с 1713 года, сделались более частыми» (В.Г. Толстов). И только в 1774 году по Куйчук-Кайнарджинскому мирному трактату с Турцией Азов и азовское побережье отошли к России, что позволило князю Г.А. Потёмкину приступить к созданию Азово-Моздокской линии – единой непрерывной цепи укреплений, защищающей наши южные рубежи.
Этот малый экскурс в историю в нашем повествовании об истории Кубанского казачьего войска совершенно необходим, так как позволяет уточнять его истинную историю, а также пресечь сторонние попытки хопёрской историографией подменять историографию собственно Кубанского казачьего войска, по сути, попытку кубанцев сделать хопёрцами, что само по себе и странно, и ненаучно, так как недоказуемо никакими историческими фактами.
Петр ТКАЧЕНКО
Продолжение следует
Шубка из чёрного кролика

Самым чудесным воспоминанием из детства Марины остаётся вечерний поезд, везущий её с мамой к родне в станицу. Ехать недолго – два часа, но, чем чаще стучат колеса и быстрее мелькают телеграфные столбы, тем скорее замирает, а потом и вовсе останавливается время. Кипучая по натуре девочка Марина успевает заскучать от зимнего пейзажа, быстро погружающегося в заоконные сумерки, пожевать куриную ногу и варёное яйцо – набор русского путешественника - и осторожно открыть и закрыть крышку резной шкатулки, которую сунул ей в руки неизвестно откуда взявшийся и непонятно мычащий дядька в мокрой от снега фуфайке.
– Он немой… – шепчет мама испуганной Марине, возвращает товар коробейнику и отрицательно качает головой, давая понять, что покупать не будет.
Свет в вагоне становится ярче, экран окна тускнеет, глаза слипаются, и Марина, уже не борясь с собой, прислоняется к теплому маминому плечу и начинает падать с высокого трамплина в ярко-синее море...
– Приехали! – на самом интересном месте тормошит её мама и сует в руки шапку и варежки.
-А шубка? – волнуется Марина.
-Да вон она висит, - кивает головой мама в сторону вешалки, где чужая одежда заслоняет главную красоту купе, - новую, только в воскресенье купленную на рынке, по-кубански толчке - чёрную шубку из блестящего кроличьего меха.
Мама снимает красоту с вешалки, бросает Марине, та ловит её, прижимает к себе, нюхает как букет цветов и начинает суетливо продевать руки в рукава.
- Не спеши, мы ещё не приехали, зажаришься, - смеётся мама и помогает выровнять застрявшую полу и огладить дочкину спину, уже покрытую ласковым мехом.
- Ладно, шапку потом наденешь, - сияет улыбкой мама, видя, как счастлива от обновки дочка.
…По звенящим от мороза подножкам вагона полусонная Марина спускается на землю и окончательно просыпается от холода, пробравшегося под теплейший наряд из меха.
О гринписе тогда еще не слышали, а кроликов всё равно жалели. Вот и Марина думает о том, что если бы её кролик существовал сейчас не в виде шубы, а был настоящим, живым зверьком, он бы тоже окоченел на таком морозе.
Но вот быстро, почти бегом, Марина спускается с крутой
насыпи по льдистой тропинке, и разогревается, и забывает свою печаль про кролика…
Уже в радостном возбуждении рассматривает она открывающийся в свете яркой луны пейзаж. Избушки, утопающие в снегах, кажутся ей сказочными пряничными домиками. Их окошки, как разноцветные леденцы, весело перемигиваются розовым, желтым, голубым светом. Из труб вьётся дымок, и тишина стоит такая, что скрип снега под ногами прохожих будит всех местных дворняг, которые рады случаю огласить округу кто хриплым лаем, кто тонким поскуливанием.
Марине кажется, что идут они долго и, нехотя нанося ущерб репутации любимой шубки, тоже начинает поскуливать:
-Ма-а-ам, скоро?
-Неужели замерзла? – усмехается мама, не сразу решившаяся на необычную для южных краёв покупку. Но дочка так горячо упрашивала, что мама убедила сама себя:
- Ну ладно, зима всё же настанет, глядишь, и шуба пригодится. Если только ты в неё влезешь. Рукава-то и сейчас коротковаты...
Покупки в те времена делали осмотрительно: пусть рукава лучше длинными будут, на вырост. Поэтому сразу во время примерки их подвернули, - не очень красиво и удобно, зато экономно! Своенравная Марина на этот раз не возражала — мама и продавщица делают, значит, так и надо. Вот и перед выходом из вагона рукава пришлось подвернуть, иначе за поручни не удержаться.
...Обе порядком замерзли, пока добрались до дома тёти Кати, маминой сестры. Здесь тепло, и почему-то всегда полумрак. Может быть потому, что, как говорит тетя Катя, напряжение упало, а может для того, чтобы ярче мерцали угли сквозь приоткрытую дверцу в печи.
Это в средней России печь в избе большая и высокая, под потолок, и на ней можно лежать, как Илья Муромец. А на юге она низенькая, маленькая. И называется не печью, а плитой. На плите у тети Кати постоянно что-то кипит – то чайник, то кастрюля с борщом, то чан с водой.
– Раздевайтесь быстрее, а то холоду напустите, – весело командует хозяйка.
Она всегда радуется маме, потому что “Нюрка”, как она называет её – самая из четырех сестер дальняя, а значит, любимая, и поводов для ссор не даёт, не то, что другие сёстры - соседки.
Пока Марина разматывает мохнатый шарф, бережно определяет черного кролика на крючок, мама уже разделась и убежала в дальнюю комнату, к своей маме, Марининой бабушке.
Бабушке Евдокии почти сто лет, и она редко встает с кровати. Марина её не очень любит, да и дома есть у неё своя бабушка – с руками мягкими, как сдобные булочки. Прасковья Анисимовна, все зовут её просто Анисимовной, приехала из средней России на Кубань, здесь вынянчила Марину с пеленок, да так и осталась жить в хозяйском доме. Одно время засобиралась домой, к родне. Уехала навсегда, а вернулась через неделю.
– Не могу. У них там и козы, и телята, – всё в доме!
– Отвыкла от кацапов! – с довольным видом сказал отец. А мама добавила: – Оставайся, мы тебя не гоним.
Много позже, когда «дитё» уже и школу окончило, отец построил няне времянку, то есть маленький домик на соседней улице. И про то, как жила она дальше, Марина, которую уже захлестнула взрослая жизнь, институт, любови и дружбы, не интересовалась. Анисимовну постигла участь многих бабушек, ставших неинтересными взрослым внукам.
– Давайте к столу, – позвала между тем тётя Катя. Она всегда угощала гостей лапшой из куриных потрохов. Вкуснее Марина в жизни ничего не ела, – так и стоит перед глазами тарелка с золотистым бульоном, в котором плавают тонкие полоски теста.
– Нет, сначала Ленку выкупаем и сами с дороги умоемся! – не приняла предложение сестры мама.
– Ну, так, так так, – легко согласилась тетя Катя и вытащила из деревянной люльки маленькое запеленутое существо с крошечной лысой головкой. Оно и плакать-то не умело, а только кряхтело и попискивало.
– Недоношенная, потому такая и маленькая, – обронила как-то мама в разговоре с соседкой. Таинственное слово долго не давало Марине покоя. Про себя она точно знала, что её нашли под елкой в Новый год, подружку Светку – на огороде в капусте. А где водятся такие некрасивые младенцы как её двоюродная сестра Ленка – тайна, ключ к которой Марина тщетно пыталась найти повсюду, - прислушиваясь ко взрослым разговорам, вглядываясь в страшную фотографию из семейного альбома: гроб, а вокруг стоит много людей, в том числе тетя Катя, мама с папой, дядя Вася и тетя Надя... По низу фотографии идёт белая надпись кудрявым почерком: “21 февраля 1954 года”.
“Ленка тоже родилась в 1954 году”, – соображала Марина, но что связывало эти даты, понять, как ни силилась, не могла.
… Для купания принесли из коридора цинковую ванночку с помятыми боками, налили в нее кипяток и вывалили целое ведро снега, который тут же обмяк и растаял.
– Марганца положить? – озабоченно спросила мама.
– Давай, а то я без тебя всегда боюсь переборщить, – обрадовалась помощнице тетя Катя.
– Смотрите, дитё не сварите! – раздался из спальни зычный голос бабушки Евдокии.
– А то без вас не знаем! – беззлобно огрызнулась тетя Катя, ловко завернула крошечное тельце в простынку и бережно погрузила его в ванночку.
Мама стала набирать воду в стеклянную банку и осторожно лить на простынку. Тельце вздрогнуло, смешно захрюкало и, кажется, даже заулыбалось.
После купания мама взяла теплую бутылочку, прижала к себе малышку, которая сначала захлебывалась молоком, а потом затихла в чмокающем блаженстве.
– Чего стоишь? – шепотом, чтобы не спугнуть Ленку, скомандовала Марине мама. – Иди умойся, пока вода не остыла.
Марина наклонилась над корытом, погрузила в воду руки,
и вдруг заметила, что они стали желтого цвета.
– Фу! – отпрянула она от ванночки. – Не буду я в Ленкиных какашках мыться!
- Да это не какашки, это марганец, - рассмеялась мама, к ней присоединились и тётя Катя, и даже бабушка из соседней комнаты.
– Ну не умывайся, – великодушно разрешила мама. – Ложись спать.
Тетя Катя взбила подушки, наполненные нежнейшим пухом, Марина улеглась на воздушную перину и уже сквозь начало сладкого сна слушала обрывки взрослых разговоров:
– Поддувало закрой, утром золу выгребем...
– А Надька приходила?
– Завтра мать будем купать.
– Да купали же недавно...
Последнее, что Марина слышала, был мамин шепот:
– Уже спят. И та и другая. Хоть бы ночь спокойно прошла...
...Много позже подросшая Ленка присутствовала где-то на обочине Марининой жизни. То плавала как рыбка в речке, в которой Марина с одноклассниками плескались всё лето, то проявлялась на фоне редкостной снежной зимы чёрным пятном в виде кроличьей шубки, доставшейся ей по наследству. Мама долго уговаривала Марину рассудить здраво и расстаться с любимицей, превратившейся в меховую куртку.
Потом сестра проявилась уже отчетливее. Она поступила в городское медучилище, и, несмотря на законное место в общежитии, жила в доме у “тётечки Анечки”. Так она называла Маринину маму, и Марине это не нравилось. «Подлиза!» – злилась Марина, скрепя сердцем признавая право сестры на мамину любовь и хлеб-соль. Хотя сытый дом начальника, каким в ту пору был Маринин отец, не мог сравниться ни с домом тёти Кати, ни с домами других маминых сестёр.
...Много лет спустя как-то заговорили с коллегами о детстве. Марина с недоумением слушала, как мужчины вспоминают кто кусочек сала, кто сковородку жареной картошки…
Их же стол время от времени буквально ломился от яств.
Маринина мама слыла лучшей кулинаркой в станице, а в те времена было модно встречать и угощать на дому делегации, прибывающие в колхоз с загадочной целью обмена опытом. Прибывали и чехи, и болгары, и венгры, и всех их надо было не просто накормить в казённой столовой, а удивить, как богато и красиво живёт советский народ.
…С утра пораньше в дом завозились мясо, помидоры с поля, арбузы с бахчи, и хозяйка засучивала рукава...
Кроме этой общественной нагрузки ей приходилось исполнять ещё и роль радушной хозяйки, привечающей родню со всех концов страны.
Каждое лето москвичи, ленинградцы, пермяки ехали на юг и, не доезжая до моря, оседали в гостях у тёти Ани. И за нехваткой места в доме ночевали в палатках, разбитых прямо посреди двора.
Так что Марине её детство казалось нескончаемым многолюдным праздником. А то, что мама выбивалась из сил, обслуживая ораву гостей, она поняла много позднее.
- Бедная мама! – не без доли ехидства сочувствовала она ей через много лет. – Как ты всё это выдерживала?
И с удовольствием прокручивала перед старушкой калейдоскоп лиц, растворившихся во времени и пространстве. - Хоть бы открытку тебе кто по старой памяти прислал, о здоровье справился!
Мама не принимала её иронии. Она боготворила родню и не жалела для неё ни времени, ни сил, ни денег.
Вот и Ленка благополучно повзрослела под её крылом, получила диплом медсестры и сразу же выскочила замуж за свежего лейтенантика - бывшего курсанта военного училища.
- Любовь – не вздохи на скамейке и не прогулки при луне, - прочувствованно говорила Марина тост в виде стихов на свадьбе. Хотя брак этот в душе не одобряла.
Рядом с сестрой – яркой сочной блондинкой - жених выглядел бледным заморышем.
Что не помешало, впрочем, чете молодых дружно жить -поживать и добра наживать.
С последнего места службы Олега, из Монголии, молодожены вывезли столько добра, что оно с трудом поместилось в железнодорожный контейнер.
– Я же там в медсанчасти работала, а торговая база рядом, вот мне и перепадал дефицит, – хвалилась Ленка.
В супружестве и за границей она ещё больше побелела, раздобрела, щеголяла в красном кожаном пальто, лаковых сапогах на платформе и сводила мужчин с ума своими зелеными русалочьими глазами.
…Обычно долгое отсутствие отрезает человеку путь к обустройству на старом месте. Ленка же, теперь представлявшаяся Алёной, вошла в их перенаселённый южный городок как нож в масло.
Без сожаления бросив медицину, «села на дефицит», то есть стала за прилавок ювелирного отдела универмага, и прекрасные очи её от блеска бриллиантов зажглись ещё ярче.
Сначала Марина надеялась, что сестра предложит и ей золотую вещичку, потом намекнула ей сама. Но сестра как хорошая актриса выдержала длинную паузу и неохотно ответила:
- Ну… надо подумать. У нас ведь всё горком контролирует…
Марина ушла от нее обиженной. Причём тут горком? Неужели Ленка до сих пор не может простить ей несчастной шубки, которую ей пришлось донашивать за сестрой?
Но разве Марина виновата в том, что мир так устроен: у кого щи жидкие, у кого жемчуг мелкий?
Кстати, кроме вожделенного золотого колечка был у Марины ещё один, уже не связанный с сестрой, повод для зависти. Тянулся он из далёкого детства, но волновал до сих пор.
Давным-давно их сосед-полковник вывез из послевоенной Германии вместе с коврами, картинами и кружевными комбинациями, в которых, как в вечерних платьях, форсила его жена, фарфоровый кукольный сервиз. Крошечные чашечки с золотым ободком и нежной картинкой на тонкой стенке так запали Марине в душу, что спустя много лет, выбирая тему для диссертации, она остановилась на немецком романтизме. А коллегам по кафедре объявила, что нашла разгадку странного заявления Достоевского о красоте, которая спасет мир.
– Русский мир, – вот что хотел сказать классик. Ведь чем Россия отличается от Европы? Отсутствием вкуса! Отсюда и некрасивая одежда, и неустроенный быт. И если вымыть мутные окна, снять с наших женщин затрапезные байковые халаты...
– То наступит царствие небесное, – закончил за неё преподаватель философии.
– Да ну вас! – махнула рукой спорщица и рассмеялась вместе со всеми. Ведь и её мать до сих пор придерживалась спартанских взглядов и ни за что не хотела расстаться с фанерной тумбочкой и давно вышедшим из моды абажуром.
У них в доме никогда не было ни красивой мебели, ни посуды. Как, впрочем, и в доме тёти Кати, и всех сестёр. Интересно, страдала ли от этого Ленка? Наверняка. Поэтому теперь навёрстывает упущенное, лечит детские травмы. Одевается как картинка, чтобы старшая сестра, в распоряжении которой и сейчас есть только заурядный гардероб, а в детстве – разве что пресловутая шубка, жила и завидовала ей, такой красивой и благополучной.
Увы, но затмить сияние ленкиных бриллиантов Марине не удалось даже научной карьерой, - защитой выстраданной диссертации.
«К чему книжная мудрость, если встречают все-таки по одежке? – маялась она, понимая, что неуклонно превращается в синий чулок. “Когда это со мной началось? - пыталась определить она. – Когда развелась с мужем – хорошим, но сильно пьющим человеком? Или когда появилось наслаждение от мелкой пакости – завалить на зачете и довести до слёз смазливую первокурсницу?”
…Утешение в виде колечка ей все же досталось. Совсем, конечно, не такое, о каком мечталось. Вместо изящного, с маленьким алмазным глазком, Марина получила массивный перстень с мутным желтым камнем.
– Так и хочется разрезать и гной выдавить! – пошутил остряк коллега. А еще в кавалеры набивался!
…Жизнь между тем шла своим чередом.
Ленкин лейтенант дослужился до капитана, их дочь Татьяна, названная в честь покойной бабушки -долгожительницы, поступила в торговый техникум. Марина жила с дочкой и старенькой мамой, проводившей в последний путь и мужа, и всех сестер, включая любимую тётю Катю.
– Куда я к себе мать возьму? В город, что ли? – отбивала Ленка советы старшей сестры. – Она у меня боевая, сто лет проживет. Сколько было бабке Татьяне? Сто? Нет, сто два года! Наша порода – долгожители! – рокотала Ленка, оглядывая с некоторым сомнением невзрачную фигуру сестры.
- И что вы все привязались – возьми, возьми… А личная жизнь? Вон сейчас Олег в командировке, Татьяна на практике, а я – женщина свободная, кра-а-сивая. Ну, тебе этого не понять, – щелкнула она Марину, как та её в детстве, по носу.
…Тетя Катя прожила восемьдесят лет и умерла от инсульта.
Ленка устроила матери пышные проводы, громко, как и положено, рыдала над гробом, и старушки, набежавшие со всей станицы как в театр на представление, остались ею довольны.
– Много читаешь, – уже через неделю выслушивала Марина нотацию от сестры. – Все мозги высохнут!
– Да... – виновато соглашалась Марина. – Во многой мудрости много печали.
– Чего? Ты что, и в церкву ходишь?
– Да нет, цитирую... – оправдывалась Марина.
– А... Ну-ну... – снисходительно роняла сестра: она уже давно чувствовала себя старшей.
Марина смотрела ей вслед и спрашивала себя: “Так кто из нас в какашках, а кто в шоколаде?”, пыталась разозлиться, а на самом деле любовалась и восхищалась родной красавицей.
“А всё гены, будь они неладны! Сколько ни проповедуй родство по духу, а кровь есть кровь!”
...А еще через год красавица вдруг попала в больницу.
– Поезжай, узнай, что с ней, – забеспокоилась мама. – Что-то у меня душа болит.
– Да что с ней случится, она же крепкая, как орех, – успокаивала мать Марина, чувствуя, как тревога подступает и к её сердцу.
Когда ей разрешили пройти в палату, она с трудом разглядела на подушке бледное личико, затерявшееся среди толстого слоя бинтов.
– Полюбуйся на меня: синяки под глазами, черепушка го-лая, рука не работает... – слёз в глазах сестры не было, зато её муж, как обиженный ребенок, тихо ронял их у окна.
– Ничего, зайчик, крепись. Ты у нас сильная... Марина растерялась, – впервые, за исключением детства, она видела сестру такой беспомощной.
Елену, ещё очень слабую, выписали из больницы только через три месяца. Еще полгода она упорно занималась реабилитацией, разрабатывая парализованные конечности. Наконец они ожили, Елене дали инвалидность, и она... засобиралась на работу.
– Ты что, с ума сошла? – кричала ей при молчаливой поддержке зятя Марина. – Какая работа! Тебе беречь себя надо!
– Ну да, буду я дома рассиживаться! Да на мое золотое место знаешь сколько охотников? А семью кто кормить будет? Олег, что ли, со своего оклада денежного содержания?
Елена разошлась не на шутку, а нервничать ей противопоказано, поэтому сестра сдалась.
…Она опять ушла в свой серебряный век, в свою тихую гавань с полупустыми залами библиотек.
А еще через год позвонил Олег и, заглатывая слова, стал говорить что-то о родстве крови и души, о судьбе и Богом посланных испытаниях...
– Ты что, выпил? – догадалась Марина. – А по какому такому поводу? И как на это смотрит моя строгая сестрица?
– Леночка, - всхлипнул собеседник, - в больнице!
- Как? Опять?
У Марины сжалось сердце. Ничего вразумительного не добившись от раскисшего мужика, она набрала номер ординаторской хирургии и получила страшное подтверждение: опухоль вернулась. Грядёт ещё одна операция.
…На этот раз Елена выкарабкивалась тяжелее. Почти отнялись рука и нога, долго не восстанавливалась речь. Даже когда стала вставать и ходить на костылях, двигалась осторожно, боязливо, как будто боялась расплескать чашу с драгоценной влагой.
Лишь год спустя изумрудные глаза её очистились от мутной пелены, нанесённой физической болью. Во взгляде появилась привычная твердость, лишь изредка разрушаемая сомнением. Марина чувствовала: в Ленке поселился страх, и этот страх она, как ни старается, победить не может.
– Теперь всё тяжёлое позади, Ленуська, мы с тобой долгожители, вспомни, надо мужаться и жить – попыталась как-то Марина обнять и приласкать сестру, но когда та мягко отстранилась, поняла, что жалость она и в таком состоянии от неё не принимает.
…Время шло, и тихой сапой наводило в человеческих жизнях свой порядок. Елена, теперь уже почти здоровая, наверняка победила свою болезнь, тьфу-тьфу-тьфу. Это магическое заклинание Марина с мамой употребляли во всех тревожных ситуациях, боясь сглазить малейший проблеск надежды.
Настораживало только то, что Ленка не рвалась, как раньше, на работу. Значит, её дух, который пал, не поднялся с новой надеждой. Но Марина всё же верила, что на этот раз бог пронесёт чашу страданий мимо сестры, мимо всех родных и близких, которые мучились и страдали вместе с ней.
Эта вера и отпустила Марину на волю. Она расслабилась и позволила себе уехать по делам в Москву. А вернувшись через две недели, с удивлением обнаружила, что на вокзале, чего раньше никогда не случалось, её встречают. Двоюродный брат Сергей без улыбки и особых приветствий молча взял чемодан, усадил её в машину и повез на своем “жигуленке” по утренним, еще свободным от пробок, улицам.
– Куда ты повернул? – удивилась Марина, – забыл, что я живу на Фестивальном?
– А я тебя не домой везу, а к Ленке.
Марина громко ахнула:
– Что, опять больница?
– Хуже. Авария. Ленка с Олегом ехали по Ростовской трассе, навстречу грузовик… лобовое столкновение… Олег выжил, в реанимации, она в морге. Вернее, уже дома. Сегодня похороны, хорошо, что ты успела.
…Захлебываясь слезами, Марина упала на гроб, обожглась жутким холодом еще недавно такого красивого, полного жизни тела и, не помня себя, заголосила, как все её тётки: “Что они с тобой сделали-и-и...”, вкладывая в это “они” и людей, и судьбу, и самого господа бога, который не мытьем, так катаньем забрал Ленку к себе.
Потом вместе с племянницей, ещё не осознавшей себя сиротой, они сидели у гроба и молчали. Откуда-то из другого мира доносились глухие разговоры о том, что когда покойницу везли с аварии, «добрые люди» сняли с нее бриллиантовое кольцо и серёжки - дочкино наследство... что муж теперь останется инвалидом, что гроб купили дорогой, не поскупились... Марина поглаживала сестру по холодной щеке и вспоминала страшную фотографию с белой надписью по чёрному фону “21 февраля 1954 г.”
В тот день хоронили дядю Николая, отца Елены, который её очень ждал, но так никогда и не увидел.
Полуживым он вернулся из воркутинского лагеря, куда был отправлен как предатель родины после немецкого плена. -Как будто он преступник, виноват, что на войне не убили, - рассказывала мама. – Признали предателем, из немецкого концлагеря отправили в другой лагерь. Он тогда ещё шутил: дали направление в санаторий. В этом санатории ему так поправили здоровье, что он дома всего год и прожил. Больной был, худой, скрюченный… А дочку как ждал! Как будто знал, что будет дочка!
Вот тогда, в лютом 54-м, раньше срока, недоношенной, и родилась Ленка, младенец-сирота, которая и плакать-то не умела, а только тихонько попискивала, как будто опасаясь криком нарушить хрупкое равновесие этого холодного безжалостного мира, куда она попала...
Хорошо, что у тёти Кати было много сестёр – они всем гуртом, как говорила мама, и вынянчили слабого, больного ребёнка, о котором даже врачи говорили: не жилец.
...После похорон Елены прошел год. Жизнь Марины не изменилась. Разве что дочка окончила институт и уехала в Москву, поступила в аспирантуру.
– Ты бы сходила к Олегу, как они с Танюшей там? – иногда принималась уговаривать Марину старенькая мама.
– Да что он, маленький, что ли? И не конченый инвалид, во всяком случае живой, в отличие от жены… – укоряла зятя Марина, для которой уход сестры стал и трагедией, и вечно зудящей душевной раной.
Как будто Ленка по собственному желанию нарушила правила их общей игры и вместо заслуженного поражения дала сестре карт-бланш, которым та всё равно не сумеет воспользоваться.
Конечно, Марина пошла, даже без предварительного звонка, в знакомую квартиру. И то, что увидела в ней, прежде такой богатой и ухоженной, ввергло её в уныние. Из комнат исчезли дорогая посуда и картины в золоченых рамах, а последний ковер, закатанный в трубу, уже стоял в прихожей в ожидании выноса.
– Всё у нас нормально. Я учусь, папа на инвалидной пенсии. Вот только по маме очень скучает, – неубедительно лепетала племянница Таня, бледным личиком похожая не на яркую мать, а на отца в период его жениховства.
– Вижу, как у вас нормально, – поджала губы Марина и тут же почувствовала себя стервозной училкой. Она опомнилась, обняла девочку, привлекла к себе и уже мягко произнесла:
– Как же ты тут одна, бедолага...
Таня тут же расплакалась, призналась, что она в отчаянии, что жалко папу, который очень горюет и поэтому пьет.
– Жалко-то жалко, но о тебе он думает? Что тебя надо на ноги ставить, он помнит?
Марина что-то говорила, гладила девочку по плечам, а сама думала о том, что мир держится на женщине. Уходит хозяйка – рушится дом. И сколько ещё таких слабаков, как Олег! “Да они все такие!” – вспомнила свой семейный опыт Марина и велела Тане собирать вещи.
– Я ещё вернусь, поговорю с папой, мы его не бросим, – пообещала она растерянной девочке. – А пока поживешь у нас. Места много, спокойно, бабушка будет рада.
...Когда из дома стало нечего выносить, Олег всё же образумился. Не без посторонней, как водится, помощи. Одинокая соседка, простая, но решительная дамочка, прибрала его к рукам, и он утешился, покруглел, раздобрел, иногда просил дочь, правда не очень настойчиво, вернуться домой, но та сначала называла его предателем, потом пообещала подумать, да так и думает до сих пор.
Она живет у Марины, ласково и привычно называет ее “тётечкой”, пользуется гардеробом сестры, осевшей в Москве, похоже, навсегда. Старенькая же бабушка от Таниного присутствия так воодушевилась, что даже ходить стала бойчее.
Взбодрилась и Марина, у неё как будто появился смысл жизни, а значит, прибавилось сил.
Глядя в зеленые, русалочьи глаза племяшки, день ото дня превращающейся из тощего котенка в пушистую красивую кошечку, она чувствует себя почти счастливой и представляет, как, любуясь дочерью, радовалась бы покойная сестра, о соперничестве с которой теперь и вспоминать грешно.
Марина гонит прочь тяжёлые воспоминания и пытается просто наслаждаться жизнью, пока родные живы, здоровы, вместе, рядом, и до них, если захотеть, можно дотронуться, обнять, почувствовать тепло близкого человека.
...Это ли не счастье?
Лариса Новосельская
Другой конец света

Об авторе:
Новосельская Лариса Ивановна живёт в Краснодаре. По профессии журналист. Работала главным редактором газет «Вечерний Краснодар» и «Улица Красная», директором книжного издательства. Публиковалась в журналах «Знамя», «Балтика», «Кубань», альманахе «Лёд и пламень», «Литературной газете».
Лауреат премии «Золотое перо Кубани», автор двух книг прозы - «Высокая желтая нота» и «Бедные мы, бедные». Номинант литературных премий имени Белкина (2010 г.) и Валентина Распутина (2018 г.) Член Союза российских писателей. До последнего времени была главой Представительства СРП в Краснодарском крае.
Когда к перрону подкатила яркая, сияющая огнями двухэтажная электричка, Павел восхищённо выдохнул:
-У-у-ух какая!
-Красивая? – с нескрываемой гордостью спросила Аня-тян, его персональный гид по Китаю.
-Ужасно красивая! – как мальчишка воскликнул он.
Аня прыснула в кулачок:
-Русские смешные! Сначала говорят «ужасно», а потом «красиво».
Только они вошли в новенький, ещё пахнувший свежей краской вагон, сели в кресла с высокими, покрытыми белыми кружевными накидками подголовниками, как Павел с нетерпеливым любопытством стал разглядывать пассажиров.
В чужой стране его интересовали не «колизеи», как он называл достопримечательности из туристических справочников, а люди — в каждом мире разные, и в чём-то очень схожие.
Сначала в глубину вагона его взгляд так и не проник, задержавшись на соседях напротив: улыбчивом молодом человеке, который по восточной традиции «любезность и церемонность» кивал ему всякий раз, когда Павел встречался с ним глазами, и такого же доброжелательного старика с удивительно моложавым, без морщин, лицом.
«Надо же! Другой конец света! А как похож!» - ахнул про себя Павел, и сердце его тут же зашлось от привычной боли.
«Тоска из фазы ремиссии переходит в стадию обострения», - попытался он справиться с собой, уже понимая, насколько это бесполезно.
…В облике его отца всегда сквозило что-то восточное. Узкий разрез карих, ярких глаз, свежая кожа, натянутая на скулах, крупные и крепкие зубы.
В последние годы жизни он сидел за калиткой на лавочке, обозревая прохожих, которые его узнавали и кланялись, привыкнув к этой одинокой и представительной фигуре как к части пейзажа, или в дальней комнате на диване, положив на лоб сухой носовой платок, якобы спасающий от головной боли. Когда его просили прилечь, отдохнуть, вот с такой же китайской улыбкой отвечал:
- На кладбище отдохну.
Павел до сих пор не понимает, как он мог спокойно проходить мимо этой величественной и беспомощной фигуры, усмехаться про себя, вспоминая книжные определения типа «осень патриарха», и не подсесть к отцу, не взять его за руку. Да хотя бы смочить холодной водой этот несчастный платок, который будет теперь укором сопровождать его до конца дней, как булгаковскую Фриду…
Аня-тян, заметив интерес туриста к соседям, добросовестно принялась объяснять, что это сын сопровождает отца в поездке к родственникам. Что стариков без эскорта отпускать в Китае не принято, даже бодрых и здоровых.
Её высокий голосок звучал заученно-ровно, она очень старалась правильно строить длинные фразы на чужом языке. Но Павел уже не слушал, охваченный знакомой тоской, которая накатывала как прилив, и с которой, он знал, тягаться бесполезно. Проще погрузиться в кручину и ждать, когда она, как морская вода скалистый берег, омоет все расщелины памяти. Может быть тогда станет легче.
А пока он задавал себе привычный вопрос: как он мог предательски бросить отца в тот день? Ведь старик, как ребёнок, надеялся на него и ждал!
- Сынок, когда же мы поедем на рыбалку? – голос отца прозвучал так рядом и ясно, что Павел даже вздрогнул и вопросительно посмотрел на старика-китайца. Тот, конечно, закивал головой и заулыбался.
Павел тоже растянул в улыбке губы, чувствуя, как к глазам неудержимо подступают слёзы.
…В тёмном загромождённом сарае, куда после похорон Павел старался не заглядывать, в самом углу, запутавшись лесками, стояли удочки, штук десять, не меньше. В былые времена отец, наводя порядок среди стамесок, отвёрток, рубанков и других орудий домашнего производства, выволакивал удочки на солнышко и долго мудрил над ними, прилаживая блесну или крючок, полируя удилища и латая суровыми нитками садки.
А потом наступало особое, воскресное утро… Ровно в пять часов сильные ласковые руки сгребали Павла вместе с одеялом и укладывали на заднее сиденье «Москвича».
Пока они ехали к речке, в село Красносельское, за окном светало, и тополя, бегущие вдоль дороги стройными рядами, из тревожно-чёрных превращались в нежно-зелёные, а потом, пронизанные первыми лучами солнца, светились изумрудами.
Павел и спал и не спал, и грезил, и бессвязно о чём-то думал, купаясь в рассеянно-туманном свете, уюте и зародышевом покое.
Через годы, когда, растревоженный взрослыми проблемами, он маялся в кровати без сна, усилием воли заставлял память, как объектив фотоаппарата, сфокусироваться на этой дороге и широкой спине отца, заслоняющей его от огромного тревожного мира.
И тут же чудесным образом успокаивался и, как будто защищённый крепостной стеной, засыпал, видя во сне розовое утро и рыжего мальчишку, стоявшего на обочине. Отец всегда останавливался и сажал его в машину, смешно называя хлопчиком.
Потом тут же, во сне, наступала ночь, и уже сам Павел яркими фарами своего «форда» высвечивал на обочине одинокую фигурку с поднятой рукой и, не снижая скорости, пролетал мимо. Сразу накатывала досада, и, как ни убеждал он себя, что время сейчас другое, в глубине души твёрдо знал, что отец бы так никогда не поступил, не оставил одинокого человека на пустынной дороге.
И Павел опять просыпался, и долго лежал, глядя в сереющее окно, и тянулся мыслями в прошлое.
…Улов, как правило, был невелик – пять-шесть карасиков. Прочую мелюзгу по совету отца он возвращал речке: пусть плывут, растут, живут!
О чём, кроме крючков и наживок разговаривали они в те зыбкие утра? Да и говорил, и слушал ли Павел тогда отца, или думал о своём, о важном?
К счастью, у отца, человека компанейского, даже в неурочный час на пустынном берегу находился собеседник. Из тумана, как правило, выныривал мужичок-рыбачок, сдергивал кепку с головы, здоровался и почтительно интересовался:
- Как жизнь, Иван Семёнович?
- Прошла! – радостно сообщал отец и, легко входя в роль закадычного друга, начинал балагурить:
- Ну как, Петрович, машинка работает?
Мужичок притворно возмущался:
Да ты что, партог, какая машинка? Да и Васильевич я, а не Петрович!
- А... ну да, Васильич – легко соглашался отец. И гнул свою линию:
- Так на семейном фронте как, воюешь?
- Отвоевался, скоро шестьдесят стукнет!
-Так ты же хлопчик по сравнению со мной!
И начинался разговор «за жизнь», который Павлу в ту пору был непонятен и неинтересен.
Это сейчас бы он, балбес, расспросил отца, из каких они вышли казаков, кто заколол штыком деда, охранявшего склад с колхозным зерном, что случилось с сестрой отца, угнанной в Германию. Но пока отец был жив, у него как будто и прошлого не было, одни только семейные анекдоты.
- Воевал на Малой земле? Так может и с Брежневым виделся?
Отец лукаво прищуривался и, хитро улыбаясь, подтверждал, что да, встречал в окопах дорогого Леонида Ильича.
А поскольку такие разговоры велись в момент застолья на День Победы, быстро их прекращал и затягивал любимую «Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета…», а гости с домочадцами не без удовольствия подхватывали: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою»!
Вот и все подвиги.
Но ведь откуда-то взялись ордена и медали, доверху заполнившие жестяную коробку из под печенья?
А глубокий шрам от осколка, на который Павел наткнулся, снаряжая отца в последний путь?
Он конечно видел орденские планки на выходном бостоновом пиджаке, встречал друзей-однополчан с иконостасами на всю грудь. Но это было всё равно, что смотреть кино или читать книжку: поучительно, местами интересно, но к тебе не имеет ни малейшего отношения.
Это уже потом, спустя годы, когда краеведы подарили ему книжку «Победители», Павел прочёл в ней, что отец с начала войны был комиссаром разведроты. Участвовал в битве за Кавказ, сражался на легендарной Малой Земле, освобождал Нальчик, Пятигорск, Минеральные Воды.
Что ещё он знал о прошлом отца? Про то, как неделю в кутузке отсидел, отец не распространялся, только отшучивался. А ведь дело было в сорок шестом, мог и в лагерь загреметь. Был бы человек, а дело найдётся...
Семейная легенда гласит, что якобы в одной компании, слегка подвыпив, отец подобрал к слову «конституция» саму собой напрашивающуюся рифму. Вот за эту немудрёную поэзию его и взяли той же ночью. Благо, стукачей всегда хватало.
Не зря же тот давний случай научил добродушного, доверчивого человека частенько повторять уже взрослому сыну:
- Не болтай! –и прикладывать палец к губам, как на старом плакате.
Нет, отец, конечно, не был бунтарем. И в коммунизм верил, как в бога. Кому сейчас расскажи, покрутят пальцем у виска и назовут блаженным. А ведь он уступил свою очередь на квартиру семье многодетного слесаря.
Павел помнит, как мать долго ворчала, что так и помрёт без ванны и центрального отопления. Ворчать ворчала, а сама заботилась о репутации мужа, пресекала его попытки подвести её до работы на служебной машине. Топала пешком три километра, упрямая!
Но это их выбор, их история. А история предательства Павла начинается вот с чего:
Отцу было под восемьдесят, когда его настиг страшный удар – его лишили водительских прав. Это его-то, который после рюмки за руль никогда не садился! А тут его верный «Москвич» смирно стоял на обочине возле дома, и какой-то ухарь въехал ему в багажник. Отец понял, что дело пахнет милицией и на свою голову вспомнил, что накануне принимал гостей...Он растерялся, и не нашёл ничего лучшего, как побежать домой и прополоскать рот «Шипром».
Потеряв «права», отец сдулся, как проколотый воздушный шарик. Он сдал до такой степени, что Павел испугался и пообещал выхлопотать в ГАИ возврат документов. Отец и верил, и не верил.
Конечно, не верил. Потому что когда сын соорудил ему на принтере искусную подделку, он повертел её в руках, вздохнул и положил в старую папку с пожелтевшими документами. А верного «Москвича» загнал в гараж. На вечную стоянку.
Лишившись свободы передвижения отец как будто растерял и добродушие, и энергию, и чувство юмора. Стал «невыездным», как горько шутил Павел, не понимая всей глубины отцовского горя и грядущей тяжести своей вины.
- Сынок, ты не собираешься на рыбалку? – делал отец заход накануне выходных.
- У меня заказ горит, какая рыбалка!? – отмахивался Павел.
Проходила ещё пара недель, отец терпеливо ждал, но смотрел умоляюще...
- Понимаешь, мы тут с ребятами в Домбай собрались. Так что подожди с рыбалкой, выберемся как-нибудь, я обещаю, - врал Павел и густо краснел.
-Хорошо, хорошо, - послушно соглашался отец. – Я подожду, куда мне спешить.
«Да мне, мне, дураку, надо было спешить! – казнился Павел, покачиваясь в мягкой электричке. Преданный китайский сын читал газету и время от времени что-то записывал в аккуратный блокнотик. Старик, сложив руки на толстой трости, дремал, и даже во сне уголки его сочных губ тянулись вверх, начиная улыбку.
...Став невыездным, отец вот так же сидел на уличной лавочке под вишней и улыбался всем прохожим, - знакомым и незнакомым.
Видит бог, Павел не думал его огорчать. Взболтнула жена. Отец позвонил, она и сообщила, что Паша с ребятами поехал на рыбалку.
И всё в тот день было хорошо; клёв, уха, шашлыки, местные барышни, разбавившие холостую компанию. Если бы не возвращение…
Он подъехал к родительскому дому в сумерках – сытый, довольный, в прекрасном настроении. И наткнулся на сидящего у калитки дремлющего отца. В соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, резиновых сапогах, в старой брезентовой куртке, - в полной экипировке для рыбалки.
Надеялся, вдруг сын вспомнит о старике, вдруг заедет? Вместо трости он сжимал в руках связку удочек. Даже во сне держал их так крепко, что побелели костяшки пальцев.
Павел круто развернулся и, не оглядываясь, побежал к машине, погоняя себя последними словами и утешаясь обещаниями, что
в следующее же воскресенье свозит отца на речку, возьмёт у соседа лодку. Найдёт самых толстых опарышей! Купит ему новую, дорогую удочку!
Но через неделю отцу уже не нужны были ни удочка, ни лодка, ни даже разговор с сыном...
После смерти отца Павел наконец удосужился открыть ту самую коробку из-под печенья, что стояла невостребованной в дальней комнате. И нашёл там орден Победы, ордена Красной звезды и Отечественной войны, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», медаль Жукова, юбилейные медали «30» и «50» лет Победы в Великой Отечественной войне. Вот он, оказывается, каким был, капитан Карабут!
Но высказать отцу своё восхищение Павел уже не мог. Опоздал.
…Электричка подкатила к перрону «маленького», всего на пять миллионов жителей, как сообщила Аня-тян, городу Суджоу.
Молодой попутчик аккуратно сложил газету и спрятал её в дипломат, старик открыл глаза и таким радостным, ясным взором оглядел мир, как будто видел его впервые.
- Подъём! – скомандовала Аня и, довольная своей лингвистической находкой, гордо посмотрела на Павла.
- Подъём, - вяло отозвался тот.
Их попутчики уже раскланялись и направились к выходу. Как вдруг Павел, будто помимо своей воли, неожиданно громко крикнул:
- Отец!
Взоры всех без исключения пассажиров обратились к нему.
Аня-тян встревожилась: она никогда не видела своего подопечного таким взволнованным.
А Павел, прорываясь сквозь толпу, уже летел к старику-китайцу, уже обнимал его и, что-то горячо и бессвязно бормоча, прижимал к себе. Тот, не сопротивляясь, предоставлял своё крепко сбитое тело для объятий. Его сын, замерев, с удивлением наблюдал эту сцену, на всякий случай улыбаясь.
Наконец Павел пришёл в себя и отпустил старика. Рядом уже стояла надёжная Аня-тян.
- Слово отец, - гордо продекламировала она, - символизирует человеческую мудрость и опыт. Вы поприветствовали этого немолодого человека как представителя всех старейшин на планете!
-Хорошо сформулировала, девочка, - похвалил Павел. - Именно как представителя. Лучше не скажешь.
А отец по перрону уходил от него всё дальше и дальше. Вот его небольшую плотную фигурку поглотила вокзальная толпа, вот он растворился в Поднебесной, вот он уже где-то на небесах…
- Прости, отец! Если слышишь меня, прости!
Лариса Новосельская
Краснодар-Шанхай
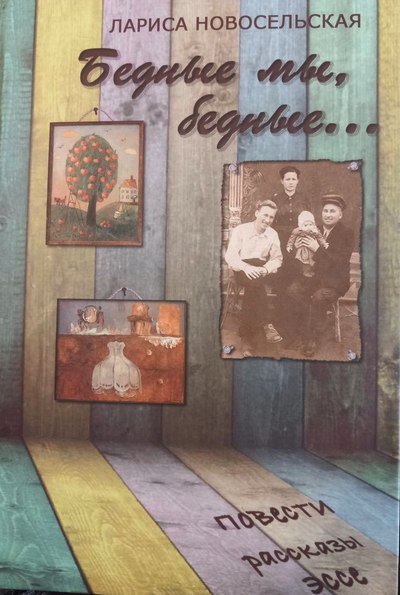
Впереди деревья!

Трамвай. Все как обычно. Ничто не предвещало интересного. Люди туда-сюда… Кондуктор настойчиво обилечивает сограждан. Бабушки, дедушки, школьники, студенты и просто люди снуют по салону. Вот девушка вошла на Октябрьской, не слишком старая, и внешне вполне интересная, с выдающимися бегающими глазами.
- Не местная, - подумал я, - по крайней мере, не знакомая с данным трамвайным маршрутом. Оглядываясь, наклоняясь и приседая, таки решила озадачить пассажиров вопросом:
- Впереди деревья, когда выходить?
У народа в салоне заметно увеличились глаза! У бабули с колесной сумкой поднялись брови. Удивление! Это было простое человеческое удивление! Деревья? Впереди? Какие деревья? Почему впереди? Может впереди и есть деревья. Наверняка есть. Их много и сзади, и по бокам. Но… как то странно!
- Остановка впереди деревья скоро? - вопросила девушка вторично.
Я умный, я догадался. Передерия. Так она называется, остановка-то. Остановка Передерия, названа в честь героя-артиллериста Степана Передерия. Очень созвучно с версией пассажирки.
- Может Передерия?- спросил я.
- Какая еще передерия. Впереди деревья, - настаивала девушка.
Тут подключились остальные пассажиры и громче всех старушка с колесницей:
- Нет здесь никаких деревьев, тут только Передерия!
И народ хором и распевно:
- Пе-ре-де-рия!!!
А девушка продолжала отстаивать свою версию.
- Мне четко сказали «впереди деревья»!
- Ну, и выходи на своих деревьях, - резко перешедшая на «ты» процедила сквозь оставшиеся зубы бабушка.
Трамвайный люд бросило в хохот. А ведь граждане хотели помочь. Искренне и бесплатно.
- Тоже мне, передерия какая-то, - насупившись высказалась девушка.
- Вам через одну, - вмешался кондуктор, - деревья ваши через одну.
Без всякого «спасибо» любительница растительности, Грета Тумберг, наверное, выскочила из трамвая. А народ под предводительством колесной старушки продолжал смеяться. По-доброму! Ха, это ж надо… деревья. Зеленый у нас город, Краснодар.
Анатолий Цукахин
Прислуга

В парикмахерской в воскресное утро было многолюдно. Традиция «выходных пап», высвободивших жен для походов по салонам, на удивление быстро прижилась в молодых семьях. Это новшество россиянки подсмотрели в зарубежных поездках.
С первой же минуты, в отражении зеркал, Валентина Витальевна поняла, что попала в клуб «богинь» озабоченных собой. К завтрашнему открытию художественной выставки она твердо решила постричься. Последние недели Валентина избегала смотреть на себя в зеркало и мужу в глаза, чувствуя себя не в форме. А потому настроилась, во что бы то ни стало дождаться пока мастер ее примет.
Бутики, парикмахерские, спа-салоны, с их нарочитой атмосферой гламура, прилипчивым обслуживающим персоналом коробили ее своим бутафорством, а их посетители казались людьми с низкой самооценкой.
В свои пятьдесят с хвостиком Валентина Витальевна ловила на себе взгляды прохожих, и не только мужчин. «Гранд-дама», так за глаза называли ее коллеги, покупала недорогие вещи на ходу, в переходах метро, в командировках, когда нужно было убить время. При этом выглядела всегда безупречно. Чувство стиля и внутренней гармонии были у нее врожденными. Потому, наверно, и профессию она выбрала соответствующую – искусствовед.
Все свободные деньги вместе с мужем, преподавателем истории средних веков, тратили они на книги по искусству и чувствовали себя в своей двухкомнатной квартире, как в замке, полном достойными именитыми гостями.
Здесь все свершалось по их заведенным обычаям. Живые – не книжные герои, случалось, бывали в их доме, оставляя после себя доброе эхо воспоминаний.
На черный день висели в супружеской спальне два подлинника живописных картин Ивана Айвазовского и Константина Богаевского, доставшиеся Валентине от бабки из Феодосии. Менять что-нибудь в своей устоявшейся жизни супруги суеверно боялись.
Разговор в парикмахерской зашел о домработницах. Посетительницы называли их по-разному, кто «домомучительницей», а кто «домоспасительницей». Женщины делились собственным опытом управления прислугой и давали советы, как с самого начала поставить себя, чтобы прислуга не села хозяевам на голову. Коротышка в комбинезоне, напоминавшая комплекцией и лохматой гривкой Карлсона, похвасталась тем, что говорит своей домработнице исключительно «вы», тем самым держит с ней дистанцию. Тренер по хатха-йоге призналась, что все ценные вещи в доме и документы держит в банке в специальной ячейке, чтобы быть спокойной. «А то придешь домой однажды, а чужие люди в собственную квартиру не пустят», - предостерегла она от излишней доверчивости. «А еще сельские девицы фильмов насмотрелись про Золушек и норовят глазки мужьям строить, так и выжидают, когда я за порог, чтобы на шею мужу повеситься. Как прислугу завела, так одна я путешествовать перестала»,- прошелестела губами неестественного размера особа неопределенного возраста.
По рассказам барышень, претендующих на элиту, выходило, что проку от прислуги немного, но без прислуги сегодня оставаться просто неприлично.
Валентина, слушала оживленную болтовню новых «аристократок» и невольно примеривала ситуации на себя. Представить, что чужая, незнакомая женщина в их отсутствие стирает их с мужем белье, постельные принадлежности, чистит сантехнику и наводит порядок в шкафу-купе, она не могла. Как не могла делиться с подругами подробностями интимной жизни. Праздно сидеть в квартире, когда в ней хозяйничает чужой человек, ей казалось еще более несносным. Вряд ли она смогла бы спокойно заниматься в это время своими делами, или смотреть телевизор. А уж представить, что ей придется выступать в роли хозяйки «Медной горы» и делать работнице замечания, отдавать указания вообще казалось ей гадким и неприемлемым. С облегчением Валентина покинула салон и барышень, озабоченных отношениями с прислугой, и заторопилась в булочную.
Было обеденное время, муж должен уже вернуться с прогулки с кокер-спаниелем Ларсом, который норовит в сырую погоду выпачкать стены в прихожей своей лохматой рыжей «юбкой».
«Эх, была бы у нас помощница, можно было не торопиться хотя бы в воскресенье, прийти к накрытому столу, лечь после обеда с книгой на диване, укутать колени клетчатым пледом и читать, читать, читать…», - подумала Валентина, разглядывая свою новую прическу в витрине хлебного магазина.
Через запыленное стекло видела она себя помолодевшей, невольно расправила плечи и укорила себя: «Жили до сих пор с Павликом без нянек и мамок, а теперь, когда дети выросли и разлетелись, стоит ли гнаться за модой и себя переделывать…»
Под магазином знакомая старушка интеллигентного вида продавала вязанные спицами носки. Видно было, что она из тех, кто и в крайней нужде просить милостыню не станет. Валентина купила, не торгуясь сразу 2 пары носков, хотя дома в картонной коробке из-под сапог лежало уже пар десять точно таких же новеньких ненадеванных. Давно она собиралась отнести носки и часть вещей в храм. «Вот и повод будет сходить вечером на службу», - вердо решила Валентина Витальевна . На самом деле, ее захлестнуло непреодолимое желание поскорее освободиться от ощущения раздражения к этим в сущности неглупым, но таким не похожим на нее молодым женщинам и восстановить в душе прежние мир и покой.
30 октября 2025 года
Вера Виноградова
«Образ»

«Обидно, Господи, до чего же обидно!» - думал Денис, лежа на спине в узкой лесополосе разграничивающей поле. Он попытался приподняться, но звук автоматной очереди вновь заставил его откинуться навзничь. «Вот так, по-дурацки наступить на мину, обидно!»
Даже не на саму мину, а на толстую ветку, что лежала на ней, и ведь чувствовал же что-то не так с этой палкой, но нет, торопился вперед. Он успел услышать сухой металлический щелчок и посмотреть вниз. В этот момент разум воспринимал все в ускоренном режиме. Он понял, что где-то сработал лепесток, но тело отреагировать так же быстро не успело. Раздался хлопок, он упал лицом вниз, прикрывая голову руками, перевернулся на спину, чувствуя жжение в ступне, и потерял сознание. В себя он пришел быстро, хотел посмотреть, как обстоит дело, но ни сесть ни тем более встать ситуация не позволяла. Стреляли, кажется, со всех сторон, он нащупал аптечку в подсумке, открыл ее наощупь, нашел жгут, бинт и задумался, как же перевязать рану в этих условиях и остановить кровотечение.
Солдатом он был опытным и тем обиднее попасть в столь бестолковую ситуацию. Хоть мина взорвалась чуть в стороне, ногу посекло. Своих рядом видно не было. Звать на помощь опасно, он решил подтянуть ногу к себе и наложить жгут ближе к ступне. Было ужасно неудобно, мешал автомат и бронежилет, да и боль давала о себе знать.
- Погоди милок, над ним склонился кудрявый черноволосый парень, совсем молодой с красным крестом на шевроне, - сейчас подсоблю.
- Ты откуда такой взялся,- прошептал Денис.
- Та местный я, с Мариуполя.
- Из греков что ли?
-Ага, - парень кивнул, переместившись к ноге
- Ты это, осторожнее там!
- Не боись, будешь как новенький.
- Ну да, - хмуро подумал Денис, с новеньким протезом, - но вслух сказал лишь – «Смотри, пули не слови тут из-за меня!»
Парень не ответил, он снимал с Дениса ботинок, разрезая его выуженными из санитарной сумки ножницами. Как не старался он быть аккуратным, а острая волна горячей боли поднялась от стопы до самого сердца. Денис охнул и вновь отключился.
Потом в полубессознательном состоянии он чувствовал, что его несут куда - то, везут в машине. Он ощущал тряску и слышал звук выстрелов, или это ему казалось? Точно он бы не сказал. Окончательно в себя пришел раненый в прифронтовом госпитале.
- Очнулся танцор? - к нему обращался сосед по палате, наголо бритый солдат с загипсованной рукой. Из гипса торчали устрашающего вида железяки, но весельчака это, кажется, совсем не смущало. Он улыбался щербатой улыбкой и держал в здоровой руке кружку с чаем, на тумбочке рядом лежал открытый пакет с мелкими сушками.
Денис осмотрелся, небольшая палата на три койки, одна пустовала. В окно заглядывало жгучее южное солнце, под потолком медленно вращались лопасти вентилятора. Смотреть на ногу он боялся. Что теперь? Месяцы восстановления, очередь на протез, попытки устроиться в гражданской жизни, пороги кабинетов, оформление пособия...
- Где я? - спросил он
- В госпитале, понятно дело, - парень улыбнулся и сделал большой глоток из кружки.
«Охота же пить ему чай в такую жару»,- подумал Денис.
- Чаю хочешь? Сейчас санитарка зайдет, попросим сварганить, она милая девушка, совсем молодая. Ты это, только клинья к ней не подбивай, я уж положил на нее глаз. Анечка, до того хороша, вот выпишут меня, мы стопудово распишемся.
- А госпиталь наш где, - перебил его Денис
- Да под Ростовом где-то, какая разница. Доктор сказал, что нога твоя заживет Да так, что ты, что хошь делать сможешь, хоть танцевать! Я ему говорю: « Он же на мине подорвался!» А он говорит: « Стопа на месте, значит, заживет, будет ваш танцор еще па танцевальные выписывать, заглядитесь!»
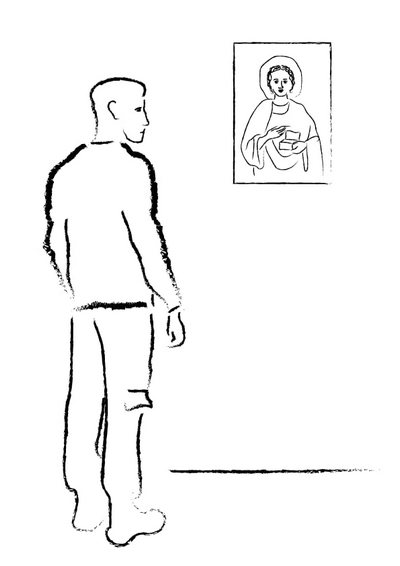 Денис сдернул с ноги одеяло стопа, закутанная в толщу бинтов, действительно была на месте.
Денис сдернул с ноги одеяло стопа, закутанная в толщу бинтов, действительно была на месте.
- А ты что, решил, что все, откромсали уже, - опять улыбнулся сосед.- Не боись, твой доктор - красавчик, говорят, он сам тебя из боя вынес, повезло тебе.
Денис не слушал его, откинувшись на подушки, он лежал и спокойно дышал. Он выздоровеет, и жизнь нормальная будет, работу найдет, из госпиталя он выпишется домой. По крайней мере, попросит, чтоб его в реабилитационный центр не отправляли, он же в курортном городе живет, вот там и долечится. Пока лето, тепло и море, может он еще успеет искупаться в этом сезоне.
Мир вдруг стал таким красивым, ему захотелось встать обнять соседа по палате, обнять всех. И доктора своего найти, это ж надо, вытащил его из-под огня и ногу сохранил!
- А он и говорит, повреждение мягких тканей, кость цела, - до него вновь долетел говор этого болтуна, – жаль, что уехал уже.
- Кто уехал, -вздрогнул Денис,-куда?
- Известное дело, на фронт, там таких как ты еще много. Но ты не переживай, он сказал вы еще увидитесь.
- Да разве они так делают? В смысле из госпиталя на поле боя и обратно, разве не положено им где-то в одном месте быть?
Бритоголовый замолчал впервые с о времени пробуждения Дениса, поставил кружку на тумбочку, задумался.
-Видать положено, - он подхватил из пакета горсть сушек и аппетитно захрустел, - но ты не волнуйся, сумеешь отблагодарить.
В коридоре послышались шаги.
- О, это наверно Анечка, ты это чтоб мне, -и он показал Денису кулак.
Денис закрыл глаза и улыбнулся.
Два месяца спустя он шел по залам небольшого музея приморского города в составе экскурсионной группы, они зашли в небольшой зал. На стенах висели планшеты, обтянутые красным бархатом с прикреплёнными на них иконами.
- А вот здесь у нас представлена антикварная коллекция икон, - завела свою речь экскурсовод.
Парни в военной форме слушали ее в пол уха. Они пришли сюда на мероприятие в качестве приглашённых, и их уже сорок минут водили по залам, рассказывая всякие скучные факты. Все это было слишком далеко от их жизни, они еще не решили или не знали, как сложится их судьба дальше. И все эти картины разной степени древности играли в их жизни второстепенную роль. Денис отошел в сторону, глядя на планшет, задержал взгляд на небольшой иконе, походного образца.
- Кто это?- Спросил Денис, указывая на икону.
От волнения он забыл про манеры, и про то, что не вежливо так делать, и надо бы деликатнее задавать вопросы. Он просто чувствовал, как участился пульс, и тихонько заныла зажившая уже ступня правой ноги.
— Это святой Пантелеймон, сказала экскурсовод, покровитель медиков, он изображен здесь с атрибутами врача, его история…
Дальше Денис не слушал.
— Вот мы и встретились, - прошептал он.
С небольшой деревянной доски на него смотрел серьезный темноволосый парень с кудрявыми волосами.
Ольга Хрисанова
«История не терпит суесловья. Часть седьмая»

История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6
По предписанию от Порты, крымский хан начал сильно теснить донских казаков. Не раз и прежде грозил он согнать их с Дона, а теперь со всей силой налёг на исполнение своей угрозы, из опасения, чтобы важная азовская твердыня, ключ к морю и Крыму, опять не попала в их руки. Осенью 1645 года крымские, азовские, кубанские татары, и темрюкские черкасы (жаны) подступили к Черкасскому городку, передовому и главному оплоту донских казаков… Царь Алексей Михайлович, по прошению донских казаков, послал к ним на выручку дворянина Ждана Кондырева» («Терские казаки с стародавних времён», С-Петербург, 1880).
Это грандиозное событие – взятие донскими и запорожскими казаками самочинно Азова и столь его длительная героическая оборона прочно вошли в народное самосознание, отразившись в историческом и литературном памятнике «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». Цари и вельможи забыли об этом грандиозном подвиге, заслоняя его своими подвигами, но народ крепко о нём помнил и помнит.
На этой «Повести…», на этом историческом и литературном памятнике следует хотя бы вкратце остановиться, так как это уникальное свидетельство времени, о многом говорящее душе и сердцу русского человека. Ведь в нём представлено то, как непросто собиралась Россия в великую державу, как народная стихия соотносилась с верховной властью. С одной стороны, власть, вроде бы, не признавала казаков на окраинах своими подданными, но тем не менее, помогала им. С другой стороны, казачество, несмотря на это, считало себя царскими подданными. А потому на слова турецких толмачей (парламентёров) о том, что от Московского царства им не будет «помощи и выручки» отвечали: мы и без вас «ведаем, какие мы в государстве Московском на Руси люди дорогие, и к чему мы там надобны. Черед мы свой сами ведаем». И несмотря ни на что, патетически говорили о царстве Московском: «Государство великое и пространное Московское многолюдное сияет оно посреди всех государств и орд басурманских и эллинских и персидских яко солнце».
В «Повести об азовском осадном сидении донских казаков», пожалуй, впервые определено с такой ясностью место казачества в Российском государстве, объективное, а не декларативное. В ней не только описана жестокая четырёхмесячная турецкая осада Азова, не только военно-стратегическое значение взятия и защиты этого города, но духовный смысл беспрецедентного подвига казаков. Оборону Азова автор рассматривает как борьбу за веру христианскую и за царство Московское.
Повесть представляет собой «роспись», донесение царю Михаилу Фёдоровичу о четырёхмесячной осаде Азова турками в 1641 году, который казаки захватили в 1637 году без ведома царя, с надеждой на то, что он примет город в державу свою: «Просим милости, сидельцы азовские и которые на Дону в городках своих живут, холопей своих, чтобы пожаловал и чтобы велел у нас принять с рук наших ту свою государеву вотчину».
Неимоверной силой подступили турки к Азову, в 256000 человек. В то время как в городе было всего 7367 защитника. 24 приступа выдержали казаки, делая подкопы и уничтожая наступающих. 96 тысяч турок побито было под стенами Азова. И турки вынуждены были снять осаду и отступить от города: «И от такова их к себе зла и ухищренного промыслу, от всяких лютых нужд, и от духу смрадного трупилова отягчали мы все и изнемогли болезнями лютыми осадными. А все в мале дружине уж остались, переменитца некем… А которые остались мы, холопи государевы, и от осады тои, то все переранены, нет у нас человека целого ни единого, кой бы не пролил крови своея в Азове сидючи, за имя Божие и за веру христианскую». Взятие и удержание Азова автор повести рассматривает в общей борьбе за веру христианскую. А потому и вкладывает в уста казаков ответ турецким толмачам, напоминая им о Царьграде. Взятие Азова, по сути, – ответ на взятие турками Царьграда и поругание веры христианской: «А все то мы применяемся к Иерусалиму и Царьграду, лучится нам так взять у вас Царьград. То царство было христианское… Как предки ваши, басурманы, учинили над Царемградом – взяли его взятьем, убили в нём государя, царя храброго Константина благоверного, побили христиан в нем многие тысячи тьмы, обагрили кровию нашею христианскою все пороги церковныя, до конца искоренили всю веру христианскую. Так бы нам над вами учинить нынече с обрасца вашего. Взять бы его Цареград, взятьем из рук ваших». Официальные донесения, с такой степенью эмоциональности и образности, конечно, не писались и не пишутся. Текст его говорит о высокой образованности автора, о знании им древнерусских воинских повестей и фольклора. И стоит лишь удивляться тому, что им был войсковой подьячий, то есть начальник войсковой канцелярии, в прошлом – беглый холоп князя Н.И. Одоевского…
Но царь «пожаловал турского Ибрагима султана царя, велел донским атаманам и казакам Азов град покинуть». Примечательно, что автор представляет это как повеление царя, хотя распоряжение взорвать и оставить Азов азовские сидельцы получили из Черкас, с Дону… А все, кто остался от азовского сидения, – повествует автор, – все изранены и уже старцы увечные, ни к какому бою и промыслу неспособные, а потому и дали обещание постричься в монастыре, приняв образ монашеский: «За него, Государя, станем Бога молить до веку и за его государское благородие. Его то государскою обороною оборонил нас Бог, верою, от таких турецких сил, а не нашим то молодецким мужеством и промыслом… Поднимем мы, грешные: икону Предтечеву да и пойдем с ним, светом, где он нам велит». Есть воля царская, но есть и воля Божия, которая была для них превыше всего. Как видно из «Повести…», автор её потрясён не только героической обороной Азова, но и отказом царя принять из рук казаков эту вотчину свою. По всей видимости, это и стало главной причиной написания этой повести обращённой уже не только к царю, но и к потомкам.
Турецкие толмачи говорили уничижительно азовцам: «Не впрямь ещё вы на Руси богатыри святорусские». И предлагали им льстиво перейти на службу к султану. Стоит только покаяться и султан простит «все ваши казачьи грубости прежние и нынешнее взятие Азова»: Тогда, мол, вы и станете богатырями святорусскими: «Учинит вам, казакам он, государь, в Царьграде у себя покой великий…станет-то ваша казачья слава вечная во все края от востока до запада… станут вас называть во веки все орды басурманские… святорусские богатыри», что не устрашились вы такими малыми людьми против страшных непобедимых сил царя турецкого». На это казаки отвечали: «Мы люди Божии, холопи государя Московского, а се нарицаемся по крещению христианами, как можем служить царю неверному, оставя пресвятой свет свой здешний и будущий? Во тьму идти не хочется». На Царьград у казаков были иные виды – взять его как место поругания веры христианской. Они действительно остались богатырями святорусскими.
Азовские герои гордо и уверенно говорили: «Потечет наша слава молодецкая во веки по всему свету». Потекла ли? Неимоверный подвиг был заслонён азовскими походами Петра I. А установление старшинства по Петровским походам на Азов и вовсе вычеркнуло из истории героическое взятие и оборону Азова задолго до этих царских походов… Помнит ли кто об этом подвиге теперь?
Хотя, как могут помнить наши современники, если теперь и народное самосознание, не говоря уже об истории, находится под постоянной угрозой радикальных искажений. Разумеется, под лозунгом возвращения к традиционным ценностям. И не только извне, но и изнутри нашего общества. Не могу не привести пример из нынешней жизни, связанный с той давней историей. В июне 2025 года в Усть-Лабинске прошёл очередной Всероссийский форум – фестиваль «Быть казаком». Мероприятие масштабное. И хорошо, что проводятся такие форумы. Но если на них главное внимание уделяется форме и игнорируется их содержание, то это будет уже не о народных традициях и не о казачестве, хотя внешне, вроде бы, о них. В самом деле, странно было участникам фестиваля услышать от учёного секретаря Старочеркасского музея унизительное и издевательское объяснение печати Войска Донского, на которой изображён казак на пороховой бочке. Учёный секретарь, не отягчённая познаниями, вполне серьёзно уверяла потомков казаков, что казак сидит на бочке с вином, поскольку, надо полагать, он – пьяница и гуляка. То есть, уверяла потомков казаков в том, какими никчёмными и недотёпистыми были их предки… Но до такой степени искажать свою историю и унижать народ никому не позволительно. И ладно, если бы это делал несведущий обыватель. Но ведь – человек, вроде бы, «учёный». Но если у нас такие «учёные» – это беда, и для общества, и для народа…
То, что это пороховая бочка, а не винная, хорошо было известно не только нашим далёким предкам, но и в последующие времена, вплоть до сегодняшнего дня, что отразилось в присловье «Жить, как на пороховой бочке», «Жизнь на пороховой бочке». То есть, жить в постоянной опасности. Откуда в нашей нынешней речи эта «пороховая бочка»? С тех времён, когда такими пороховыми бочками, не имея осадной артиллерии, казаки подрывали неприятельские крепости, делая подкопы под них.
Как известно, войсковую серебряную печать с надписью «Печать Войска Донского» Пётр I пожаловал донским казакам вместе с грамотой за верную службу в 1704 году. На печати был изображён казак, обнажённый по пояс, сидящий на бочке. В правой руке у него ружьё (фузея), в левой – рог, расширенной частью вниз, перед ним нечто на бочке, в чём А. Ригельман усмотрел чарку («на бочке перед ним стояла чарка»). Разумеется, Император, жаловавший войско, имел ввиду вовсе не бочку с вином, позорящую казака, что усмотрели уже поздние толкователи. Царь же, тем самым, подчеркивал оригинальную и эффективную подрывную тактику казаков. Ведь печать, как и герб, есть символ, выражающий самое главное, характеризующее историческую жизнь и деятельность народа.
В левой руке у казака не рог, тем более перевёрнутый, а натруска, из которой насыпался измельчённый порох в запальную трубку, в которой усмотрели чарку. Натруска вставлялась в запальник и выполняла роль бикфордова шнура, давая возможность казаку, поджигавшему её, успеть выбраться из подкопа наружу. Кроме того, казаки использовали подкопную тактику с пороховыми бочками для защиты своих городков, когда подземные ходы делались далеко в степь и подрывались при приближении неприятеля.
Этот прекрасный образ казака-героя, выработавшего такую тактику борьбы, воплотил в своей работе «Казак на пороховой бочке. (Печать Войска Донского)» один из самых талантливых ныне скульпторов Константин Чернявский (2018 г.). Основательно изучив исторические источники, он обнаружил, что прообраз такой печати был у донских казаков уже в 1552 году при осаде Казани, в которой они участвовали… Пётр I же только следовал давней традиции. Казак обнажённый не потому, что «пропил» одежду, а потому, что совершать адский труд в подкопах иначе было невозможно. А бочка – не с металлическими обручами, что могло высечь искру от столкновения о камень, а со жгутами. Всё было продумано у казаков.
Петр ТКАЧЕНКО
Продолжение следует
«История не терпит суесловья. Часть шестая»

История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5
Подозреваю, что причиной и поводом для таких разночтений первоначальной страницы истории Кубанского казачьего войска, как и исчисления его истории в последующем стал тот факт, что земля была дарована Императрицей Екатериной II на вечные времена именно Черноморскому войску, в последующем Кубанскому. Но за сто лет жития на берегах Кубани состав населения области значительно изменился. Надо было как-то по-новому организовывать жизнь в столь обширном и стратегически важном для России крае. Но это вовсе не требовало и никак не предполагало отрицания дарования земли именно войску. Наоборот – быть благодарным войску за это. Однако, проводимая политика, историческая наука, общественное сознание, как понятно, формулируемые образованной частью общества, пошли именно по этому конфликтному пути.
Не менее важную роль в таком положении сыграло и то, что малороссы, в основном составлявшие Черноморское казачье войско, хотя и были родственным народом, но значительно отличались от давних поселенцев на Кавказе Старой линии, впоследствии Кавказского линейного казачьего войска (1832 г.), составлявшегося во многой мере из донских казаков и где преобладал русский элемент. Это чувствовалось на протяжении всей последующей истории. Даже уже на исходе ХIХ века в черноморцах видели «угрозу стабильности», что выявлял историк О.В. Матвеев в исследовании «Казаки глазами жандармов (по политическим обзорам Кубанской области 1880-х годов)»: «Анализ оперативной информации позволил жандармам выделить развитие самосознания в казачьей среде, прежде всего, в станицах бывшего Черноморского казачьего войска. Угрозу стабильности жандармский офицер увидел в преувеличении казачеством бывших черноморских станиц своей роли в завоевании Западного Кавказа, а также в подчеркивании принадлежности к малороссам. Ротмистр Лосев отмечал в 1890 г. : «Казачье панство – старые офицеры из черноморских казаков – с некоторого времени вдруг вспомнили своё знаменитое происхождение от запорожцев, стали на визитных карточках писать «Павко» вместо Павел, «Грицко» вместо Григорий, с простыми казаками говорить на малорусском наречии и, справляясь с правдой, уверять их, что честь покорения Кавказа принадлежит им, а не сотням тысяч воинов из всех мест Империи… Простое казачество, давно забывшее буйную историю славных предков-запорожцев, начинает мнить себя чем-то отдельным от своей кормилицы остальной России и переполняться хмелем далеко не заслуженного величия». («Российское казачество», Краснодар, «Традиция», 2012 г.). Отметим, что это «казачье панство», впадавшее в обыкновенный сепаратизм, родилось уже не в одном поколении на Кубани, словно забывшее о том, что земля была дарована за верную службу и воинские подвиги именно Черноморского казачьего войска, а не за «буйную историю славных предков-запорожцев»…
Взятие Азова
Мы не подвергаем сомнению само установление старшинства в казачьих войсках, но рассматриваем его именно в Кубанском казачьем войске, вдруг существенно изменившем его истинную историю. И поскольку история Кубанского казачьего войска оказалась не просто связанной с давними азовскими походами Петра I, но определённой ими, мы просто обязаны хотя бы в самых общих чертах представить то, как эти походы понимались изначально историками предшествующих времён.
Донские казаки издавна намеревались взять Азов, этот ключ реки Дона к Азовскому и Чёрному морям. Они, конечно, пробивались протоками к морям, но Азов оставался в этих их походах непреодолимым препятствием: «Казаки, видя такие турецкие предосторожности, учреждения и поступки с ними жестокие, хотя не переставали своими наездами, пренебрегая все их укрепления и заставы, начали помышлять о важнейшем противу того деле. Они вознамерились неотменно всё то уничтожить и опровергнуть, а ни чем иным, как отнять у них самой ключ реки Дона и истребить Азов, и тем себе отворить свободный путь в Азовское море, чтобы впредь в приемлемых своих намерениях ничто не препятствовало» («История или повествование о донских казаках Александра Ригельмана, 1778 года», М., 1846 г.).
Примечательно, что историк Алексей Попов в своей истории о Донском войске, описывал эту грандиозную эпопею взятия Азова в главе, которую так и называл: «Взятие Азова одним войском Донским». Тем самым подчёркивал важное обстоятельство, что взятие Азова происходило без участия верховной московской власти, что это было делом исключительно Донского войска: «Войско Донское, желая избавиться неприятельских турецких частых на них покушений и свободнее на Азовском и Чёрном морях действовать, в 1637 году отправило из Черкаска знатной отряд под Азов с тем, чтобы его взять». («История о Донском войске, сочинённая директором училищ в войске Донском, коллежским советником и кавалером Алексеем Поповым 1812 года в Новочеркасске», в Харькове в Университетской типографии 1814 года).
Об участии хопёрцев в этом грандиозном предприятии историки умалчивали, справедливо считая их частью донского казачества. Но зато А. Ригельман довольно подробно описывает, что взятие Азова было делом донских и запорожских казаков. Часть запорожцев, не желая более мириться с суровым гнётом поляков, решили искать себе счастья в Персии. И отправились туда в количестве четырёх тысяч человек с женами и детьми через землю войска Донского: «Когда поляки найсуровейшим образом поступили с черкасами своими, то есть, с запорожскими казаками… принуждены сего для паки искать себе прибежище в других странах, так что вдруг 4000 человек из храбрейших казаков заключили счастие свое искать в военных действиях и, собравшись с жёнами и с детьми, вознамерили себя представить Персии, которая тогда с турками имела войну. Таким образом перешли они в марте месяце к Дону. Донские казаки, состоящие в 3000 человек, встретились с ними и приняли их весьма приятно; …притом осведомились о их намерении и походе, представили им опасность похода, чрез толь многие народы и сумнение свое, что найдут ли они у персиян то, чего желают, говоря им: «Вы хотите предаться лютости басурманской и сделаться более несчастливыми, нежели благополучными. Может быть, они, примирясь, отдадут ещё вас в руки турецкие. Останьтесь, братия, лучше у нас; мы произведём вам плату, и имеем довольно запасу для ваших семей. На что вам так далеко искать того, чего не знаете, сыщете ль. Вот Азов: будем друг другу верны! Когда возьмём этот город, то будем иметь свободный проход в Азовское и Чёрное море, где в один поход можем столько взять добычи, сколько вы во все кровопролитное сражение у персиян никогда не получите». Запорожцы, посоветовав между собою, и разсудя, что они тут и без дальной езды конечно верную прибыль иметь могут, согласились соединиться с ними». 24 апреля 1637 года донские и запорожские казаки осадили Азов: «После сего на другой неделе, призвавши Бога на помощь, пошли под Азов рекою суднами и берегом сухопутно, и осадили оной 24-го числа». Турки, находившиеся в Азове, «такому предприятию только смеялись». Но «казаки начали тотчас в землю врываться, продолжали день и ночь свою работу».
В уникальном историческом и литературном памятнике «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков», посвящённому самочинному взятию Азова казаками и его героической обороне, говорится о донских и волжских казаках. В речи толмачей, парламентариев басурманских сказано: «Яко львы свирепе в пустынях ведомы, рыкаете казачество донское и волжское…». Оказывается, турки хорошо знали своих извечных противников. Ведь истинными старожилами на Кавказе были именно волжские казаки. Но вольному казачеству было сложно удержаться на Волге и часть их ушла с Ермаком в Сибирь, другая – на Кавказ, на Терек. Было это задолго до переселения на Кавказ Волжского войска (полка).
Оказывала ли московская власть помощь во взятии Азова? Разумеется, оказывала, но в целях дипломатических, не придавая огласке и даже отрицая это. В отношении казаков, она всегда проводила тонкую политику. Если соседние державы жаловались на казаков, из Москвы им сообщали, что казаки не находятся в их подчинении, и вообще это война не России с Портою, а Порты с войском Донским. Так и при взятии казаками Азова в 1637 году, когда турецкий верховный Визирь представлял Москве «великую роспись жалоб», говоря об Азове, что якобы «одни только россияне причиною тому были, что город в казацкие руки достался», «на сие российские послы отвечали, что с великим удивлением о странном и к ним совсем не принадлежащем деле принуждены слышать». Более того, уверяли Визиря, что Государь не только не оказывал помощь казакам, но наоборот старался воспрепятствовать им во взятии Азова: «Его Царское величество дерзостным казакам конечно никакой подпоры не делал, но паче ещё старался тому воспрепятствовать, чего ради и послал своих посланников в Азов, Богдана Луковича и Афанасия Борлова, но по обратном их и бесплодном приезде, ещё туда послан был Михайла Заиков, кой со всеми при нём имеющими людьми на дороге найден убит… А иным образом, когда б Его Величество так крепко своему слову и руки не держался, то не токмо тогда, но и ещё бы ныне, мог казакам в Азов на помощь толь сильно придти, чтобы Порта Оттоманская всею её морскою и сухопутною силою не могла оным городом овладеть. Но доныне ещё ни малейшей помощи им не даёт». (А. Ригельман).
Об этом писал и А. Попов: «Российский двор чрез своих послов засвидетельствовал, что он в сей войне Порты с войском Донским, яко Российскому Государю неподвластным, никакого участия не имеет». Однако, московская власть помогала казакам во взятии Азова. Во всяком случае, когда у казаков при осаде города сделался недостаток в порохе, свинце и припасах разных, они их получали: «Но сделался, наконец, у казаков для той осады великий недостаток в деньгах, порохе, свинце и в запасах разных, из чего востужились, что ни начатого их дела окончить, ни запорожцев содержать стало нечем; токмо сверх чаяния козаки были обрадованы, когда прибыл к ним, в том же апреле месяце, войсковой их атаман, Иван Катаржной с Москвы, и с ним несколько сот верховых донских казаков, притом же прислано было, с дворянином Степаном Чириковым, Царского денежного жалованья, порох и свинец, довольное число».(А. Ригельман).
Итак, 24 апреля 1637 года донские и запорожские казаки осадили Азов. Среди них оказался некто Немчин родом, именем Иван Арадов, знающий подкопные дела, которому велели вести подкоп под самый город, что он и сделал за четыре недели: «Июля в 18 число, в ночи четвёртого часа, казаки, зажегши подкоп города подорвали, и великую часть стен, со всеми бывшими на той части людьми, с снарядом и прочим, во внутрь, и за городом разбросало». Это была удивительная, излюбленная тактика донских казаков брать крепости без всякой осадной артиллерии, делая подкопы, в которые закатывались бочки с порохом, а потом подрывались. Более того, обороняя взятую крепость, они делали подкопы на подступах к ней, не давая значительно превосходящему противнику подойти к городу. Тактика, требовавшая неимоверного труда, но всегда успешная. Настолько, что на печати войска Донского был изображён казак, восседающий на бочке с порохом, как своей спасительнице…
Взявши город, казаки разграбили его, но «сделали тотчас и надлежащее учреждение к содержанию онаго в своей власти, исправили его починкою и привели в оборонительное состояние». Они возобновили в городе древнюю церковь во имя Иоанна Предтечи. И другой храм воздвигли во имя Николая Чудотворца.
Турки, разумеется, не смирились с потерей Азова и предприняли его ужасный штурм: «Потом июня 24-го числа окружили город и с ужасною силою во многих местах наступили… Но казаки подвели так хорошо везде подкопы, что турки нигде без опасения стать и шанцами укрепиться не могли». (А. Ригельман).
Турки, поизрасходовав порох, вынуждены были десять недель стоять без всяких действий. Такая стойкость казаков, их не столь уж многочисленного гарнизона, поразила многих так, что «первое известие о оставлении бесполезной Азовской осады показалось Турецкому, Российскому и Польскому дворам более баснею, нежели истинною повестию, ибо оной город в то время далече не таков крепок был, каков в 1696 году Его Царским величеством Петром Алексеевичем взят». (А. Ригельман).
Но потом турки стали чинить приготовления, чтобы с большой силой предпринять осаду Азова и возвратить город себе. Узнав об этом, казаки решили передать город под власть Российского Государя. Но им в этом было отказано: «Если можно, Его Царского Величества к помощи склонить, обещая себя и с городом в руки Его Величества отдать, и при том предлагая великую пользу, которую Российское государство от сего города иметь может. Но в том им, однако ж, отказано…» (А. Ригельман). Государь «не согласился на представления Донского войска в отправлении ему помощи и в принятии от него Азова» (А. Попов). И тогда «Войско Донское знавши о чрезвычайных приготовлениях к непременному возвращению сего города и не надеясь на помощь даже и Российского двора, приказало своему отряду со всеми потребностями из Азова выбраться, а при появлении неприятеля все башни и укрепления подорвать и городские строения сожечь» (А. Попов). «Казаки, не получа к удержанию Азова вспоможение, оставля оный подорвали и возвратились на Дон» (А. Ригельман). После жесточайшей четырёхмесячной его обороны. Они владели Азовом, стойко обороняя его по 1642 год, то есть, по сути пять лет.
Блестящий публицист и историк генерал И.Д. Попко писал об этом беспрецедентном подвиге казаков: «Совершилось на Дону событие, покрывшее вечной славою удаль вольного казачества: донские казаки, соединившись с запорожскими, без инженеров и осадной артиллерии, овладели сильной турецкой крепостью Азовом и несколько лет отстаивали её против стотысячных армий могущественной Порты Оттоманской. Но, когда руководимая благоразумием Москва не пожелала принять этого завоевания (хотя от Кахетии и Карталинии и не отказывалась), то победителям добровольно покинувшим турецкую крепость, не дешево пришлось платиться за свою удаль, оправдавшую русское присловье: смелость города берёт.
Петр Ткаченко
«История не терпит суесловья. Часть пятая»

Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4
История с историей кубанского казачества
Эти даты – 100-летие и 200-летие войска, – причём, противопоставленные, прямо-таки ставят в безысходный тупик современных историков. И, не находя в этом ни мотивированности, ни логичности, они считают это неким совпадением. А потому и утверждают, что памятник Екатерине II в Екатеринодаре «стал так же и памятником 200-летней истории кубанского казачества», словно, не помня о том, что он замышлялся и воздвигался к столетию жития черноморцев-кубанцев на своей земле. То есть, пускаются в оправдание распространённого «общественного мнения», не смея подвергнуть его сомнению, и что оправдано с точки зрения исторической быть не может (В.Н.Ратушняк, «Кубанское казачество»: три века исторического пути»).
Эти мои сопоставления могли бы показаться праздным домыслом, если бы ситуация с памятником в Краснодаре не повторилась в наши дни, через сто лет, когда Кубань отмечала двухсотлетие переселения черноморцев. Повторилась та же путаница с датами – двухсотлетие-трёхсотлетие, вызывающая недоумение граждан. Был установлен закладной камень на месте памятника Екатерине II с надписью, говорящей о том, что памятник Императрице и казачеству будет восстановлен. Но зато ординарный обелиск городского общества был восстановлен в первую очередь.
И только 8 сентября 2006 года памятник Екатерине II в Краснодаре, воссозданный скульптором Александром Аполлоновым, многие годы работавшим над ним, был наконец-то, открыт. И опять-таки, открыт не к двухсотлетию Кубанского казачества, к которому он безнадёжно запоздал, и, кажется, в большой мере не для кубанцев, а по требованию потомков эмигрантов первой волны, как одно из условий возвращения в Россию регалий Кубанского казачьего войска. Потомков эмигрантов в третьем-четвёртом поколении, уже с трудом говорящих по-русски, а о том, что в действительности происходит в России, зачастую, понятия не имеющих… Вопрос же об истории Кубанского казачьего войска и более ста лет спустя, после того, как писал об этом И. Бентковский, всё ещё остаётся не выясненным «как бы следовало»…
Нельзя не отметить и того факта, что возведение такого обелиска нарушало саму природу памятников. Об этом писал М.О. Микешин: «Публичный памятник только лишь тогда соответствует своей цели, когда он отвечает сложившимся в народе воспоминаниям и передаёт эти воспоминания отдалённому потомству. Поэтому каждый памятник должен представлять собой известную идею, и эта идея должна быть выражена в такой ясной и наглядной форме, которая была бы понятна всем и говорила сердцу и уму людей о великих деяниях, оставивших неизгладимый след своей деятельности в исторической жизни народа».
Но уже тогда зарождалось то пренебрежение к природе памятников, которое проявилось в последующем, и в наше время, когда «борьба с мемориалами в последнее время приняла характер эпидемии» (Игорь Шумейко, «Прочь с корабля современности. Борьба с памятниками шагает по планете», «Литературная газета», № 41, 2017 г.). Аргументация здесь во все времена едина: право творческой свободы и право самовыражения. Но это является непременным условием, но не может быть целью творчества, так как скульптор при этом, пожалуй, неизбежно отступает от народного понимания тех или иных событий. Пример из нашего времени. В Санкт-Петербурге, где есть величественный «Медный всадник», памятник Петру I скульптора Э. Фальконе (1782), как он может соотноситься с карикатурой на Императора Петра I, М. Шемякина? А ведь наш современник воспользовался и правом творческой свободы, и правом самовыражения, но памятника не создал, так как он выразил своё понимание исторической личности, далеко не свободное от идеологических поветрий…
Такая история с историей Кубанского казачьего войска произошла по причине многих обстоятельств, но нет сомнения в том, что главной из них было какое-то изначальное и неистребимое в казачьей среде пренебрежение к «бумажному человеку», то есть грамотному и образованному человеку, в котором виделся только чиновник и бюрократ, а не летописец. Теперь уже ясно, что именно это и погубило казачество. Это – своеобычное и уникальное племя русского народа…
В.Г. Толстов в своей «Истории Хопёрского полка Кубанского казачьего войска (1696-1896)», (Тифлис, 1900, 1901 г.) писал, что «казачество не трубило о своих подвигах, оно больше работало шашкою и винтовкою, нежели пером». Так-то оно так, да только одно другому не мешает и не может быть альтернативно противопоставленным. А в казачьей среде были и действительно образованные и талантливые люди, но они не занимали в ней подобающего места. Не потому ли и столь долгое время спустя, важной исторической проблемой в исследовательской среде всё ещё является то, что уже давно должно быть выяснено: «стремление историков определить корни кубанского (черноморского) казачества, его происхождение, обосновать его самобытность в условиях сословного оформления казачества» (Г.Н. Шевченко, «О некоторых проблемах изучения истории казачества Кубани во второй половине ХIХ – начале ХХ в.», «Кубанское казачество: три века исторического пути», Краснодар, 1996 г.). Иными словами говоря, это является признанием в том, что история казачества вообще, а кубанского в особенности, якобы не поддаётся осмыслению… Не на уровне перечисления фактов, но на уровне метафизическом и саморефлексии.
Упрёк И.Д. Попко не только предшествующим, но и нынешним историкам остаётся всё ещё злободневным и ничем не извинительным: «Но будет ли справедливым пенять на такую непроизводительную растрату исторического материала, винить малограмотных казаков в недостатке заботливости о сохранении письменных памятников, когда в наше просвещённое, как говорим мы, время, немного видно этой заботливости. На кладбища хоть изредка ходим поминать родителей, а другие кладбища, где не прах бренный, а мысль и слово наших предшественников почили – хранилища письменных памятников прожитого времени, оставляем в пренебрежении» («Терские казаки с стародавних времён», С.-Петербург, 1880 г.).
Но теперь совершенно очевидна другая беда. Нельзя сказать, что историки не обращаются к источникам и довольно обширным предшествующим исследованиям. Обращаются, пишут работы, проводят научные конференции, но утратив изначальную духовно-мировоззренческую картину мира, зачастую вычитывают в этом бесценном наследии, под влиянием прежних и нынешних идеологий не то, что в них действительно содержится…
Мне уже не однажды приходилось касаться этой странной истории с историей Кубанского казачьего войска – «Сколько же лет Кубанскому казачеству?» в книге «Возвращение Екатерины» – о создании, разрушении и воссоздании памятника Екатерине II М.О. Микешина в Екатеринодаре-Краснодаре (М., «Ладога-100», 2003 г.); в «Новой газете Кубани», (№ 60, 9-13 августа 2007 г.), в своём авторском литературно-публицистическом альманахе «Солёная Подкова», выпуск третий (М., ООСТ, 2007 г.); в книге «Кубанский лад. Традиционная культура: вчера, сегодня, завтра» (Краснодар, «Традиция», 2014 г.). И что поразительно, за все эти годы не нашлось ни одного историка, который, кроме бесконечных заклинаний – «по старшинству от Хопёрского полка», – привёл бы убедительные исторические аргументы в пользу этого старшинства. Но так в истинно исторической, как и во всякой другой науке, не бывает, где мысль должна циркулировать, как кровь в человеческом организме. Тут же, как видно по всему, корпоративные интересы и преднамеренная заданность оказались сильнее и истинной науки, и действительной заинтересованности историей родного края. Историки, что называется в один голос, без каких-либо доказательств повторяют догмат об исчислении истории Кубанского казачьего войска по старшинству от Хопёрского полка, принимают его как безусловный исторический факт, хотя к тому времени не было ещё ни Хопёрского полка, ни Черноморского войска, ни походов Петра I на Азов, которые были уже позже…
Подобные казусы в исторической науке были, пожалуй, всегда, но они не носили такого тотального характера. Всегда находился смелый, мужественный историк, который несмотря на преобладающее «общественное мнение», высказывал историческую истину. Тем более, что она имеет далеко не формальное значение. А то, что причиной этого становилась именно научная корпоративность, свидетельствует хотя бы такой факт. Известный историк Н.И. Костомаров в своё время откликнулся на книгу образованнейшего человека, генерала, знавшего около семи языков Ивана Деомидовича Попко (1819 – 1893) «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту», вышедшую в Санкт-Пете6рбурге в 1858 году. Её он оценил, как «преимущественно этнографическую», надо полагать, для историка мало что значащую. Не увидел в ней научной формы, то есть, тех стереотипов с какими зачастую пишутся исторические исследования: «Слог книги жив и лёгок, но страдает подчас неуместными притязаниями показать автора человеком учёным, пренебрегающим учёную форму». («Казаки», М., «Чарли», 1995 г.). К такому выводу историк пришёл, видимо, потому, что И.Д. Попко свободно приводит в своём тексте латинские выражения, что для него, полиглота, было естественным. Н.И. Костомаров же увидел в этом намерение автора показать свою учёность, и не более того. И надеялся на появление «другого описания Черноморья, более полного». Между тем, несмотря на многочисленные труды в последующем, книга И.Д. Попко и до сих пор не потеряла своей свежести и остаётся непревзойдённым памятником описания родного края. То есть, историк не смог оценить эту книгу, не потерявшую и сегодня своего очарования. И, кстати, и до сих пор остающуюся по её достоинству не переизданной. Да и как могло быть иначе, если не находя в ней «научной формы», Н.И. Костомаров даже книгу называет неправильно: «Черноморские казаки в военном и гражданском быту». В то время как книга называется «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». И это не просто описка историка, видимо, полагавшего, что коль книга о казаках, то на первом плане должна быть военная сторона их жизни. В то время как И.Д. Попко на первое место ставит «гражданское» обустройство края, то есть, – экономическое, социальное, культурное, духовное, от чего зависит и военное обустройство, но не наоборот.
Историю казачества невозможно рассматривать отдельно, вне общей истории России, так как без истории казачества не вполне понятна и история России. Об этом, по сути, писал И.Д. Попко: «Куда не побегут русские люди, хотя бы и «самодурью» без всякой государственной цели, туда придёт и русское царство». («Терские казаки с стародавних времён», С-Петербург, 1880 г.). Не потому ли столь настойчиво и последовательно искажается история казачества, а Кубанского, как в нашем случае, в особенности.
За этим просматривается стремление свести историю казачества к военной стороне дела, без её цивилизационной составляющей и духовно-мировоззренческой основы. Но как только история казачества становится локальной и исключительно военной, она неизбежно оборачивается сепаратизмом и коллаборационизмом, что подтверждается историей трагического ХХ века. И было это свойственно не только Кубанскому казачьему войску.
Задача истинного историка состоит не в том, чтобы обосновать, «обслужить», во что бы то ни стало, официальную точку зрения или распространённое «общественное мнение», которые могут и не иметь исторического содержания, но в том, чтобы распознать цивилизационные и духовно-мировоззренческие основы истории народа, страны, государства.
Нам могут возразить: что, мол, теперь уточнять историю казачества, когда его в своём традиционном виде не существует уже более века. Да, это так. Но примечательно, что подобный только «тематический» подход к истории, не охватывающий всей её полноты, сохраняется. Выходят же у нас учебники «Военная история России», а не «История России», что само по себе не предполагает рассмотрения других, более важных аспектов жизни народа и страны – духовно-мировоззренческих, коими определяется и собственно «военная история», так как они представляют мотивацию тех или иных событий, а не просто перечисление неподвижных исторических фактов. Всё это и вынуждает более основательно рассмотреть эту странную историю с историей Кубанского казачьего войска.
Петр Ткаченко
Продолжение следует
Долгая вахта

В Тосно Сергей Фомич переехал из Питера лет 30 назад. Во время лихих 90-х. Товарищи не понимали этого поступка. Тогда жизнь бурлила и кипела, город обрел свое историческое имя, разрешили заниматься бизнесом всем, кто этого хотел, а хотели многие. И Фомич по началу увлекся, поскольку ветераны афгана были освобождены от уплаты налогов. Многие фирмы тогда специально принимали на работу «афганцев».
И вот Сергей, тогда его еще не называли по имени отчеству, сказал товарищам что планирует вывести капитал из фирмы и купить домик в Тосно, под Питером. Они сначала не придали его словам значения, а потом решили, что он шутит. Подумали, что он спекся, не выдержал напряга на гражданке и решил уйти на покой.
Он не возражал, не объяснял и не желал оправдаться. То, что его капитал был не велик, его не смутило. Деньги товарищи ему отдали, и он купил на них бревенчатый вросший в землю домик с участком земли в 6 соток.
Новую работу он не искал, жил на военную пенсию. Ему нравился спокойный ритм жизни и тихое словно забытое всеми место, в котором стоял его дом. Он высадил на участке плодовые деревья, но не уделял им времени, и сад вырос большим хоть и запущенным.
Его жизнь была одинаково неинтересна ни властям, ни бандитам, законов он не нарушал, больших денег не имел. Поначалу изредка к нему приезжали фронтовые друзья, потом все реже. Соседи считали его чудаковатым. Он был необщителен, а зайдя к нему домой посреди дня, можно было обнаружить его спящим.
«Ночи ему мало что ли?» - удивлялись они, - «Как не зайдешь, все дрыхнет! » «Эвона как сад то запустил, траву - то иногда покосит, а чтоб деревьям уход дать, так на то времени у него нет, все спит».
Сергей Фомич знал, что о нем говорят, те же что болтали о нем за спиной, сами ему и доносили сплетни. Реагировал он спокойно. «Контузия у меня»- говорил он, «как под Кандагаром накрыло, так с тех пор вынужден много спать». Контузия дело серьезное, как и само слово. В деревне его слыхали еще с Отечественной и контуженным сочувствовали. Болтать со временем стали меньше. Слишком много других событий происходило тогда вокруг. На Кавказе началась война, звезды эстрады женились, разводились, теряли и находили детей. Бизнесмены носили малиновые пиджаки. Жизнь, словно товарный поезд, грохотала и катила себе по проложенным рельсам вперед.
Боевой товарищ Сергея Фомича знал, что его друг бодрствует в основном по вечерам и поэтому приехал к нему из Петербурга после обеда. Высокое летнее солнце еще и не думало катиться к закату, когда к стоящему на отшибе дому подъехал большой черный джип. Из него вышел седовласый мужчина и направился к калитке. Шел он медленно хромая, сказывались старые раны и был он уже не молод.
Сергей Фомич как раз вышел на крыльцо, потягиваясь после обеденного сна.
-Здорово Серега! Окликнул его входящий, - выспался?
- Колян Шевцов, ты что ли?
Сергей Фомич сошел с крыльца и обнял гостя, было что-то забавное в этих пожилых людях, говоривших с молодецкой удалью, но двигавшихся сообразно возрасту. Словно молодые души их были закованы в неудобные заржавелые доспехи.
- Ты как поживаешь?- спросил Сергей, каким ветром в наши края?
- Поживаю, слава Богу, хорошо, да не обо мне речь, - вздохнул гость.
- Сергей Фомич уловил озабоченность гостя и понял, что того привело нему серьезное дело.
Провел в дом, достал из серванта советских времен рюмки, бутылку водки, сообразил нехитрую закусь.
-Гляжу дело у тебя такое, что без легкого аперитива не обойдется, - сказал он.
- Ну, что, помянем наших для начала. Тех, кто уже не вернётся из боя.
Разговор длился плавно и тихо, Николай рассказывал о своей жизни, как вел дела после ухода Сергея, как вырос его сын и пошел в армию продолжая династию, как попал там в лютый замес на Кавказе и чудом остался жив. Теперь вот ведет дела с ним.
Услышав про то, что сын товарища был на войне Сергей сначала насторожился, но услышав, что все закончилось хорошо расслабился.
- Так о чем ты хотел говорить, если все хорошо? – спросил он.
- Внук у меня там,- выдохнул Николай. Понимаешь, пошел по стопам отца, моим и прадеда. Пошел, а мы отговаривать не стали. Хотя и болит сердце так, что сил нет. Худое чую, а помочь не могу, а ты можешь. Я знаю, что можешь, тебя Петруха - сын мой видел, и другие парни из его отряда, так что это не сон и не глюк. Не раз тебя видели я наводил справки, ты и сейчас там часто бываешь. Помоги, Серег, - тон его стал болезненным. Я б не стал тебя отвлекать, знаю на вахте ты. Мне про таких как ты отец рассказывал, что помогаете вы, даже после дембеля, помогаете своим.
- Ну, тихо- тихо, Сергей Фомич похлопал товарища по руке, не волнуйся так, коли уж все про меня знаешь, то и про то, что своих не бросаю, знаешь. Все хорошо будет, в каком районе твой внук сейчас?
— Это строго секретно, под Суджей они, чувствую дело зреет большое, а шкет мой больно дерзок, полезет в самую гущу.
Сергей Фомич встал из-за стола достал из серванта пузырек в валосердином, накапал в стакан, добавил воды.
- На-ка вот выпей, хватит водки на сегодня, домой не поедешь, никак тебе за руль нельзя, у меня останешься ночевать. Особо не волнуйся и не буди меня, чтобы там ни было, понял?
До вечера они коротали время за бытовыми мелочами, начистили картошки и поставили варить. Нашли в сарае самовар и умудрились его раскочегарить.
Когда стемнело, Сергей Фомич постелил гостю на диване, а сам прошел в спальню.
Его товарищ долго не мог уснуть. Он лежал, прислушивался к ночным звукам, к тихому похрапыванию Сергея. Заснул тот спокойно, но потом сон его стал другим. Сергей Фомич что-то бормотал сквозь сон, он вскрикивал и метался по кровати. Николай помнил наказ - не будить и продолжал лежать в тишине, нарушаемой только нервным сном друга и мерным тиканьем настенных часов.
Бой шел жаркий, противник не ожидал их появления и сопротивлялся отчаянно, но сориентироваться-таки не успел. Никита Шевцов вел свой отряд к левому флангу. Пять человек под покровом ночи выбрались из укрытия и тихо, старясь слиться с рельефом местности, продвигались на рубеж. Переговоров по рации не вели, даже друг с другом общались жестами. Им надо было занять позицию, установить пулемет и держать точку до подхода своих. Тем страннее для него было услышать чей-то голос в наушниках шлема. «Стойте ребятки!» Он почувствовал, что кто-то придерживает его сзади за плечо, вздрогнул и остановился, подав сигнал бойцам.
Снайперская пуля срикошетила в сантиметре от его лица, он бросился на землю поворачиваясь в сторону выстрела и увидел вдруг, как на секунду в окне соседнего дома что-то вспыхнуло, высветился вражеский силуэт с винтовкой, он дал короткую очередь. Силуэт исчез, группа ускорилась, продвигаясь к позиции.
Позже товарищи дали ему прозвище фартовый, так четко и по плану провел он свой отряд сквозь заслоны. Отработали как надо, враг попробовал было выпустить по ним беспилотники, и они их грамотно и вовремя сбили. Никита действовал так, словно наверняка знал откуда идет опасность и встречал ее, в точности выполнив боевую задачу и сохранив группу без потерь.
Утро в Тосно было ранним, теплым и немного туманным. Николай вышел на крыльцо дома своего товарища и вдохнул воздух полной грудью, где-то вдалеке пропел петух.
Деревенские жители встают рано, вот и соседка Сергея Фомича чуть свет гнала корову на луг, увидев Николая поздоровалась.
-Доброго утречка, вы к Фомичу пожаловали? Он поди, спит еще…
- Спит,- кивнул Николай,- пущай поспит коли надо, работа у него не простая.
Соседка посмотрела на него как на чудного, ей было не понятно, какая работа могла быть у одинокого пенсионера, и пошла дальше, подгоняя корову.
Ольга Хрисанова
Медальон

Арина шла по пустыне, она шла уже давно и порядком устала. Она шла босиком в лёгкой тунике, периодически вытягивая вперёд руку с армейским медальоном, и смотрела на его тусклый блеск, иногда поворачиваясь вправо или влево, меняя направление в зависимости от свечения медальона. Это был маленький, слабый маяк, указывавший ей путь. Времени в этом мире не было, было только ощущение бесконечной вечности. Под ногами была мягкая, прохладная глиняная пыль, иногда ступни погружались в неё по щиколотку.
Она вспомнила, что ещё сегодня утром (теперь это казалось целой вечностью назад) она была в своей квартире. Кто бы мог подумать? Она говорила с ангелом, но для неё это было привычным делом. Ей удалось войти в контакт со своим ангелом-хранителем, и с тех пор они работали вместе. В своём познании она углубилась настолько, что могла путешествовать по разным мирам. Могла влиять на людей, вызывая в них разные состояния. Этот случай был особенным. Ей предстояло спасти воина, получившего множественные осколочные ранения и вторую неделю находившегося на грани жизни и смерти. Ему сделали несколько операций, но пара осколков всё же осталась, причём один — в опасной близости от сердца. Новую операцию проводить было нельзя. Парень почти погиб, находясь во власти сильнейших эмоций.
Ситуация осложнялась и тем, что за него некому было молиться в мире живых. Его родители, семья — все, кто был ему дорог, — погибли. За них он и воевал. В результате отмолить его было некому, но и у него был хороший ангел-хранитель. Он поговорил с хранителем Арины, и она, прекрасно понимая всю опасность этого предприятия, согласилась.
В этот раз ей предстояло оказаться в мире мёртвых, спуститься туда и вернуться — очень непростая задача. Из людей туда могла спуститься только она. К парню было сложно пробиться и из других миров. А ей, как ни странно, это было по силам — по крайней мере, она так думала, когда молилась в этой серой пустыне. Полумрак и прохлада, глиняные холмы, взмывающие ввысь в темноте, островерхие скалы, осыпающиеся при дуновении ветра. И откуда здесь взялся ветер? Видимо, одно из базовых условий этого мрачного места. Ничего не росло в этой долине, никого не было в этой долине — по ней шла только Арина.
И шла она по этой пустыне, совершенно одинаковой. Всюду, куда ни глянь, было одно и то же. И только этот армейский медальон указывал ей направление. Она вздохнула и принялась вновь читать молитву: «Господь — мой пастырь, Он направляет меня к зелёным пажитям…» — как вдруг почувствовала, что туника зацепилась за что-то. Она обернулась и увидела торчащую из земли сухую ветку.
«Вот ещё новости», — пробормотала она, дёрнула тунику на себя — ткань треснула и порвалась. Когда она обернулась, перед ней был лес сухих деревьев. Высокие чёрные стволы, раскидистые острые ветки, лишённые листьев. Это была стена. Арина посмотрела направо, налево, думая, с какой стороны лучше обойти это препятствие. Но вдруг поняла, что лес — вокруг неё. Она и шагу не могла ступить ни в одну из сторон.
«Ловушка», — поняла она. «Я попала в ловушку». Арина закрыла глаза, сделала глубокий вдох, выдох и попробовала представить, что лес перед ней оживает, становится зелёным и мягким, на ветках распускаются листья, колючки исчезают. Она услышала сухой, жёсткий смех, похожий на карканье или на кашель человека, подавившегося песком. Открыла глаза — колючий чёрный лес на месте. «Так это не работает», — услышала она сухой, каркающий голос. «Не работает».
Она вновь закрыла глаза, представила, что стоит на мягкой траве, и её лицо обдувает лёгкий приятный бриз. «Господь… Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Она сделала шаг вперёд, другой и ещё один шаг. «Душу мою укрепляет и направляет меня путями истины ради имени Твоего». Ещё шаг. Она открыла глаза и увидела, что идёт сквозь этот колючий лес, и ветки, прикасаясь к ней, становятся прозрачнее и мягче — они не задевают её и не рвут на ней одежду.
Конца и края этому лесу всё ещё не было видно. Она продолжила путь, повторяя псалом про себя, подняла руку с медальоном, чтобы посмотреть на его свечение и определить дальнейшее направление пути. В этот момент она почувствовала, как острый корень впился в ногу, вскрикнула, рванулась вперёд, ощутила, как её царапнуло что-то по правому плечу, потом по левому. Она едва не выронила медальон, почувствовала укол в правом боку, рванулась вперёд.
«Тише, тише», — услышала она знакомый голос. Что-то больно вцепилось в волосы.
«Спокойно», — вновь послышался голос ангела.
«Если пойду долиной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной», — продолжала она. «Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня». Она сделала ещё шаг вперёд и увидела, что лес вокруг неё исчез. Осмотрела своё тело: царапины на руках были болезненными, но не очень глубокими, укол в боку тоже не причинял особого беспокойства. Больше всего было жалко ногу. Она оторвала кусок ткани от туники и перемотала ступню. «Это всего лишь иллюзия», — сказала она себе. «Я даже не здесь».
— А где ты? — послышался сухой голос. Она обернулась на звук, но никого не увидела. Посмотрела влево. «Ну конечно, обманщик, где тебе ещё быть?!» Она увидела тень в виде человеческого силуэта.
— И где ты, по-твоему, находишься? — ехидно спросила тень.
Лица не было видно, но голос передавал эмоции.
— Я в пути, — ответила Арина.
— И куда ведёт твой путь? — поинтересовался силуэт. — Когда кругом иллюзия?
— Ну, всё же есть истина, — ответила она.
— И где это истина?
— Это твой настоящий облик? — спросила она.
— Я могу быть кем захочу, — сообщил силуэт.
— До тех пор, пока тебя не осветил свет истины, — ответила Арина.
Силуэт заскулил и рассыпался глиняной пылью. Она вздрогнула и почувствовала, как резко усилилась боль от ран чёрного леса.
«Не надо было говорить с ним», — подумала она.
— Не надо было дерзить мне. Ты идёшь?
Арина охнула и схватилась за бок. Боль усиливалась слишком быстро. Жизненные силы таяли, она опустилась на колено, чувствуя, что теряет сознание. «Нет, этого нельзя допустить. Ни в коем случае нельзя потерять сознание здесь. Иначе будешь бродить по этим бескрайним холмам серой пыли, пока сама не распадёшься на атомы».
«Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих», — прошептала она.
— Он не поможет, — послышался новый голос. Теперь он больше походил на голос одного популярного ведущего из Ютуб — жёсткого последователя науки. «Умастил голову мою маслом», — продолжила она, «и чаша моя полна». Сил становилось всё меньше. В этом мире, в котором отсутствовало время, слышалось её угасающее сердцебиение. «Это всё иллюзия», — прошептала она. «Меня нет здесь. Я иду по своему пути. И благость и милость Господни да пребудут со мной во все дни жизни моей, и пребуду я в доме Господнем».
В последний момент ей показалось, что она увидела женщину, идущую к ней по серой пустыне. Затем она почувствовала, как некая сила поднимает её вверх и несёт куда-то. Боли в боку больше не было, саднящие раны на руках перестали существовать, укол в ноге прошёл.
Она ощущала своё тело, но больше не ощущала боли. Глаза открывать не хотелось — не хотелось видеть очередную иллюзию или разговаривать с кем-то. Ощущение полёта прекратилось, и она осознала, что стоит в каком-то помещении с белыми стенами. В помещении стояла кровать, на ней лежал спящий человек. К нему была подключена аппаратура. Она подняла руку с медальоном и увидела, что он сияет, словно белое солнце. «Ну вот, я и нашла тебя», — прошептала она. Ей было не впервой стоять у постели умирающего, обращаясь к высшим силам. Она продела долгий путь, но сейчас, несмотря на то что боль отступила, она чувствовала себя очень уставшей. Стены помещения стали расплываться, изображение теряло резкость.
«Нет, нет», — подумала она. «Мне нельзя вылетать отсюда. Сейчас нельзя. Моя миссия ещё не завершена».
Она сжала в руке медальон.
«Господи, помоги!» — помолилась она самой простой молитвой, доступной каждому христианину. «Господи, помоги! Матерь Божья, помоги! Матерь воина, помоги!»
Она открыла глаза — чёткость изображения вернулась. Она шагнула к солдату, лежащему на кровати, наклонилась над ним, прикоснулась к его груди в области сердца, ощутила, как её рука проходит сквозь его тело. Вторую руку она положила чуть ниже — туда, где должен был находиться второй осколок.
«Матерь Божья, помоги!» — повторила она.
В этот момент она увидела возле себя сияние — силуэт, тёплый, жаркий с одной стороны и поменьше с другой стороны, тоже светлый и ласковый.
«Матерь воина, помоги!» — попросила она, концентрируясь на осколках в теле воина.
Она представила, как те медленно отдаляются от жизненно важных органов и покидают тело. Тут же она почувствовала, что силы покидают её, и изображение вновь расплывается. Удержать его она больше не могла, как ни пыталась. Всё перед глазами залило белым светом.
В коридорах госпиталя слышались торопливые шаги, писк аппаратуры… Группа людей вошла в палату реанимации.
— Этот? — спросил кто-то.
— Да, он.
— Что случилось?
— Мы не знаем. Мы услышали сигнал.
Доктор подошёл к нему, осмотрел.
— Нужна операция. Срочно. Готовьте его. Похоже, осколок сместился. Что произошло, как это могло быть — не важно. Транспортируем его в третью операционную.
В небольшой, просто обставленной квартире на полу лежала женщина с рыжими волосами, средних лет, в голубой тунике.
Она пошевелилась и открыла глаза, села, опираясь на руки. Осторожно встала и подошла к окну. На дворе было лето, город утопал в зелени, было очень жарко, слышалось пение цикад. Она сделала глубокий вдох.
«У меня… у нас получилось?» — мысленно обратилась она с вопросом, посмотрев вверх.
В госпитале человек после операции медленно приходил в себя. Он был уже отключён от аппаратов искусственного дыхания. Рядом дежурила медсестра, она прикоснулась к его руке и посмотрела на прибор, регистрирующий сердечный ритм.
— Всё хорошо, — прошептала она. — Операция прошла успешно.
Молодой человек открыл глаза.
Ольга Хрисанова
«История не терпит суесловья. Часть четвертая»

История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3
В октябре 1894 года Городская дума приняла решение об отводе земли, на Крепостной площади, для установления памятника Екатерине II. Видя, что дело с памятником всё же не продвигается, скульптор пытается воздействовать на общественное сознание иными способами. Так в мае 1894 года он передаёт в дар Кубанскому казачьему войску пятьсот экземпляров изображённых и изданных им икон просветителей-славян, братьев Кирилла и Мефодия. Иконы были освящены петербургским митрополитом Исидором и, согласно желанию академика, предназначались для распространения по всем учебным заведениям города и области, а также «в хату той станицы, которая, – как писал скульптор, – примет меня Михайлу Нэчосу, своим соказаком».
Он составляет описание будущего памятника и издаёт его отдельной брошюрой. Так он пытался ускорить сооружение памятника, застопорившееся по непонятным причинам. В одном из писем атаману Я.Д. Маламе, он называет свой памятник злосчастным… Может быть скульптора озадачило то, как на Кубани, в Екатеринодаре был отмечен столетний юбилей переселения черноморцев, столетний юбилей войска, к которому-то и было приурочено сооружение памятника. Событие для области огромной важности, к которому готовились заранее, оказалось… по сути просмотренным… Вряд ли это можно считать каким-то досадным недосмотром или чиновничьим попустительством, ибо мероприятия такого характера организуются и проводятся властью, а не возникают в народе стихийно. В последовательности событий чётко угадывается некая режиссура… В этом нет никакого сомнения. Попытаемся указать на её признаки: «…И много разных иных событий произошло в Екатеринодаре в этом году. Одни в сиюминутности были забыты сразу же и не оставили о себе следа, другие, став «фактом истории», уходили в небытие постепенно, с тем, чтобы когда-нибудь объявиться новому поколению горожан, как находка краеведа или открытие учёного. Но в том круге городской жизни, как ни странно, оказалось на обочине и событие знаменательное, представлявшее в истории города крупную веху, – его 100-летие» («Екатеринодар – Краснодар. Материалы к Летописи». Краснодарское книжное издательство. 1993 г.).
Историк П.П. Короленко в связи с этим писал: «1893 год прошёл почти незамеченным, не оставив после себя памятника истории города. Таким образом, тот труд, который теперь сравнительно легко выполнить, завещается нами потомству. Затеряются, пожалуй, некоторые документы, сойдут со сцены старожилы, и в конце концов придётся догадываться о многом из того, что теперь без труда может быть выяснено».
Да, действительно странно, что главное событие в жизни войска и области, к которому готовились, в связи с чем замыслили сооружение грандиозного памятника, оказалось «на обочине». Тут просматривается очень важная взаимосвязь для понимания смысла случившегося: юбилея «не заметил» город, и это попущение распространилось на всю область. То есть, преобладающей оказалась позиция города, который давно уже считался неказачьим.
Примечательна попытка вскрыть причины такого, действительно странного положения: «Трудно ныне судить о том, почему бывший войсковой град, переживший в 90-е г. ХIХ в. пору расцвета, почти не вспомнил о своём юбилее. Возможно сыграли какую-то роль и обновление его населения после 1867 г. и начавшаяся в это время подготовка к более масштабному торжеству – 200-летию Кубанского казачьего войска». Ведь был изменён статус города – из войскового он становился гражданским, согласно которому, казачье население вытеснялось на периферию… А собственно, почему? Казаки, освоившие край и выстроившие свой город оказались как бы и ни к чему, как своё трудное дело освоения края и защиты его сделавшие…
Но откуда и с какой стати всплыла вдруг, выскочила, как чёрт из табакерки, другая дата – 200-летие войска и действительно ли она являлась «более масштабным торжеством»? В исчисление юбилейной даты войска, именно во время подготовки его к своему 100-летию, как уже сказано, вмешалось военное ведомство. Естественно недоумение краеведа Евгения Хорошенко, справедливо писавшего о такой неожиданной перемене юбилеев: «А местное начальство, по рекомендации военного министра, вместо столетней годовщины переселения на Кубань бывших запорожцев, решило отметить 200-летие Кубанского войска по старшинству от Хопёрского полка, вошедшего в состав Кубанского войска, торжественно заложив фундамент будущего памятника» («Кубанский курьер», 8 апреля 1993 г.). Самое любопытное состоит в том, что речь идёт о фундаменте памятника Екатерине II. То есть, в ходе празднования 200-летия, вместо 100-летия, заложили фундамент памятника Екатерине, отметив это на закладной надписи: «Памятник Екатерине II заложен в городе Екатеринодаре при праздновании 200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска, сентября 9 дня 1896 года…». Словно это 200-летие имело какое-то отношение к Императрице.
Но даже военные понимали всю несостоятельность, нелепость и неоправданность такого исчисления истории Кубанского казачьего войска и вытекающей из него подмены одного юбилея другим. В том же издании военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа «Памятники времени» отмечалось: «Но хопёрские казаки появляются собственно на Кубани лишь с 1825 года и входят в Кубанское войско только как одна из его составных частей; настоящим же корнем его послужила старая Запорожская Сечь, появившаяся на нижней Кубани ещё в царствование Екатерины Второй, в 1792 году под именем верного Черноморского войска. С тех пор черноморцы, свято хранившие заветы старины, жили своею обособленною характерною жизнью вплоть до 1860 года, когда с учреждением на Северном Кавказе Кубанской и Терской областей, к ним были присоединены ещё линейные казачьи полки».
Странно, как могли многоопытные администраторы тогда и нынешние историки теперь, запутаться в исчислении истории войска, если скульптор М.О. Микешин, изучая его историю, сразу же определил очевидный, не подлежащий никакому сомнению факт: «История Кубанского войска начинается с того времени, когда Императрица Екатерина своим самодержавным словом призвала запорожцев к новой жизни».
Противоборство памятников
Таким образом, закладка фундамента памятника Екатерине II при праздновании 200-летия войска дала повод считать, что величественный памятник имеет какое-то отношение к этому надуманному юбилею. Подмена была совершена… Причём, не только в датах, но и в самих памятниках. Столетний юбилей переселения черноморцев, обретение ими земли на вечные времена и 200-летие войска, исчисленное по старшинству от Хопёрского полка, даты столь разнохарактерные и разномасштабные, что даже их простое сопоставление ничем не оправдано. Но государственное оказалось подменённым ведомственным.
Но для того, чтобы совершить эту подмену с датами, надо было «не заметить» столь ожидаемого столетнего юбилея переселения черноморцев на Кубань. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, главное оказалось утопленным во второстепенном, отвлекающем внимание от основного. Завязывается мало что значащая дискуссия по какому-нибудь вопросу не дискуссионному. Так было и в нашем случае.
«Забывается» грандиозное событие – столетие войска, но разгорается дискуссия об уточнении дат основания города, хотя понятно, что такое событие не может быть точечным, а стало быть, и спорить собственно не о чём. Но главное состояло в том, что речь идёт уже не о войске, а всего лишь, о городе. А о том, что дату решено отметить установлением грандиозного памятника Екатерине II в этой «дискуссии» и вовсе не упоминается. Так смещаются смыслы, в результате которых получается нечто совсем иное, чем предполагалось. В нашем случае оказались ничем не отмеченными, вовсе проигнорированными столетние юбилеи и войска, и города. И никому, кажется, в голову не приходило, что не может быть одновременно столетия города и двухсотлетия войска, так как это составляющие одного и того же грандиозного события – водворение верных черноморцев на берега Кубани.
16 октября 1893 г. в «Кубанских областных ведомостях» появилась статья Е.Д. Фелицына «По поводу столетия со дня основания города Екатеринодара». Уже не войска, а города. Автор, дискутируя с другими исследователями – И.И. Дмитренко, И. Бентковским, обосновывал свою точку зрения на вопрос о дате основания города. Если И.И. Дмитренко полагал таковой 9 июня 1793 г., когда черноморские казаки, остановившись в Карасунском Куте, приняли решение построить «войсковой град», а И. Бентковский отмечал, что название «Екатеринодар» появилось в официальных бумагах с 1 декабря 1793 г., то, по мнению Е.Д. Фелицына, днём основания города следовало считать 18 сентября 1794 г., когда было произведено его размежевание по плану. Тем не менее, всеми признавалось, что «местность при Карасунском Куте стала заселяться немедленно по прибытию туда черноморцев…». Лишь дискуссии историков ознаменовали столетний юбилей Екатеринодара и войска. Официально эта дата не отмечалась, не было юбилейных изданий.
А причина такой «забывчивости» просматривалась. И состояла она в том, что городу не особенно хотелось чествовать и казачество, и Императрицу Екатерину Великую, не особенно хотелось выпячивать столь очевидный символ русской государственности.
Но поскольку, столетие войска – дата действительно знаменательная и игнорировать её совсем уж было невозможно, то нужен был некий отвлекающий смысловой повод. И он вдруг нашёлся: исчисление истории Кубанского войска по старшинству от Хопёрского полка, видимо, в расчёте на психологическое восприятие – чем длиннее история, тем мол, лучше, хотя этносам так же, как и людям, пристало гордиться своей молодостью, а не старостью. Всё остальное должно быть утоплено в высокопарной патриотической риторике и пышности празднества.
Правда, о памятнике Екатерине II иногда поминалось. Так 15 июля 1895 «Кубанские областные ведомости» сообщали: «Дело о постройке памятника Екатерине II на Крепостной площади подвигается вперёд: модель готова и скоро будет утверждён проект. Идут переговоры с художником М.О. Микешиным по поводу заключения с ним контракта на сооружение памятника. Всё сооружение М.О. Микешин принимает на себя». Хотя, как помним, утверждение модели памятника произошло весной 1893 года…
О справедливости логики моих размышлений свидетельствует и то, что подменой юбилеев не ограничились, но попытались подменить и сами памятники. Городское общество, вроде бы, благодарное казачеству, решило воздвигнуть в честь него другой памятник, не такой, о каком мечтало казачество и уже приступило к его созданию, а обелиск, в связи с его двухсотлетием, хотя городу, основанному казаками, исполнилось только сто лет. Причём, решение это почему-то принималось на чрезвычайном заседании Думы. Как это было, сообщает издание «Памятники времени»: «Самый Екатеринодар пережил уже целое столетие, а потому городское екатеринодарское общество, унаследовавшее город от бывших черноморских казаков, пожелало в знаменательный день юбилея почтить в лице Кубанского войска первых основателей города, первых колонизаторов края и в честь его воздвигнуть в Екатеринодаре памятник, который засвидетельствовал бы потомкам признательность сограждан к боевым подвигам порубежных казаков и ту живую связь, которая испокон веков существовала между русским народом и его передовым казачеством – носителем государственных идей и русской культуры на самых далёких окраинах империи. Мысль эта проведена была на чрезвычайном заседании Думы 6 июля 1896 года городским головою В.С. Климовым, представившим и самый проект памятника, сделанный по рисунку архитектора Филиппова. Предложение было принято единодушно и город постановил тут же ассигновать на памятник пять тысяч (фактически памятник обошёлся городу вдвое дороже)». Странная всё-таки нелогичность, вроде бы, никем не замечаемая: памятник основателям города, свершившим это дело сто лет назад, предлагается отмечать двухсотлетием их войска… И не памятником Екатерине II, а всего лишь обелиском, решение по установлению которого было принято столь спешно. И в то время, когда уже шла работа над памятником Екатерине II…
Сооружение же городского памятника, точнее – обелиска не могло окончиться к самому дню юбилея, назначенному в том же году на 7 сентября, а потому город ограничился в этот день поднесением войску, через особо уполномоченных лиц, только фотографического снимка с модели самого памятника. Странная, конечно, спешка с этим памятником, посвящённым двухсотлетию. Причём, эта дата отмечалась, по сути, дважды – сначала 8-9 сентября 1896 года, потом уже при открытии самого обелиска 7 мая 1897 года. На второй же день празднования состоялась закладка фундамента памятника Екатерине II, но на закладную доску была занесена надпись о «двухсотлетии»… Почему 200-летний юбилей войска назначен был на 7 сентября, неведомо, так как, уж если исчислять историю по азовским походам Петра I, то Азов был взят 19 июля 1696 года…
7 мая 1897 года на пересечении улиц Красной и Новой состоялось открытие обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, созданного по проекту областного архитектора В.А. Филиппова. Надпись на нём гласила: «Кубанскому казачьему войску Екатеринодарское городское общество в ознаменование двухсотлетия войска 8 сентября 1896 года». Это происходило уже без М.О. Микешина. 19 января 1896 года он скончался и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. О памятнике Екатерине II на какое-то время позабылось. Архитектор Е.Е. Баумгартен, проектировавший памятник, зять М.О. Микешина писал: «Это затянувшееся дело сильно повлияло на впечатлительного и уже сломленного недугом Михаила Осиповича. Готовая восковая модель угрожала разрушением при изменяющейся зимою комнатной температуре. Это обстоятельство вызывало сильные опасения автора, и было доводимо неоднократно до сведения Главного казачьего управления».
Под выплясывание казачка торжествовала иная символика и иная идеология. Что же торжествовало? Памятник городского общества, в честь двухсотлетнего юбилея войска, представляет собой четырёхгранную колонну-обелиск. Такие пирамидки, скорее ставят на могилах, чем в ознаменование знаменательных дат. Примечательно, что в это же время обсуждался памятник в Тамани, на месте высадки первых черноморцев на Кубанский берег, памятник, посвящённый столетию войска. Там тоже предлагался подобный обелиск. Но был отвергнут. Любопытна причина отклонения такого памятника – из-за своей ординарности: «По изложенным приказаниям наказного атамана в областном правлении, был составлен проект памятника, представляющий собою сложенный из камня обелиск… Следов в делах не осталось, но надо думать, что проект памятника, составленный в областном правлении, был признан не удовлетворительным по своей ординарности» (К.П. Гаденко, «Кубанский памятник запорожским казакам». Екатеринодар, 1911 г.).
В конце концов, как известно, там был установили памятник, а не обелиск, хотя на месте высадки более уместным мог быть именно обелиск или памятный знак. Памятники ведь сооружаются в городах. А тут в городе, в областном центре, по случаю столь активно навязываемой и разрекламированной даты и вдруг – простой обелиск, напоминающий скорее надгробие… Видимо, из-за упрощённости и ординарности такого обелиска, его и пришлось столь обильно сопроводить надписями, что для памятника, в общем-то неестественно.
Кроме того, такой ординарный обелиск оказался альтернативно противопоставленным величественному монументу Екатерине II М.О. Микешина, посвящённому столетию Кубанского казачьего войска. Очевидно, что городское общество соорудившее этот обелиск в честь казачества, считало, что для него сойдёт и попроще. Противопоставление же этого обелиска памятнику Екатерине II, наводит на мысль о том, что в результате подмены смыслов государственная и казачья идеи оказались действительно разделёнными, что для российской истории неестественно.
Такая очевидная подмена памятников, смыслов, символов, которая со временем обнажается всё более, тогда, может быть, и не носила характера преднамеренности и умысла, хотя не обошлось, видимо, и без них. Всё происходило, «по убеждению», как говорится, из лучших побуждений, как и бывает обыкновенно в области идеологической. Кроме того, подобные безликие и ещё более упрощённые обелиски, посвящённые 200-летию войска, были воздвигнуты и в некоторых станицах, как, к примеру, в станице Безскорбной, открытый 8 сентября 1896 года. И это при всём при том, что памятник Екатерине II для Екатеринодара был признан шедевром монументального искусства: «Всю свою русскую душу, свой великий талант, всё свое искусство и глубокое знание русской истории и русских типов вложил Микешин в это последнее своё творение (Д.А. Славянский).
Характерно в этом отношении страстное суждение краеведа и педагога К.Т. Живило, в котором чувствуется даже обида, что войску не дают ознаменовать обретение земли, дарованной Императрицей. И хотя краевед говорит в данном случае о таманской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в его словах чувствуется общий смысл: «Екатеринодар не казачий город, а воздвиг войску колонну за 11000 руб., а мы, потомки запорожцев, разве не можем сберечь церкви, гордости своей? Как будто бы сон нагнал на всё войско в течение 100 лет, захлёбываясь в просонках лишь горилкою. Проснитесь же, славные казаки, и исполните свой долг пред умершими великими своими предками, давшими жизнь и славу войску… Забыто всё, постыдно забыто. Кубанцы не привыкли обсуждать свои вопросы и потому многое позабыли. Будем же надеяться, что после манифеста 17 октября 1905 года войску будет дана возможность обсуждать, как сберечь древнюю церковь и ознаменовать занятие земли, дарованной Императрицей Екатериной Великой, постановкой особого памятника». («Экскурсия на Таманский остров». Анапа, 1909). Как видим, на Кубани изначально шла борьба памятников, что не могло быть случайностью и что выражало определённое духовно-мировоззренческое противоборство.
Петр Ткаченко
Продолжение следует
«Иван Коммунаров, его жена и мертвые души»

Во все времена, пожалуй, с античности и средневековья до дня нынешнего, студенчество являлось племенем не совсем социально полноценным и даже во многом бесправным. Его можно было безжалостно припахать в качестве бесплатной или почти бесплатной рабочей силы. Бедного полуголодного студента можно было запросто бросить на строительство коровников и теплиц, на битву за урожай помидоров, лука, кабачков, винограда и прочего харча. Студента можно было, в приказном порядке наградить походом на демонстрацию, митинг и другие массовые мероприятия.
Может быть, это дело кого-то и напрягало. Кто-то пытался сказаться больным и немощным и стремился правдами-неправдами, блатом и знакомствами достать всяческие справки, чтобы, к примеру, не ехать в колхоз. Но основная масса наших однокурсников относилась к этим вещам философски, и даже с юмором, Многие, наоборот, с удовольствием участвовали во всем этом и были бодры и довольны, ибо знали, что все эти колхозы, стройотряды, раскопки, пионерские практики и прочее вносили в студенчество особый кайф и незабываемость. Благодаря этим делам люди сближались, становились закадычными друзьями, а то и влюблялись. Именно в условиях трудового десанта рождались приколы, байки и хохмы, которые помнятся даже через тридцать лет.
Кстати, после вступительных экзаменов, нас, новоиспеченных студентов истфака, как и всех остальных, первым делом послали в колхоз, я так до сих пор наивно полагаю, для того чтобы не только собирать урожай, а еще и для более плотного и тесного знакомства. Но, так как основная масса студентов была несовершеннолетними, мы работали до обеда. Все остальное время под предводительством наших кураторов из числа старшекурсников и пары преподавателей, мы занимались, бог знает чем. В общем, балдели: играли в футбол, пели песни под гитару, смеялись, пили вино, сочиняли и устраивали свои праздники, проводили какие-то конкурсы, викторины, да просто жили, наслаждаясь молодостью и здоровьем. Мне это было особенно интересно и ценно, ибо я буквально пару месяцев назад еще находился в рядах Советской Армии, и, уволившись в запас, смотрел на гражданскую жизнь немного одуревшими глазами. А тут студенчество, веселое, сумасшедшее и захватывающее!
Однажды, на курс пришло довольно странное задание. Требовалось выделить некоторое количество студентов для нетрадиционной и странной даже для «бесправных студентов» работы. Мы на день должны были стать счетчиками! Именно! Нас рассаживали по автобусам, выдавали какие-то таблицы, в которых мы должны были заносить количество пассажиров, входящих и выходящих на каждой из остановок.
Подготовка к новому для нас мероприятию началась задолго до назначенного часа, когда раненько так утречком у входа в 9-е общежитие нас поджидали представители городского автобусного парка. С вечера, как это часто бывало, мы собрались в одной из комнат посидеть, попить пивка, сыграть в картишки и, как водится, поржать от души. Ко сну решили не отходить. А зачем? В пять утра нас должны были уже забрать под белы рученьки на маршруты. Энергия, бурлившая в нас в те годы, не позволяла тратиться на какой-то там сон.
Еще до рассвета мы вышли во двор общаги. Кое-как сгруппировались. Ответственный преподаватель достал списки «обреченных». Тут началось! Толи фамилии были написаны не им, и к тому же почерком участкового врача, толи он со слепу и от недосыпа плохо понимал собственные почеркушки на кусочке бумаги, но фамилии в его интерпретации получались не совсем наши и вызывали ржание, граничащее с истерикой. Посудите сами фамилии Шнайдер и Цукахин получились как Гипайдер и Уукахин, что дало лишний повод громоподобно закатиться смехом, прямо на ступеньках общаги.
Кое-как справились с оглашением списка. Далее, нас погрузили в автобусы и отвезли в автопарк. Мы – трое приятелей: Вова Шнайдер, я – Толик Цукахин и Гела Тугуши, по кличке Биджик попросились на один маршрут в икарус-гармошку. Задача каждого из нас – сесть перед дверью автобуса и, как я уже говорил, записывать количество входящих и покидающих авто, людей. Не помню точно, первый рейс вроде как отработали на совесть: вели серьезный учет пассажиров, красиво вырисовывали циферки в своих листочках. А дальше стала медленно, но настойчиво сказываться усталость после бессонной ночи. Плюс еще убаюкивающая тряска и дикое однообразие работы. Глаза стали сами собой предательски закрываться, опускалась голова, периодически встречая преграду в виде поручня или пассажира. Из рук стали вываливаться то ручка, то лист бумаги. Несколько раз заботливые пассажиры любезно поднимали нам наши орудия труда. Как-то, на одной из остановок в автобус зашла дряхленькая такая старушка. Кто-то из пассажиров буркнул в сторону Биджика:
- Эй, паренек, уступи место бабушке.
Осоловевший от страшного желания спать Гела возмущенно прорычал, что он, мол, на работе, и ему не положено оставлять свой пост даже по такой причине как немощная «бабушка». Вопрос был снят. А страдающий Биджик продолжал бороться с дремотой.
Со сном каждый боролся своими методами. В паузах между рейсами мы пытались делать физические упражнения, били себя по щекам, умывались холодной водой. Общение и дележка впечатлениями помогали взбодриться. В дороге же сон накрывал нас почти полностью и не давал даже думать.
Дальше в ход пошла смекалка. Мы с Вовой решили сесть вместе. Общение должно было помочь. И тут началось. Невзирая на толпы пассажиров мы стали нести какой-то бред и сами же с него - ржать. Наша фантазия переходила все границы. Мы стали представлять, что название остановок это совсем не то, что они есть на самом деле. Например, остановки КСК (камвольно-суконный комбинат), ХБК (хлопчато-бумажный комбинат) и КМР (комсомольский микрорайон) это на самом деле три адыгейские фамилии и произноситься они должны на адыгейский лад, отрывисто и сурово со сдвинутыми бровями. Остановка «Улица Коммунаров», это вам не организация юных коммунистов, а всего лишь один человек и звать его Иван. Так и решили – Иван Коммунаров! Остановка «Садовая» по-нашему была Голова Садовая. Причем Иван и Голова были мужем и женой. Конечная остановка – Драм Театр нам казался загадочным человеком со странным именем и такой же странной фамилией.
Проржав еще несколько рейсов, мы пришли к обалденной мысли договориться с водителями прекратить эту казнь египетскую и завершить подсчет пассажиров досрочно. Для этого мы занялись приписками мертвых душ. Все пустые графы будущих рейсов были заполнены мгновенно. Ох, какое облегчение мы испытали с Биджиком и Гипайдером, когда наш водила махнул на нас рукой и отпустил по домам. Не помню точно, перехотелось ли нам спать, но счастье облегчения мы испытали невероятное! На этом наша карьера в счетчиках была окончена.
Анатолий ЦУКАХИН
«История не терпит суесловья…»

М.О. Микешин занимал некое особое место в художественном мире. Он был художником, и скульптором стал как бы со стороны. Широкую известность ему принесло, конечно, создание памятника – «Тысячелетие России» для Новгорода. В 1859 году он принял участие в конкурсе и неожиданно для себя и, тем более для профессионалов, победил. Но такое положение скульптора создавало ему массу неудобств, неприятностей и переживаний, вплоть до чисто производственных проблем, когда, скажем, Императорская академия художеств не предоставляла ему мастерских для работ. Даже после смерти скульптора, после создания им последнего памятника для Екатеринодара, по общему мнению, шедевра скульптуры, вице-президент Академии художеств граф И. Толстой писал, что его работы «несомненно, представляют некоторый интерес, особенно ввиду той известности, которою пользовался академик Микешин, художник, хотя и увлекающийся, но обладающий своеобразным талантом». Словно каждый истинный художник обладает не своеобразным талантом… Этот снисходительно-пренебрежительный тон пред тем, что творческий путь скульптора уже завершён и его работы говорят сами за себя, поразителен. Конечно, тут сказывалась обыкновенная зависть. Конечно, досаждала ему во многом привычная чиновническая волокита. Да, было и то, и другое. Но ведь они были замешаны на мировоззренческих понятиях, определялись во многом тем, что мы называем духовно-эстетическими проблемами. Во всяком случае, вряд ли дело было тут в некоем вольнодумстве, которым грешил М.О. Микешин в молодости. Вольнодумство всё-таки предполагает нарушение традиции, в то время как М.О. Микешин оставался в творчестве своём традиционалистом в добром смысле этого слова. Он как бы пытался, проявляя духовный стоицизм, удержать значимость, величие и красоту человека тогда, когда новое время несло его принижение и умаление. Под знаком его освобождения, конечно…
Справедливо писал Валентин Гребенюк, что М.О. Микешин – «один из виднейших русских скульпторов второй половины ХIХ века и, пожалуй, единственный крупный монументалист, автор нескольких известных памятников, созданных в то время, когда скульптура, как искусство, переживала период относительного упадка в связи с развитием так называемого «критического» реализма в живописи. Самой своей природой, скульптура в особенности, мало приспособлена к выражению негативных явлений действительности… Монументальное искусство наоборот, как правило, призвано утверждать и прославлять то, что оно изображает. Наверное, поэтому творческий путь М.О. Микешина и в особенности его посмертная слава, были столь трудными и переменчивыми; при жизни его упорно не признавали царские чиновники от искусства. Он никак не мог отделаться от репутации «левого» художника за революционные увлечения своей юности и, прежде всего, за дружбу с «крамольным» поэтом Т.Г. Шевченко, а после революции его считали чуть ли не апологетом царизма, так как в своих памятниках он изображал русских царей и не мог не делать этого потому, что исполнял оригинальные заказы. Попутно сложилось мнение, что М.О. Микешину, дескать, вообще далеко до мастеров скульптуры прошлых лет, т.е. эпохи классицизма или даже Возрождения, хотя Теофиль Готье назвал однажды Микешина «русским Микеланджело…» («Кубань», февраль, 1992 г.).
Совершенно очевидно, что такая переменчивость славы скульптора была обусловлена вовсе не приверженностью его тому или иному политическому движению, но тем, что он оставался художником тогда, когда художественность, как цельное восприятие мира, размывалась «прогрессивными» поветриями, а в силу преобладающей темы своего творчества, он оставался верен русскому национальному понимаю государственности в то время, когда она незримо подтачивалась…
И, конечно же, узнав о заветном желании Кубанского казачьего войска отметить свой столетний юбилей установлением в Екатеринодаре памятника Екатерине II, М.О. Микешин не мог не откликнуться на него со всем жаром своей души и творчески активной личности. Казалось, ничего не предвещало особых затруднений с созданием памятника. Но сложилось всё иначе.
Более поздние исследователи полагали, что задержка с созданием памятника произошла в связи с болезнью и смертью наказного атамана Кубанского казачьего войска Г.А. Леонова. В какой-то мере это, может быть, и так. Но ведь «задержки» с установлением памятника продолжались пятнадцать (!) лет… Да, конечно, сооружение памятника дело вообще не быстрое. Создание памятника Казаку на Тамани тоже тянулось довольно долго. С установлением же памятника в Екатеринодаре были обстоятельства, которые никак не дают себя расценивать только как чиновничью нерасторопность. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что «задержка» с этим памятником была иного характера. Причина задержки прямо не декларировалась, но она, так или иначе, угадывается. И особенно различается теперь, когда прошло время.
И только в конце декабря 1892 года М.О. Микешин приступает к работе над памятником. Наконец-то предложение о сооружении памятника поступило в Главное управление казачьих войск. Летом 1893 года он вылепил первый эскиз модели.
Весной 1893 года областное правление дало разрешение на сооружение памятника, выделив сто пятьдесят тысяч рублей золотом. Идея памятника, воплощённая в высокохудожественных формах, 23 марта 1893 года была всеми одобрена и удостоилась Высочайшего утверждения Государём Императором. Дело приобретало уже обязательный, общегосударственный характер. Казалось, что теперь ему уже ничто не могло помешать.
Петр Ткаченко
Продолжение следует
«История не терпит суесловья…»

История с историей кубанского казачества
Продолжение. Начало
Сколько же лет Кубанскому казачьему войску?
Эта чрезвычайной важности дипломатическая акция по возвращению на родину Высочайшей милостивой Грамоты о даровании земли на вечные времена, как и войсковых регалий, стала возможной благодаря усилиям многих кубанцев. Это – главное. Ведь во все времена основным и определяющим судьбу и историю народов была земля. Это отразилось в русской литературе, начиная со «Слова о полку Игореве»: «О, Русская земля, уже ты за (не) шеломянем еси». И это всегда удерживалось в народном самосознании, вплоть до выдающегося поэта, по сути, нашего современника Николая Рубцова: «Бессмертное величие Кремля/ Невыразимо смертными словами/. …И я молюсь – о, русская земля! – /Не на твои забытые иконы,/ Молюсь на лик священного Кремля,/ И на его таинственные звоны».
Но не могло не удивлять то, что среди возвращенных регалий не оказалось книг Межигорского монастыря, вообще церковных книг, по которым и устраивалась жизнь на берегах Кубани, хотя увозились регалии в эмиграцию через Екатерино-Лебяжескую Николаевскую пустынь, что при Лебяжьем лимане у станицы Брюховецкой, где эти книги находились. Этот поразительный факт может свидетельствовать только об одном – об общем ослаблении в народе своей исконной веры у всех сословий, у всех противоборствовавших сторон в Гражданскую войну. Да и позже, когда Священное писание перестало восприниматься как единственно спасительным, перестало говорить людям, что оно – не только о прошлом, но и об их нынешней жизни. Собственно, общее ослабление веры в народе и стало основной причиной революционного крушения страны, новой смуты.
Итак, приближалось знаменательное событие в жизни Кубанской области, кубанского казачества, бывшего Черноморского войска – столетие переселения верных черноморцев, бывших запорожцев на берега Кубани. Приближалось столетие, с тех пор как Императрица Екатерина II по слёзной просьбе черноморцев даровала им земли на Тамани «с окрестностями оной», как черноморцы, кубанцы обрели, наконец, долгожданную землю, как решилась их судьба и целого края в стратегически важном регионе страны. Приближалось столетие памятного события, когда черноморцы водворились на постоянное местожительство, сменив на охране границы Кубанский армейский корпус генерал-поручика А.В. Суворова.
Не могло тогда быть более важного, более значимого события для области, чем это. И благодарные кубанцы, помня свою судьбу, решили отметить его достойно, во всей его исторической значимости. Причём, начали готовиться к нему заранее, как говорили они, заздалыгоды. Естественно, возникла идея установить памятник Императрице Екатерине II в Екатеринодаре, в городе, носящем её имя.
Впервые эту идею высказал историк, краевед, археолог, внёсший неоценимый вклад в изучение Кубани и формирование самосознания кубанцев Евгений Дмитриевич Фелицын, имя которого носит ныне Историко-археологический музей-заповедник в Краснодаре. Было это в 1888 году, за пять лет до векового жития кубанцев на своей земле. Время, вроде бы, достаточное для того, чтобы этому замыслу и заветному желанию кубанцев осуществиться в свой срок. Однако, всё сложилось иначе. И никто ни тогда, ни теперь, судя по исследованиям историков, объяснить вразумительно не мог и не может, почему, в силу каких причин и обстоятельств всё произошло именно так.
Инициатива Е.Д. Фелицына получила поддержку в войсковом правительстве. К ней благосклонно отнеслась и общественность. Примечательно, что вопреки традиции, средства на памятник не стали собирать по подписке, а решили изыскать их из войсковых сумм. То есть, создание памятника Екатерине Великой, основательнице и благодетельнице кубанского казачества, изначально мыслилось как дело казачье, как дело чести, прежде всего, войска.
Идея кубанцев была одобрена Главным управлением казачьих войск: «Заветное сердечное желание всех кубанцев видеть памятник Императрице Екатерине II в своём городе, носящем имя своей Августейшей основательницы». Как сообщалось в «Памятниках времени», издании военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа, «среди потомков черноморских казаков и их товарищей казаков линейных давно уже зародилась мысль увековечить память Императрицы Екатерины Великой и соорудить в её честь достойный монумент, дабы тем выразить, хотя бы в слабой степени, всю безграничную признательность и бесконечную сыновнюю любовь к Матери-Царице, как основательнице Кубанского войска, которое обязано ей своим настоящим завидным благосостоянием. Выразителем этой идеи и, вместе с тем, хранителем преданий седой казацкой старины, явилось областное Кубанское правление, принявшее все расходы на сооружение памятника на войсковой капитал, как собранный от тех же безграничных щедрот Императрицы Екатерины» (Тифлис, 1909 г.).
О заветном желании кубанцев отметить столетие войска одним из первых узнал известный художник и скульптор, член Петербургской академии художеств Михаил Осипович Микешин (1836-1896), пользовавшийся славой создателя оригинальных памятников, посвящённых истории Отечества. Он был известен, прежде всего, как автор грандиозного монумента «Тысячелетие России» в Новгороде. Но он создал также памятники Екатерине II в Санкт-Петербурге, в Ирбите, Богдану Хмельницкому в Киеве, адмиралам Н.О. Нахимову, В.А. Корнилову, В.И. Истомину в Севастополе, О.С. Грейсу в Николаеве.
10 января 1890 года он пишет на Кубань обстоятельное письмо, в котором не только выражает своё заинтересованное согласие создать памятник Императрице в Екатеринодаре, к столетию переселения черноморцев на Кубань, но и определяет основной замысел памятника, что это должен быть монумент не только Екатерине, но и казачеству: «Предстоящая возможность тем ещё более лестна для меня, что я волею судеб сделался как бы историческим присяжным увековечивателем памяти этой великой Императрицы, изобразив её прекрасный лик и на памятнике «1000-летие России» в Новгороде, и на грандиозном монументе её имени в С.-Петербурге на Невском проспекте, и в городе Ирбите, а потому осмеливаюсь питать твёрдую надежду удовлетворить всем патриотическим желаниям доблестного кубанского казачества соорудить для него памятник этой государыне. Так, чтобы такой памятник был эпопеей славы основательнице Кубанского казачества и его главного города, а также славы самого казачества».

Петр Ткаченко
Продолжение следует
Гаудеамус, калькуляторы, да бомбы с матрасами!

Что самое волнительное и не всегда приятное в студенчестве. Каждый ответит - сессия! Экзамены, зачеты, бессонные ночи, куча книг на столе и под столом, конспекты, паралич нижней части спины от долгосидения в библиотеках и пр.
Вспомни, ты целые полгода ведешь игривый образ жизни, таскаешься по общагам, пьешь пиво, смеешься, вопишь песни под гитару, а иногда и без оной. Если и ходишь на лекции, то со спущенными рукавами. Впитываешь далеко не все и не всегда, что тебе дают твои профессора и кандидаты наук, а потом, сломя череп, и, путаясь в терминах и датах в течение нескольких дней все это догоняешь, и пытаешься набить свой «чердак» огромной массой информации. А она, подлая, не вся усваивается в столь короткий временной промежуток. Многие файлы вываливаются из ящиков, перепутываются, а некоторые и безвозвратно теряются в глобальном пространстве где-то между созвездием Гончих Псов и Андромедой.
А когда же приходит время расплаты, с этим своим «чердаком», опухшими от недосыпа глазами ты приходишь в аудиторию, дрожащим голосом здороваешься с преподавателем, вылавливаешь на его столе «неведомую рыбку» в виде экзаменационного билета и опускаешься в мутную воду подготовительного процесса.
Чтобы выдать какой-нибудь внятный результат тебе дается всего двадцать минут. За это время ты должен найти в извилинах, к примеру, основные этапы Столетней войны, реформы Ван Мана и восстание «Красных бровей» или доказать историческую необходимость Крещения Руси. От волнения у некоторых товарищей забывается даже то, что казалось, сидит в мозгу основательно и незыблемо еще со школьного курса. И тогда становится грустно, и при ответе ты начинаешь нести абсолютную чушь, доселе неведанную и сказочную. Особенно это имело место в первые год - полтора студенчества. Затем становилось проще. Опыт и привыкание делали из первокурсников стоиков и пофигистов. Особенно это касалось мужской половины нашего факультета.
Большинство же девушек с нашего курса так и испытывали жуткие волнения до самого выпуска. Особо впечатлительные метались по коридору вдоль «принимающей» экзамен аудитории и что-то шептали себе в лифчик. Это были либо молитвы, либо маты, либо повтор материала, либо все вместе. А всякого выходившего из кабинета со счастливым лицом «отмучившегося» немедленно окружали и засыпали глупыми вопросами типа: «Что попалось?» или « Правда, что препод – зверь?»
Если вдруг оказывалось, что ты вытащил билет, который та или иная девочка знала на «6», начинались страшные проклятия и «рвание» волос на голове.
Экзамен взбадривал любого, даже самого ленивого студента. Но, после сессии расслабуха чувствовалось на всех курсах и по всем общагам.
Но вернемся к экзаменам. Итак: ты страшно корпел над проскользнувшим мимо тебя материалом в течение семестра, так сказать, догоняя, но наступает экзамен, и ты понимаешь, что знания опережают тебя на целый корпус, и ты не в состоянии до 9 утра преодолеть, запомнить и переварить половину истории средних веков. Ты собираешь волю в кулак и нервно позавтракав, выдвигаешься в направлении университета. «Малое распятие» назначено на 9 утра!
По дороге, на которую тебе отведен целый час, ты не успеваешь ответить толком ни на один вопрос, заданный самому себе. В голове каша из Франкского завоевания Галлии, основных черт раннего феодализма Западной Европы, Фридриха Барбаросса и династии Гогенштауфенов.
Как же с этим справиться, как систематизировать все это знает только ОН! Да и то вряд ли… Черт возьми, надо было ходить на все лекции и семинары, надо было заглядывать в учебник хотя бы за неделю до расплаты. Да, два дня - это все-таки мало!
Да, через четверть века я могу смело признаться, что не являлся прилежным студентом, я даже не был фанатом того или иного раздела истории. Пожалуй, только на первом-втором курсе я думал, что история это наука, и наука серьезная и конкретная, но потом некое разочарование постигло меня. История оказалась набором из бумаги, клея и ножниц. Ее многострадальную можно перекроить по желанию, как угодно. А еще мне ужасно не нравилось, когда при написании любой курсовой или дипломной работы надо было обязательно использовать работы классиков марксизма-ленинизма. Что они думали по этому вопросу? Елы-палы, тоже мне специалисты по всем вопросам. Ну, да ладно, идеология – почти религия.
Так я и учился, не вынимая рук из карманов и цигарки изо рта, но мне было весело.
Я скорее был любопытным наблюдателем, чем студентом, стремившимся приобрести профессию и сделать карьеру. Мне было интересно жить студенческой жизнью, а еще мне было интересно, что из всего этого получится. Идти работать по специальности после окончания я не мечтал. Хотя два с половиной года я отдал родной школе и даже был классным руководителем. Ну, ладно вернемся…
Итак, экзамен, сессия. Надо было что-то с этим делать. Где-то я учил, где-то выезжал на «авось», а где-то мне просто везло, что ли. Иногда мне помогали другие мои таланты, такие как природный юмор, перешедший ко мне по отцовской линии, или недюжинные вокальные данные.
Например: на экзамене по латыни мне пришлось туго. Во-первых, преподаватель «мертвого языка» была женщиной принципиальной, строгой и уж очень недемократичной. Она, наверняка, считала, что латынь важнее, даже чем корпускулярная теория света. Во-вторых, я как это иногда случалось, что-то недоучил, недопонял, недоглядел и недомыслил.
Традиция изучать латынь – дело хорошее, но что-то нам подсказывало, что не очень пригодное в жизни. Конечно, было круто, выучив пару десятков умных фраз классиков античной философии, где-нибудь ляпнуть что-то типа: Quod licet Iovi, non licet bovi или Aquila muscas non captat. Но вот зачем нас мучали грамматикой латыни?!
Так вот, надеясь на Бога, черта и красивые глаза, я поперся на экзамен. Без особого страха с наглой рожей я выбрал билет и сел в уголке готовиться. Первый же вопрос поверг меня в легкий ступор. Так, придется все же что-то отложить на осень. Грамматика для меня – ноль. Афоризмы я знал на 80 процентов. Что делать? Придется петь… Да! Третьим вопросом на всех билетах стоял «Gaudeamus». Помните, песенка такая, гимн студенчества, в которой всем предлагалось возрадоваться и веселиться, что мы собственно и делали. Но так как все поголовно просто рассказывали стихи гимна, я решил, обладая мощным баритоном, спеть это дело, надеясь отсечь все остальные вопросы по грамматике.
Я встал, для пущей важности закатил глаза в потолок и запел:
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jugundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Будучи способным ко всякого рода языковой иностранщине, я супер правильно произносил все латинские слова, особенно те, где звучала буква «G», которую надо было произносить этак с придыханием, так мощно, почти по-кубански. Вот я и выдал. Я пошел на штурм крепости. И что?
Да! Попал в самую точку, вернее в самое сердце. В ее латинское сердце. Будучи скупой на похвалу, и даже на легкую улыбку, маленькая, на вид хрупкая, но жесткая характером женщина-преподаватель все же немного растаяла. Она не улыбнулась, лишь приподняла бровь. Как мне показалось, это означало то самое «да!». А как иначе объяснить мои четыре балла? Ну, ведь, блин, заслужил. Нет разве? Много студентов на экзамене пели?
Так пошли дальше. В процессе учебы мы – небольшая группа юношей-студентов поняли, что экзаменоваться лучше в первой пятерке. Во-первых, многие преподаватели поощряли смелость. Первая пятерка – это же спартанцы, отважные, самоотверженные и дерзкие, а это сразу плюс балл, как минимум. Во-вторых, в период всеобщего дефицита и огромных очередей конца 80-х, начала 90-х, за пивом приходилось стоять уж очень долго, а со свежим была вообще беда. А тут в «пивнушечку» на Таманской «волшебный напиток» привозили в 11 часов. Надо было успеть сдать экзамен и занять очередь. Так что, вперед спартанцы!
Иногда успешной сдаче экзамена или зачета способствовало упомянутое выше чувство юмора. Однажды я сдавал… и в билете был вопрос об Индии середины 19 века. Нашел карту – официальную шпаргалку и пошел. Вроде все было хорошо. Оказалось я что-то помню:
- Завершение завоеваний Ост-Индской компанией Индии. Индия, как сырьевой придаток Англии. 1857 год - начало Сипайского восстания. Кашмирское противостояние и прочее. Итоги восстания. Вроде все.
Я замолк. Преподаватель тоже молчит. А потом как спросит:
- Что там насчет социально-экономического положения?
Ну, я опять про сырьевой придаток и колониальную зависимость. А он, мол, ответ не полный.
- Да что ж такое, - думал я.
- Придаток придатком, - вымолвил тут экзаменатор, - а вот, скажите мне, имела ли Индия свое производство?
Я как-то начал внутренне психовать. Вот пристал. Я так блестяще прошелся по карте и даже вспомнил парочку героев Сипайского восстания, приплел литературного героя Жюля Верна капитана Немо, а тут вот, доп. вопрос. И тут меня дернуло включить дурака. Я и включил.
- Да, - выпалил я с нервом, - производство в Индии было. Бомбы делали в Бомбее, в Бенгалии – бенгальские огни к Новому году, город Мадрас славился производством матрасов.
Глаза моего мучителя округлились, он выдержал паузу, улыбнулся и спросил:
- Ха, а что, по-вашему, делали в Калькутте?
Я среагировал молниеносно:
- Калькуляторы!
Пять мне не поставили, но смеялись мы долго.
Анатолий ЦУКАХИН
Два арбуза

Я не был прилежным студентом. Посещение 100 процентов лекций, семинаров и коллоквиумов не было моей особенностью. Молодость манила то на пиво, то в кино, то к девушкам из параллельных факультетов. Где-то курсе на третьем, так получилось, да простит меня Заратустра, мне не довелось побывать ни на одной из лекций одного из преподавателей истфака по имени Флора Валентиновна. Ни название предмета, ни сути оного я, к сожалению, не знал ни тогда, ни, естественно сейчас. Помню только, что дисциплину все же надо было сдать.
Кто-то из сокурсников сказал, что предмет зачетный, а не оценочный, преподаватель мягкий и понимающий, так что сдать его будет проще простого. Скорее всего, как утверждали особо уверенные граждане истфака, зачет пройдет на последней лекции автоматом. Главное - не забыть зачетку.
Зачетку-то я взял, но вот появиться даже на последнем занятии так и не удосужился. Что-то меня отвлекло. Наверное «она». Так вот, лекции я «прощелкал», а брешь закрывать надо. Узнав когда, все-таки сдача зачета (для меня и мне подобных), я направил свои стопы в сторону нужного кабинета. У его дверей я обнаружил еще парочку таких же как я, тянущихся к просвещению товарищей.
" Главное было не забыть имя-отчество преподавателя", - думалось мне, - а они были немного странные. Вернее - имя. Отчество – Валентиновна, тут все понятно, а вот имя Флора… Ну, согласитесь - это ведь не так просто как Света, Таня или Наташа. В самом слове «флора» мне все было ясно, мир растений, чего проще. А вот назвать так человека… И поэтому я, зайдя в кабинет, непонятно почему произношу:
- Здравствуйте, Фауна Валентиновна, разрешите?
После паузы и пристального взгляда поверх очков, она мягко так произносит:
- До свидания. Идите, учите предмет, а заодно и мое имя.
Я молча вышел, не сразу поняв что, собственно произошло. Осознание того, что я дал маху, пришло чуть позже. Посидев в коридоре еще полчаса, я уяснил, что проскочить «по-быстрому» не прокатило. Замаячила осень! Придется пересдать, когда опадут листья.
Я так не любил «хвосты». Поговорка про «сделал дело – гуляй смело» с детства для меня имела значение. Ну, ничего не поделаешь. Судьбец!
Лето было в разгаре. Студенческие дела плотно переплетались с личными, я немного успокоился, забыл на время про «хвост». В конце концов, разве это неприятности? Ладно. Потом решу задачу. Осень есть осень, лето - есть лето!
Отдохнувший, бодрый, наполненный жизнью, в начале сентября я вспомнил о должке. Ну, что ж, надо так надо. Еще пару дней и пойду зондировать, как, когда и где… Ах, да, надо бы почитать книжечку, или конспектик у кого-нибудь взять, проштудировать. Или хотя бы узнать, наконец, как предмет сей называется. Имя я уже выучил, оказалась на всю оставшуюся.
Я уже был близок к тому, что бы ехать в универ за информацией, как вдруг, гуляя в центре города, я увидел её. Флора Валентиновна, небольшого росточка, среднего возраста женщина, тянет в обеих руках два огромных арбуза. Дело не в «хвосте», но я был рад. Судьба повернулась ко мне лицом. Обгонав преподавателя, я подхватываю ловким движением обе авоськи с мощными бахчевыми.
- Здравствуйте, Флора Валентиновна, - бодро произношу я, - давайте я вам помогу. Что ж вы сами такие тяжести таскаете!
С ее милой улыбкой и искренним «спасибо», мы проследовали до самого подъезда ее дома. Там она пыталась перехватить арбузы и подняться по лестнице аж на пятый этаж, но я мужественно заявил, что доставлю ношу до двери. Оставив арбузы в прихожей, я пытался откланяться, но Флора Валентиновна предложила мне чай.
- Правда у меня мама не здорова, - добавила она.
- Не беспокойтесь, - ответил я, - мне надо бежать.
Откланявшись, пожелав маме здоровья и получив напоследок еще несколько «спасибо» и «если бы не вы», я удалился.
Прошла пара недель. Началась предучебная суета. Я таки решился сдать злополучный зачет. Зашел в деканат, узнал расписание.
С «хвостами» за пазухой оказалось еще несколько человек. Нашу стайку должников решили принять всю сразу, рассадили в аудитории, вручили по билету. На подготовку дали время. Все как положено. Что касается меня, то я смотрел на вопросы попавшегося мне билета, как Ленин на феодализм стран Азии, Африки и Латинской Америки. Ведь я-то так и не удосужился вникнуть в суть предмета. Базовые знания в разных областях человеческой жизнедеятельности в отношении нужной темы не просыпались. Буду выкручиваться, как-нибудь.
Подошла моя очередь, и я сел перед преподавателем и внятно произнес:
- Флора Валентиновна, еще раз здравствуйте!
Получив сухой ответ на приветствие, я понял - меня не узнают. И тут само собой вырвалось:
- Как здоровье мамы?
- Все в порядке, - ответила Флора Валентиновна, - а откуда вы знаете?
- А помните, я вам помог с арбузами, - выскочило из меня как-то само собой.
- Ах, да! – заулыбалась она, - ну, конечно, конечно, еще раз вам огромное спасибо, давайте вашу зачетку. Ну что ж вы сразу-то…
Мои братья по «хвостам» остались пыхтеть в аудитории, а я гордый и освобожденный побежал в общагу. Там меня ждали друзья, пиво и покер!
Анатолий Цукахин
Трое - считая собаку

Два года назад, на моей персональной выставке в музее, посвященной 2500-летию Боспорского царства, я познакомилась с удивительной женщиной. Она подошла ко мне после открытия, и мы разговорились. Ее имя Галина Константиновна. В Зимнем театре нашего города проходит конференция и она ее участник. Это была женщина среднего роста и спортивного телосложения. Ее заинтересовала большая голова Геракла, сделанная из четырех пенопластовых блоков и покрашенная под природный камень. Выглядело это как обломок греческой скульптуры, найденной при археологических раскопках. Все побережье Черного моря было когда-то заселено греческими колонистами. Они основали в удобных для мореплавателей бухточках причалы, где могли останавливаться корабли, плывшие вдоль берега от Греции в столицу Боспорского царства город Пантикапей. Это эллинистическое государство имело тесные связи с материковой Грецией и просуществовало почти тысячу лет с пятого века до нашей эры до четвертого века уже нашего летоисчисления. Сейчас это город Керчь. В то время греки называли Черное море - Понтос Эвксинос, а наш город Сочи назывался - Ампсалида. До нашего времени греческие названия еще кое - где остались в топонимике черноморского побережья. Греческая цивилизация оставила после себя много следов. Существуют развалины храмов, фрагменты скульптур и археологические находки с античными серебряными вазами и предметами быта. Но это я отвлеклась на любимую тему.
В небольших бухтах корабли останавливались на ночь или во время шторма. Плавание вдоль берега моряки называют каботажным. Местное население жило в горах, они приходили обмениваться товарами с моряками. Одним словом, Галину Константиновну заинтересовала моя большая работа в виде обломка головы Геракла. Она сказала, что конференция заканчивается через два дня и потом планируется туристический поход в горы на озеро Кардывач. В походе примут участие некоторые участники конференции. По маршруту их путешествия есть большой валун, напоминающий голову, где происходит церемония торжественного принятия в "Туристы". Увидев на выставке моего Геракла, у нее появилось ко мне предложение пойти с ними и разрисовать этот валун под голову божества. Если у меня нет туристического снаряжения, то мне что-нибудь подберут. У меня был туристический костюм, походные принадлежности и специальные кроссовки для походов в горы.
Мы с моим любимым псом по кличке Рама часто ходили в однодневные путешествия. Несмотря, что Рама был некрупной породы ( джек-рассел терьер), он очень помогал мне в дороге. Во-первых, свою воду и корм он нес сам в специальном костюмчике с карманами, а во-вторых, тянул меня изо всех сил в горку и притормаживал на спуске. Природа была его стихией, он оживал за городом. Здесь он все понимал, все запахи контролировал и не забывал обо мне, далеко не удаляясь, не выпуская меня из виду.
Я согласилась. Мы обменялись телефонами и, определив день и место, договорились встретиться в Красной Поляне. До Красной Поляны мы с Рамой добрались на нашей машинке, которую я в шутку называла "Рамамобиль" поскольку Рама был моим частым спутником. Остановилась в маленькой частной гостинице, имеющей свою стоянку.
Встреча группы была намечена на пять часов утра. Ранним утром, ещё до рассвета мы с Рамулькой отправились на встречу необычному (как потом оказалось) путешествию. Галина Константиновна ждала меня в условленном месте, а вместе с ней ещё человек десять экипированных туристов. Руководитель группы не возражал против Рамы, видимо поняв, что иначе у него в группе не будет художника. Вскоре подошёл автобусик, явно приспособленный для горных дорог, и мы, погрузившись, двинулись в дорогу. Я не засекала время, но ехали довольно долго и далее нам предстоял пеший переход на 17 км. Погода была хорошая, Рама с сосредоточенным видом шел впереди меня, успевая мониторить ситуацию вокруг нас. Получасовой отдых и далее дорога вывела нас в альпийские луга, где росли цветы выше человеческого роста, за которыми следовали убегающие вдаль горные хребты, горные источники и играющий всеми возможными оттенками пихтовый лес на фоне головокружительно-голубого неба. К середине дня мы пришли на место к горному озеру, образовавшемуся от таяния ледников еще в доисторический период. В это озеро не впадало и из него не вытекало ни одной реки. Оно было расположено на поляне внутри лощины, вокруг высокие горы. Руководитель стал нас поторапливать, поскольку на сегодняшний вечер намечено было торжественное принятие в туристы двоих членов. Меня руководитель освободил от обустройства на месте и, после часового отдыха, мы с Рамой отправились на ответственное задание. Нам предстояло превратить большой камень в голову лестного божества. Галина Константиновна пригласила меня к себе в палатку и заверила, что я могу ни о чем не беспокоиться. Мое дело втайне от остальных членов группы сотворить из обычного валуна место ритуального принятия в «Туристы». Мы вдвоем, вернее сказать, втроём, поскольку Рама, естественно, пошел с нами, отправились к камню. Рама первым его увидел и сразу же взобрался на него, выбрав таким образом себе наблюдательный пост и, надо сказать, очень удачный. Он видел все вокруг. Таким образом, к нам не смог бы незаметно от него пробраться ни один враг. Я достала из рюкзака баллончики с краской и кисти. Рама, не отвлекаясь на меня, наблюдал за местностью. Так я спокойно работала, но скоро Раме перестал нравиться запах моих нитрокрасок, и он с недовольным и осуждающим видом отошёл в сторону. "Знаю, Рама, знаю, что ты не любишь такие запахи, а как же быть? Зато, они быстро сохнут, а на вечер уже назначено мероприятие. Потерпи немного, я же терплю". Рама потерпел в сторонке, не переставая наблюдать. Через пару часов голова кудрявого божества с милой улыбкой смотрела на мир добродушным взглядом. Галина Константиновна одобрила мою работу и, сделав несколько фото, мы вернулись в лагерь. Наша с ней двухместная палатка была собрана и прочно укреплена по всем правилам безопасности. На само мероприятие посвящения мы с Рамой не пошли. Я с непривычки устала и прилегла в палатке отдохнуть. Проснулась от громких голосов. Ребята вернулись с посвящения и возбужденно стали мне рассказывать об этом празднике и похвалили мою работу.
«Ты – молодец», говорили они, «У нас самый лучший самый добрый Бог. Теперь это место будет культовым для всех туристов". Они быстро собрали огромный костер и притащили несколько бревен для сидения. В горах темнеет быстро и становится холодно, поэтому костер был совершенно необходим, а гречневая каша с тушёнкой показались мне необыкновенно вкусной.
Разошлись мы после десяти вечера. Рамуля устроился у выхода из палатки, а мы с Галиной Константиновной ещё немного поболтали.
В открытый вход палатки мирно светила луна. Нам в спальных мешках было тепло и уютно. Огромные и яркие звёзды освещали весь лес. Я даже не заметила, как заснула крепким и умиротворенным сном без сновидений. День был длинным и с непривычки от дальних переходов и свежего горного воздуха я отключилась.
Разбудил меня Рама, он стоял в проходе палатки и глухо рычал утробным рыком. На улице начинался дождь и, увидев, что я проснулась, Рама решил, что пора будить и остальных. Ему что-то сильно не нравилось, и для начала он громко облаял дождь. Галина Константиновна тоже проснулась. Рама не успокаивался, в природе что- то происходило. Несмотря на благоприятный прогноз погоды, дождь усиливался. Стали сверкать молнии и появились первые раскаты грома. В лагере проснулись, выходили из палаток и спешно их укрепляли. К нам заглянул руководитель группы и поинтересовался все ли у нас в порядке. Проверил крепления, попросил не беспокоится: "Наш лагерь, сказал он, стоит на самом удобном месте, многократно проверенном поколениями туристов. Мы на горке, нас не затопит даже при очень сильном дожде. Иногда так бывает в этом месте, окружённом с трех сторон горами. Если грозовой фронт загонит сюда часть своей силы, то у нее нет выхода, кроме как пролиться. Держитесь девочки. Все будет хорошо", сказав это, он ушел проверять надёжность других палаток. Мы остались и с удивлением наблюдали за разворачивающейся картиной небесной битвы. Молнии стали сверкать чаще, а гром звучал все сильнее и все это при полном безветрии. Видимо, горы не пропускали ветер в нижние слои атмосферы. Зато в небе огромная туча носилась от одной вершины к другой и, как загнанная в угол, металась, сталкиваясь с другими частями грозового фронта, который проходил мимо нашей лощины. Неожиданно все замерло на несколько секунд, а потом пошел сильный дождь, переходящий в ливень. Туча сдалась на милость победителя и пролилась на озеро и нашу лощину стеной воды. Все так же безмолвно и безветренно потоком лилась с неба вода. Невольно вспомнился библейский рассказ о всемирном потопе. "Разверзлись хляби небесные и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей".
В нашем случае, ливень длился минут десять. Полностью пролившись, туча растаяла, оставив на земле потоки воды. Грозовой фронт прошел мимо, опять появилась огромная луна и звёзды. Галина Константиновна, как опытный турист, достав фляжку, предложила выпить коньячку для согрева. Действительно похолодало и резко, начавшись теплым дождем, ливень превратился в крупный град. Выглянув наружу я не узнала вечернего пейзажа, вся земля была покрыта градом, как снегом. Мы отхлебнули из фляжки по глотку и ароматное тепло разлилось по всему телу, успокаивая биение пульса. Наши коллеги выглянули из своих убежищ и, убедившись, что все в порядке, застегнули входы и, видимо, последовали нашему примеру. Во всяком случае, кое- где послышался смех и оживленные голоса. Но вскоре все стихло, и я мирно и спокойно задремала. Мой сон опять нарушил Рамуля, чего он никогда раньше не делал, смиренно ожидая моего пробуждения. В данном же случае он молча тыкался мне теплым влажным носом в лицо, пока я не открыла глаза. Убедившись, что я проснулась, он пошел к выходу. Я хорошо знала и понимала своего друга. Он бы никогда не стал меня будить без веского повода, а тут ещё и не издавая ни звука. Я приподнялась и посмотрела через небольшую щель на выходе и увидела странную картину. Мне даже подумалось, может это сон и это все мне снится. У костра, залитого дождем, сидели несколько человек. Я сразу поняла, что это не наши. Они были странно одеты, а некоторые вообще полуодеты. Я невольно их пересчитала. Двое сидели на брёвнах у костра без свитеров в брюках, но без обуви. Если не считать на ноге у одного парня валенка. Валенок летом в Сочи? Две девушки, причем одна стояла на коленях, застыв в молитвенной позе. Были и почти раздетые пятеро парней, один из которых был в плавках и лыжной шапочке, какие я видела только на старых фотографиях, что-то делали с остатками костра. Я дотронулась до Галины Константиновны, и она сразу открыла глаза. Я приставила палец к губам, давая понять, что надо соблюдать тишину. Рамуля молчал и это тоже было странно. Обычно, завидев посторонних, он поднимал большой шум. Галина Константиновна посмотрела наружу и, придвинувшись вплотную ко мне, сказала шепотом прямо мне в ухо: «Это группа Игоря Дятлова. Вон тот в лыжной шапочке, а с ним члены его группы. Девушек зовут Зина Колмогорова и Люда Дубинина. Парни, что сидят - Рустем Слободкин, Николай Тибо- Бриньель и Семён Золотарев. Те, что у костра - Георгий Кривонищенко и Юрий Дорошенко, рядом в одном валенке Александр Колеванов».
Я знала, в 1959 году в горах на Урале замёрзла группа, состоящая из девяти хорошо подготовленных студентов - туристов, но как это - Они. Теперь уже Галина Константиновна, приложив палец к губам тихо сказала: «Они сейчас уйдут, я потом тебе расскажу о них". И действительно, парень в лыжной шапочке стал поднимать свою группу со словами: «Пойдёмте, здесь костер уже погас, мы обязательно найдем огонь и согреемся». Девушки тихо расплакалась. Сидящие у потухшего костра поднялись и медленно пошли к берегу острова, потом по его окружности достигли противоположного берега и стали удаляться в горы, пока совсем не исчезли из вида. Все это время мы с Галиной Константиновной и Рамой неотрывно следили за ними, пока те не растаяли в пространстве. Достав свою заветную фляжку, Галина Константиновна сказала: "Теперь слушай, ты безусловно знаешь об этой странной истории с группой студентов уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Конференция, в которой я принимала участие, была посвящена именно этому. В этом походе шестьдесят лет назад, очень много неясностей. Казалось бы, такие трагедии иногда случаются, но в этом случае все непонятно. Ребята были опытные и ничего не должно было с ними произойти. Я давно интересуюсь этим делом и темой моего доклада на конференции была биография одного из участников группы - Семена Золотарёва. Там очень много странностей. Во-первых, он был на много старше всех и иногда, забываясь, называл себя Сашей. Появился он в городе недавно, около месяца. В такие походы всегда берут только хорошо проверенных людей. И не только в нем дело, не хочу отвлекаться на его одного. Я оставлю тебе текст моего доклада, позже ознакомишься.
Гора, на которую они шли, Холатчахль - всегда имела дурную славу. В переводе с языка манси, коренного народа этих земель, это означает -"Мертвая вершина" или даже -"Гора мертвецов". Причем, гора пологая, там в принципе не могло быть снежной лавины. Тела студентов нашли разбросанными в разные стороны на полтора километра и с искаженными от ужаса лицами. К тому же, замёрзших людей всегда находят в позе эмбриона, но не в этом случае. Их палатка была располосована изнутри горизонтальными разрезами более чем в двадцати местах. В вещах погибших были найдены предметы, не принадлежавшие ребятам, а на фото одного из участников похода остался размытый кадр яркого большого белого шара. Да и многое ещё другое. Добавило секретности ещё и то, что хоронили их в закрытых гробах, показав только одному родителю его погибшего сына. Очевидцы потом писали, что бедный отец в ужасе отпрянул от увиденного. И ещё власти засекретили всю информацию и только через много лет прокурор Иванов, будучи уже глубоким пенсионером в девяностые годы, писал в своих воспоминаниях что-то невнятное и противоречивое. Ну, да ладно, если захочешь, найдешь потом в интернете. И не только эти странности и множество гипотез от НЛО до испытания нашего нового оружия и столкновения с иностранными разведками. Видимо, наши горячие выступления на конференции побеспокоили души уральских ребят и поэтому они появились здесь. Их иногда видят туристы в горах и всегда у потухших костров. Им все ещё холодно, раз они ищут тепло.
В лагере тихо, похоже, что только мы вдвоем с тобой видели группу Игоря Дятлова. Не будем говорить нашим об этом. Они не поверят, а тебе девочка скажу, я на собственном опыте убедилась, что в жизни бывают такие случаи, которые научно доказать нельзя, а убедиться в их существовании можно.
Видимо, так угодно было Богу, чтобы это увидели только мы двое».
Я посмотрела на своего друга, недоуменно смотревшего мне прямо в глаза, и, погладив его по голове, сказала: "Трое - мы с Вами и Рама".
«Да, - сказала Галина Константиновна, - и Рама».
Ольга Хрисанова
Рисунок автора.
Ангел

Во всем виновата моя публикация в научном журнале на тему "Античное серебро из фондов Сочинского художественного музея". Это был клад, случайно найденный черным копателем Андреем Чамкиным в 1997 году на правом берегу сочинской горной реки Мзымта, ориентировочно напротив села Казачий Брод.
Андрей был археологом-любителем, но искал он не остатки греческой цивилизации, а золото Колчака, по слухам, зарытое где-то в этих местах его отступающими частями. Так или иначе, он нашёл двадцать четыре предмета работы греческих мастеров античного периода. Это выяснилось позже – его находки сначала выглядели как покрытые сплошной коростой непонятные чаши и кубки. Не зная, что с ними делать, он принёс их в наш музей.
Два года ушло у меня на реставрацию этих изделий, атрибуцию и описание. Потом выяснилось, что это настоящая научная сенсация. Серебро - металл мягкий, и хотя окисляется медленнее железа, за две тысячи лет сильно пострадало. Было невероятно трогательно держать в руках предметы, чей возраст сопоставим с датой рождения Христа.
Моя публикация произвела фурор в научном мире – находка вполне могла сравниться с кладом Шлимана. После этого в Сочи зачастили археологи со всего света. Меня же засыпали приглашениями на конференции. Так я побывала в Греции, Италии и Франции.
Вскоре эти поездки стали меня утомлять. Когда пришло приглашение выступить с докладом в питерском университете на кафедре археологии, я не обрадовалась. Питерскую погоду в ноябре я знала не понаслышке – шесть лет учёбы в Академии художеств имени Репина оставили о ней яркие воспоминания. Собиралась в дорогу в последний момент, и глухое недовольство не покидало меня. Дождливая погода в Сочи и долгое ожидание в накопителе окончательно испортили настроение.
Наконец я в самолёте – можно подремать эти два часа полёта. Борт поздней осенью был полупуст, и я заняла место у окна в первом салоне, поближе к выходу.
Лайнер выкатился на взлётную полосу, завёл двигатели и задрожал всем корпусом. Короткий разбег, отрыв – можно закрывать глаза. В этот момент ко мне подошёл мужчина средних лет, брюнет, и спросил, можно ли присесть рядом.
–Конечно, – ответила я, внутренне расставаясь с предвкушаемым спокойным полетом.
Он объяснил, что на его месте летит женщина с беспокойным ребёнком, а рядом со мной место свободное. Много позже я подумала: мест было много свободных, да и во время набора высоты стюардессы обычно не разрешают ходить по салону. Но тогда я просто кивнула.
Мужчина устроился рядом и завёл разговор. Обычно не настроенная на дорожные знакомства, я, на удивление себе ответила естественно и дружелюбно. Два часа пролетели незаметно. Не помню, о чём мы говорили, но осталось удивительно приятное ощущение от ничего не значащей беседы.
Мне вспомнились детские разговоры с отцом. Мама вечно уезжала к родственникам в Туапсе, оставляя нас вдвоём. Папа уверяет, что впервые она сделала это, когда мне было три месяца. Не знаю, правда ли это (отец любит приукрасить), но, сколько себя помню – по выходным она действительно уезжала, предварительно наготовив нам еды.
Я помню, как уже в сознательно возрасте (четырех лет) мы с отцом допоздна читали «Принца и нищего» Марка Твена, как ходили в кино на «Графа Монте-Кристо». Того кинотеатра уже нет, но в памяти осталось красивое здание с золотыми капителями на колоннах. Вот такое забытое чувство близости неожиданно ожило во мне после беседы с незнакомцем.
Мы даже не представились друг другу, и в этом не было нужды. Казалось, я разговариваю с хорошо знакомым, почти родным человеком – тем, с кем не надо обсуждать работу, семейное положение или финансы.
Но вот стюардесса объявила о снижении, попросила всех занять места и пристегнуться. Мой спутник сказал, что на прежнем месте у него остались вещи, попрощался и ушёл. Всё вокруг сразу опустело и стало ещё унылее – особенно на фоне мелкого питерского дождя.
Поскольку меня в аэропорту ждала машина, заказанная Академией, и выходила я одной из первых, то решила подождать своего нового знакомого и довезти его до места назначения. Я хорошо знала, каково это - добираться на переполненном автобусе до метро.
Но прошёл первый салон, второй, третий - его не было. Прождав ещё минут десять, я обратилась к пилотам нашего рейса:
– Вы не видели молодого мужчину в красной куртке?
Старший пилот что-то буркнул мне в ответ, остальные заулыбались. Я поняла, что сказала что-то не то, и потихоньку, все оглядываясь, пошла к выходу с поля.
В здании аэровокзала ко мне подошёл второй пилот:
– Это была девушка? Блондинка?
– Нет, мужчина средних лет, коренастый брюнет.
– Ну, да, – кивнул он. – Вы же девушка, вот вам и явился мужчина. И повернулся уходить.
Я остановила его:
– Что вы имеете в виду?
Пилот объяснил:
– Вы не первая, кто его видит в воздухе. Только каждый видит кого-то своего: парни – девушек, кто блондинку, кто брюнетку... А вы вот увидели мужчину.
– Я всё равно не понимаю, – призналась я.
Он вернулся(?) и тихо сказал:
– Ты видела Ангела. Его никогда не видят на земле. Он появляется в воздухе и исчезает, пока самолёт ещё летит. Тебе повезло – такое случается не со всеми.
Я схватила его за рукав:
– Скажите... они потом приходят к тем, кто их видел?
– Говорят, приходят. Я вот уже десять лет жду, поэтому и летаю. Если появится – уйду с ней. А ты жди – он
обязательно найдёт тебя.
Ольга Хрисанова
Чудя

Хрисанова Ольга Петровна. Родилась я в 1981 году. С пяти лет посещала профессиональные занятия по изобразительному искусству. Окончила с красным дипломом Сочинское училище искусств. В девятнадцать лет стала студенткой института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина в Санкт-Петербурге. Академия художеств – это своеобразная Мекка для художников. Под ее высокими сводами учились все, или почти все, великие русские художники. Быть ее частичкой - большая честь для молодых дарований. Классическое образование предполагает определенный уровень знаний и умения, не сковывая при этом творческой инициативы.
Будучи еще студенткой, осуществила ряд проектов, среди которых скамья любви в парке Ривьера (кованый металл), мемориальная доска (мрамор, бронза) на здании бывшей санэпидстанции, где долгие годы работал известный в городе человек, спасший Сочи от малярии С.Ю.Соколов, мемориальная доска А.С.Пушкину в здании городской библиотеки (мрамор, бронза), фонтан любви в парке Ривьера (керамика), из которого можно пить только вдвоем.
Далее были участия в выставках, как групповых, так и персональных, литература всегда была частью моей жизни. Стихи писала с детства, в подростковом возрасте написала и проиллюстрировала книгу о приключениях хомяков, потом мы издали ее на свои средства и раздарили друзьям и знакомым. Несколько экземпляров хранится у меня и по сей день.
Работа искусствоведа предполагает написание статей и книг на научную и научно популярную тему. Этим я и занимаюсь в течение последних 20 лет, параллельно пишу художественные рассказы. Свой педагогический опыт реализовала в макете книги-самоучителя для взрослых и детей «Рисуем вместе», она представляет собой иллюстрированное пособие для обучения живописи. Создаю иллюстрации для книг знакомых и друзей. Так и выходит, что изобразительное искусство в моей жизни тесно переплетено с литературой.
Ч У Д Я
Уже не в первый раз завуч 24-й общеобразовательной школы просит меня подменить педагога на уроках рисования. У них по этой специальности не хватает часов для полной ставки. Мне и самой нравится общаться с детьми. После моей напряжённой работы реставратором в музее дети своей искренней любовью к рисованию наполняют меня оптимизмом ещё на несколько дней.
В этот вечер моросящий дождь, весь день грозивший перейти в ливень, заставил меня ускорить шаг. Я живу на Цветном бульваре, и дорога до дома заняла не более пяти-семи минут. Двор наш был пуст, моя красная "Тоетка" мокла на стоянке перед домом в компании ещё нескольких машин.
Доставая из сумочки ключи, я обратила внимание на мальчика лет восьми, одиноко сидевшего на детской площадке под грибком, укрывавшим от дождя. "Кого-то ждёт", – подумала я, потому что для прогулок погода не располагала. Чай, лёгкий ужин и любимые книги в кресле под светом лампы - примерно так я представляла свой вечер, но судьба распорядилась иначе.
Нет, чай, ужин, книги были. Но выглянув в окно примерно через пару часов, чтобы попрощаться до утра со своей "Ласточкой" (так я ласково называла свою старенькую машинку), я увидела, что мальчик всё ещё сидит под грибком и что-то держит в руках. "Что-то тут не так", – мелькнуло у меня.
Ещё через полчаса мальчик продолжал сидеть на том же месте. Выглянув в очередной раз, я решила узнать, в чём дело. На улице стоял не май, и, хотя в Сочи морозов зимой не бывает, было холодно. Накинув куртку, я вышла на улицу и подошла к детской площадке.
Мальчик в осенней курточке спокойно сидел на лавочке и держал в руках небольшую мягкую куклу с жёлтыми волосами.
– Мальчик, что ты здесь делаешь? – спросила я. – Почему ты не идёшь домой?
– Жду, – ответил он спокойным голосом.
– Кого ты так долго ждёшь? – переспросила я.
– Я жду утра.
– Какого утра? – удивилась я. – Сейчас поздний вечер. Тебе пора уже спать в это время.
– Я жду утра, потому что утром за мной приедет папа.
– Ничего не поняла. Какого папу и почему ты ждёшь его здесь?
– Папа привёз меня к маме, а её нет дома. Завтра утром папа за мной вернётся, вот я его и жду.
Я присела рядом с мальчиком. Он замёрзшими пальчиками перебирал жёлтые волосы куклы.
– Так, расскажи мне всё по порядку, – попросила я и положила ему на руки свою тёплую руку, чтобы согреть.
Мальчик рассказал, что его зовут Александр (не Саша, а именно Александр) и живёт он с папой и бабушкой в доме на хуторе по дороге на улицу Леселидзе. В доме напротив моего живёт его мама, куда он приезжает на субботу и воскресенье.
– Папа меня привёз и уехал, а мама, наверно, забыла. Вот я и жду утра. Утром папа поедет на работу, а в городе у него заработает сотовый телефон. Я ему позвоню, он приедет и заберёт меня.
Как я его ни уговаривала хотя бы зайти ко мне попить горячего чаю с бутербродом, Александр не соглашался. Тогда я спросила:
– Дорогу домой ты помнишь?
Он утвердительно кивнул.
– Так давай я тебя отвезу к папе, вот моя машина.
Было видно, что Александр колеблется. Ему, конечно, говорили родители и педагоги в школе (а учился он во втором классе той же 24-й школы, где я иногда преподавала рисование) не садиться к незнакомым. Тогда я спросила, как зовут его классного руководителя. Оказалось, это Татьяна Сергеевна, с которой я давно знакома.
Я хотела ей позвонить, но Александр сказал: « Не надо, я вас видел с ней много раз», и согласился поехать со мной.
Ключи и права у меня всегда с собой. В машине я включила печку, лёгкую музыку, и мы поехали. Как оказалось, очень вовремя - начался давно собиравшийся ливень.
Дорогу по Пластунке я знала хорошо. На каком-то повороте, километров через десять, Александр попросил свернуть направо. Ещё метров через триста по узкой, нелёгкой дороге в гору мы выехали на небольшую поляну. Посередине стоял аккуратный деревянный домик, в котором по-домашнему светились два окна.
Я посигналила. Из дома вышли мужчина и пожилая женщина. Дождь уже закончился, но воздух был ещё напитан свежими влажными каплями. Александр посмотрел на меня тёплым взглядом и сказал:
– Спасибо.
– Не за что, – ответила я.
Он вышел из машины. Мужчина, узнав ребёнка, бросился ему навстречу, взял на руки и быстро унёс в дом. Женщина подошла ко мне:
– Спасибо вам большое! Мы вам ничего не должны?
– Конечно, нет, – ответила я.
Она хотела что-то добавить, но я всё поняла и без слов. Попрощавшись, я развернулась и поехала домой.
В душе бушевали противоречивые чувства: беспокойство, неуверенность, обида – непонятно на кого – и что-то ещё, необъяснимое. Уже подъезжая к дому, я заметила на пассажирском сиденье куклу с жёлтыми волосами, забытую Александром. Возвращаться было поздно – к тому же снова пошёл сильный дождь.
На следующее утро стояла ясная солнечная погода – ничто не напоминало о вчерашнем вечере. Поскольку была суббота и у меня выходной, я решила съездить и вернуть куклу, которую уже успела полюбить. Видимо, в этой истории действительно было что-то странное и необъяснимое.
Дорогу и поворот я помнила точно, но того дома на полянке не оказалось – ни следа, ни намёка. Я проехала дальше, но ничего похожего не нашла. Спрашивала у местных – никто не знал ни дома, ни семьи с таким описанием. После нескольких безуспешных попыток я сдалась.
С тех пор жёлтоволосая кукла живёт у меня. Я назвала её Чудя, в память о том вечере, который, кажется, и не был совсем реальным.
Позже я подумала: кукла осталась у меня не просто так. Будто Александр подарил мне её на память. Если когда-нибудь у меня будет сын, назову его Александром. Если дочь - Сашенькой.
Ольга Хрисанова
«История не терпит суесловья…»
История с историей кубанского казачества
Учусь удерживать вниманье
долгих дум.
А.С. Пушкин
Более двух веков прошло с тех пор как, бывшие запорожцы, верные черноморцы в 1792 году по Указу Екатерины II были переселены на берега Кубани, где им предлежали «бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». Более двух веков учреждения Императрицей и создания князем Григорием Потёмкиным Черноморского, позже – Кубанского казачьего войска. Но не дата сама по себе побуждает вернуться к первоначальной странице истории кубанского казачества. Но то странное положение в исторической науке на Кубани, которое сложилось давно и продолжается до сих пор, в понимании и толковании своей истории. Оказывается, что и до сих пор всё ещё точно не исчислена история Кубанского казачьего войска, когда и самого казачества в его традиционном виде не существует в России вот уже более века. При всём при том, что она не даёт никаких оснований для двоякого её понимания, так как водворение Черноморского войска на Кубань осуществлялось по высочайшему повелению и проводилось организовано. То есть, носило все признаки грандиозного события. Справедливо писал в своё время Иосиф Бентковский, что это переселение бывших запорожских казаков в Черноморию составляет, бесспорно, великий акт распространения русского элемента на Северном Кавказе, который «история в видах истины и полноты обходить не должна»: «Переселение Черноморского войска из-за Буга на берега Кубани, в целом его составе, представляет единственный случай в истории заселения наших вообще окраин, что одно это уже придаёт ему особенное историческое значение, к сожалению, до сих пор не выясненное ещё как бы следовало» («Заселение Черномории с 1792 по 1825 год», 1880 г.). Вернуться к первоначальной странице истории Кубанского казачьего войска понуждает и то, что она не остаётся бесстрастным прошлым, но так или иначе связана с нашей нынешней жизнью. Примечательно и то, что история кубанского казачества в исследованиях историков не носила, как должно, постоянного характера, но изменялась во времени в связи с теми или иными соображениями, отнюдь не историческими. Это странное положение существует, к сожалению, и теперь. Сводится оно к тому, что к реальной истории Кубанского казачьего войска прибавляется сто лет… По причине того, что история его вдруг стала исчисляться по старшинству от Хопёрского полка, с 1696 года, то есть с того времени, когда не было ещё ни Хопёрского полка, ни Черноморского войска…
Подтверждением того, что эта странная история с историей Кубанского казачьего войска связана с нашим нынешним бытием является и то, что в наше время двухсотлетие войска было отмечено так же, как и его столетие в конце ХIХ века: вместо двухсотлетия, было предписано свыше отмечать его трёхсотлетие, причём, по причинам этого не предполагавшими. Об этом свидетельствовала юбилейная научная конференция в станице Полтавской 23-27 сентября (Краснодар, 1996), посвящённая трёхсотлетию кубанского казачества, а не его двухсотлетию. Нынешние кубанские историки, в своём абсолютном большинстве не посмели подвергнуть сомнению эту официальную установку, принимая её как аксиому, как исторический факт, каким она не является. Ведь старшинство войска – это, скорее, эмоционально-символическая величина нежели историческая.
К примеру, в год 215-летия Кубанского казачьего войска вышла книга историков, много сделавших по истории Кубани О.В. Матвеева и Б.Е. Фролова «Страницы военной истории Кубанского казачества» (Краснодар, 2007 г.), посвящённая его 310-летию. И историков, вроде бы, можно понять. Ведь они находятся в общепринятом установлении, тренде. Но мы, ведь, говорим всё-таки об истории, а не о том, какие обстоятельства мешают нам постичь то или иное явление. При этом механика подмены понятий до предела проста. Вместо реальной даты, которую трудно подвергнуть сомнению, которая и является-то первоначальной страницей истории кубанского казачества, берётся другая, причём, даже не дата, не событие, а всего лишь документ военного ведомства более позднего времени: «Старшинство Кубанского казачьего войска было установлено по Хопёрскому полку с 1696 г. (согласно приказу военного ведомства Российской империи от 28 марта 1874 г.). В 1896 г. Кубань торжественно отмечала 200-летие Кубанского казачьего войска. То, что эта дата условна, хорошо понимали современники с большим размахом отмечаемого юбилея». Чрезвычайно примечательна эта оговорка историков о том, что эта дата «весьма условна», то есть, не имеющая исторического значения. Но в таком случае, почему она отмечалась «с большим размахом»? И тем более, не было оснований считать её «более масштабной», чем столетие жития черноморцев на берегах Кубани. Так отмечала юбилей, как пишут историки, Кубань. Кубанское же казачество отмечало столетие создания своего войска и дарования ему земли на вечные времена, в честь чего было предпринято сооружение грандиозного памятника его основательнице, Императрице Екатерине II. И в Тамани сооружался памятник Казаку, в честь столетия войска, но никак не двухсотлетия.
Эта «традиция» искажения истории войска продолжается и теперь. Причём, уже не скрывая того, что отмечается старшинство войска, а вовсе не его действительная история. В частности, всероссийская заочная научная конференция в октябре 2011 года «Российское казачество: история, проблемы возрождения и перспективы развития» была посвящена «315-й годовщине официального старшинства Кубанского казачьего войска, установленного 28 марта 1874 г. по старейшему в войске Хопёрскому полку. Хотя годом образования полка является 1767 г., но история воинской славы казаков-хопёрцев связана с их участием в победоносном штурме войсками Петра I турецкой крепости Азов» (Краснодар, «Традиция», 2012 г.). При этом странную логику проявляют историки, отнюдь не историческую: годом образования Хопёрского полка является одна дата, но коль очень хочется, изменяют её на другую. Точнее дату, исторический факт подменяют исторически неопределённой декларацией об «истории воинской славы казаков-хопёрцев», которую «можно» толковать как угодно. Хотя изначально предшествующие историки не выделяли как-то особо хопёрцев из донского казачества, так как для этого не было никаких оснований. К тому же строго говоря, это были уже не хопёрцы, а новохопёрцы. После того, как по велению Петра I, были разрушены хопёрские городки за их поддержку Булавинского бунта, и в 1717 году был основан Новохопёрск, уже с иным составом его жителей. Не говорю уже о том, что годом образования Хопёрского полка был не 1767 год, а 1775 год, что в научных обсуждениях такие неточности недопустимы. В 1774 году это была ещё Хопёрская команда, а в 1775 году Екатериной II был учреждён собственно Хопёрский полк. Да и о «воинской славе казаков-хопёрцев» следует говорить с большой осмотрительностью, так как поддержка ими бунта Кондратия Булавина, а потом, пообразованииХопёрского полка, по сути, нежелание переселяться на Кавказ, куда им высочайше следовать было велено, невозможно объяснить «воинской славой» современными патриотическими декларациями о служении Российскому престолу и Отечеству.
Но что значат свидетельства историков предшествующих для историков нынешних, если они, как видно для того, чтобы не считаться с ними, относятся к ним довольно уничижительно: «С лёгкой руки П.П. Короленко, Ф.А. Щербины, В. А. Потто в дореволюционной историографии было создано немало мифов, которые продолжают бытовать и сегодня». Действительно ли эти историки создали «немало мифов», ещё вопрос, а вот то, что историки нынешние участвуют в новом мифотворчестве далеко небезобидном и даже опасном, очевидно.
Останавливаюсь на этом аспекте истории потому, что это – не досужая игра в даты, но важное духовно-мировоззренческое положение, из которого неизбежно следует определённое и жизненное положение. Ведь не признавая факта переселения верных черноморцев на Кубань первоначальной страницей истории Кубанского казачьего войска, тем самым, Императрица Екатерина II не признаётся создательницей Черноморского, позже Кубанского казачьего войска (даже с сооружением грандиозного памятника ей в Екатеринодаре). А вместе с тем, вольно или невольно отрицается главное – дарование ею земли черноморцам, кубанцам на вечные времена. А упоминание при этом Императора Петра I предполагает, что он якобы был создателем Кубанского казачьего войска, а не Екатерина Великая. А стало быть, рано или поздно может сложиться ситуация, аналогичная той, которая описана в «Повести временных лет», в чудной новелле о «Выборе веры» великим князем Владимиром, Крестителем Руси, с сакраментальным и трагическим вопросом: «А где земля ваша?»… И что мы на него ответим? Сошлёмся на какой-то ведомственный приказ, не имеющий никакой юридической силы? Во всяком случае так было до 2007 года, когда успешно завершилась долгая и сложная дипломатическая акция по возвращению кубанских казачьих регалий из США на родину, в Россию. И главное – возвращение Высочайшей милостивой грамоты о даровании Черноморскому войску земли на вечные времена и определения её границ: «Усердная и ревностная войска Черноморского нам служба доказали, в течении благополучно оконченной с Портою Оттоманскою войны… Мы потому желая воздать заслугам войска Черноморского учреждением всегдашнего их благосостояния и доставлением способов к благополучному пребыванию, всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Финагорию со всею землёю, лежащею на правой стороне реки Кубани от устья ея к устью Лабинскомуи Редуту, так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли, с прочих же сторон разграничение указали мы сделать генерал-губернатору кавказскому и губернаторам екатеринославскому и таврическому через землемеров обще с депутатами от войска Донского и Черноморского»... Но и с новым обретением Грамоты Екатерины II в аргументации историков ничего не изменилось. То есть, сложилось такое положение, что Грамота, как главный юридический документ, сама по себе, а история войска, абсолютно ей противоречащая, сама по себе… Но так в истинно исторической науке не бывает…
Сколько же лет Кубанскому казачьему войску?
Эта чрезвычайной важности дипломатическая акция по возвращению на родину Высочайшей милостивой Грамоты о даровании земли на вечные времена, как и войсковых регалий, стала возможной благодаря усилиям многих кубанцев. Это – главное. Ведь во все времена основным и определяющим судьбу и историю народов была земля. Это отразилось в русской литературе, начиная со «Слова о полку Игореве»: «О, Русская земля, уже ты за (не) шеломянем еси». И это всегда удерживалось в народном самосознании, вплоть до выдающегося поэта, по сути, нашего современника Николая Рубцова: «Бессмертное величие Кремля/ Невыразимо смертными словами/. …И я молюсь – о, русская земля! – /Не на твои забытые иконы,/ Молюсь на лик священного Кремля,/ И на его таинственные звоны».
Но не могло не удивлять то, что среди возвращенных регалий не оказалось книг Межигорского монастыря, вообще церковных книг, по которым и устраивалась жизнь на берегах Кубани, хотя увозились регалии в эмиграцию через Екатерино-Лебяжескую Николаевскую пустынь, что при Лебяжьем лимане у станицы Брюховецкой, где эти книги находились. Этот поразительный факт может свидетельствовать только об одном – об общем ослаблении в народе своей исконной веры у всех сословий, у всех противоборствовавших сторон в Гражданскую войну. Да и позже, когда Священное писание перестало восприниматься как единственно спасительным, перестало говорить людям, что оно – не только о прошлом, но и об их нынешней жизни. Собственно, общее ослабление веры в народе и стало основной причиной революционного крушения страны, новой смуты.
Итак, приближалось знаменательное событие в жизни Кубанской области, кубанского казачества, бывшего Черноморского войска – столетие переселения верных черноморцев, бывших запорожцев на берега Кубани. Приближалось столетие, с тех пор как Императрица Екатерина II по слёзной просьбе черноморцев даровала им земли на Тамани «с окрестностями оной», как черноморцы, кубанцы обрели, наконец, долгожданную землю, как решилась их судьба и целого края в стратегически важном регионе страны. Приближалось столетие памятного события, когда черноморцы водворились на постоянное местожительство, сменив на охране границы Кубанский армейский корпус генерал-поручика А.В. Суворова.
Не могло тогда быть более важного, более значимого события для области, чем это. И благодарные кубанцы, помня свою судьбу, решили отметить его достойно, во всей его исторической значимости. Причём, начали готовиться к нему заранее, как говорили они, заздалыгоды. Естественно, возникла идея установить памятник Императрице Екатерине II в Екатеринодаре, в городе, носящем её имя.
Впервые эту идею высказал историк, краевед, археолог, внёсший неоценимый вклад в изучение Кубани и формирование самосознания кубанцев Евгений Дмитриевич Фелицын, имя которого носит ныне Историко-археологический музей-заповедник в Краснодаре. Было это в 1888 году, за пять лет до векового жития кубанцев на своей земле. Время, вроде бы, достаточное для того, чтобы этому замыслу и заветному желанию кубанцев осуществиться в свой срок. Однако, всё сложилось иначе. И никто ни тогда, ни теперь, судя по исследованиям историков, объяснить вразумительно не мог и не может, почему, в силу каких причин и обстоятельств всё произошло именно так.
Инициатива Е.Д. Фелицына получила поддержку в войсковом правительстве. К ней благосклонно отнеслась и общественность. Примечательно, что вопреки традиции, средства на памятник не стали собирать по подписке, а решили изыскать их из войсковых сумм. То есть, создание памятника Екатерине Великой, основательнице и благодетельнице кубанского казачества, изначально мыслилось как дело казачье, как дело чести, прежде всего, войска.
Идея кубанцев была одобрена Главным управлением казачьих войск: «Заветное сердечное желание всех кубанцев видеть памятник Императрице Екатерине II в своём городе, носящем имя своей Августейшей основательницы». Как сообщалось в «Памятниках времени», издании военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа, «среди потомков черноморских казаков и их товарищей казаков линейных давно уже зародилась мысль увековечить память Императрицы Екатерины Великой и соорудить в её честь достойный монумент, дабы тем выразить, хотя бы в слабой степени, всю безграничную признательность и бесконечную сыновнюю любовь к Матери-Царице, как основательнице Кубанского войска, которое обязано ей своим настоящим завидным благосостоянием. Выразителем этой идеи и, вместе с тем, хранителем преданий седой казацкой старины, явилось областное Кубанское правление, принявшее все расходы на сооружение памятника на войсковой капитал, как собранный от тех же безграничных щедрот Императрицы Екатерины» (Тифлис, 1909 г.).
О заветном желании кубанцев отметить столетие войска одним из первых узнал известный художник и скульптор, член Петербургской академии художеств Михаил Осипович Микешин (1836-1896), пользовавшийся славой создателя оригинальных памятников, посвящённых истории Отечества. Он был известен, прежде всего, как автор грандиозного монумента «Тысячелетие России» в Новгороде. Но он создал также памятники Екатерине II в Санкт-Петербурге, в Ирбите, Богдану Хмельницкому в Киеве, адмиралам Н.О. Нахимову, В.А. Корнилову, В.И. Истомину в Севастополе, О.С. Грейсу в Николаеве.
10 января 1890 года он пишет на Кубань обстоятельное письмо, в котором не только выражает своё заинтересованное согласие создать памятник Императрице в Екатеринодаре, к столетию переселения черноморцев на Кубань, но и определяет основной замысел памятника, что это должен быть монумент не только Екатерине, но и казачеству: «Предстоящая возможность тем ещё более лестна для меня, что я волею судеб сделался как бы историческим присяжным увековечивателем памяти этой великой Императрицы, изобразив её прекрасный лик и на памятнике «1000-летие России» в Новгороде, и на грандиозном монументе её имени в С.-Петербурге на Невском проспекте, и в городе Ирбите, а потому осмеливаюсь питать твёрдую надежду удовлетворить всем патриотическим желаниям доблестного кубанского казачества соорудить для него памятник этой государыне. Так, чтобы такой памятник был эпопеей славы основательнице Кубанского казачества и его главного города, а также славы самого казачества».

Петр Ткаченко
Продолжение следует
Крабовые палочки

День клонился к закату. Подрумяненные закатом облака тянулись к последнему лучу догорающего, как уголёк в костре, солнца. Брошенный кем-то пакет шуршал своим целлофановым боком, нарушая первозданную тишину.
Иваныч долго смотрел вслед уходящему за горизонт огненному шару и наслаждался, как мантрой, шуршанием зависшего на ближайшем дереве целлофана. И как только последний луч скрылся за горизонтом, сверкнув зеленой молнией через небосвод, Иваныч, ставший свидетелем невиданного для него, извечного таинства мироздания, воскликнул:
- Вона, как оно! - и, безвольно опустив плечи, побрел домой, сжимая в левой руке пакет с обреченно болтавшимися в нем батоном, пакетиком крабовых палочек, далеко уже не лёгкой заморозки, бутылочкой горячительного напитка и, конечно же, как всегда, сладким батончиком (на котором крупными буквами было написано: без ГМО) для Нины.
Припозднившись, а это Иваныч понял сразу по многозначительному выражению глаз жены, он молча, не раздеваясь, прошёл на кухню, слегка нервно начал шуршать пакетом, доставая из него содержимое и силясь понять, что же он забыл прикупить на вечер, то и дело исподлобья, как бы невзначай, поглядывая на Нину.
- Блин, сигареты забыл купить.
- Сигареты он забыл, а голову свою не забыл? Где ты шлялся? Я тебя когда посылала?
- Чё ты посылала? Чё посылала? Ты глянь, все начальниками стали. Великими стали. Посылала она...
И тут из почти угасшего уголька начинал вспыхивать пожар давно, буквально со вчерашнего вечера, потухших отношений.
Нина схватила крабовые палочки, распаковала их, но, как всегда, забыв разморозить, быстро начала нарезать в мелкую крошку этот лёд с элементами запаха камчатского краба, поливая это действие сдобными эпитетами в адрес крабодобытчика. После чего, взяв плошечку «Провансаля», производства местного МЖК, обильно начала удобрять любимый в народе салат "Крабовый". Яйца, рис и кукуруза уже несколько раз были нервно перемешаны в ожидании крабовых палочек и их добытчика.
Добытчик крабов периодически пытался вставить свои пять копеек в непрерываемый монолог, но диалога так и не получалось.
В таких случаях Иваныч доставал из пакета бутылку, молча открывал её и быстро начинал пить прямо из горла. После чего начинал «лезть в другую». Слово за слово, и вечер превращался в ток- шоу на «Первом». Вот только проблемы, которые начинали сыпаться из уст участников, были не международные, а что ни на есть самые внутренние. В таких ежевечерних шоу роль лидера либерал-демократов всегда исполняла Нина, а роль социалиста отводилась Иванычу, который после принятия очередной дозы народного напитка всегда хотел быть ближе к людям: всех любить, выравнивать социальное неравенство, дарить свою улыбку и песню, а заодно и всё поделить, ну, чтобы по справедливости, на всех, как у простых людей принято.
- Да ты генератор зла, - резюмировал дебаты Иваныч и, громко хлопнув дверью, ушёл покурить во двор.
И уже, проходя под окнами кухни, с досадой прибавил:
- А, я ей ещё батончик купил, шоколадный. Зараза. - Имея в виду то ли батончик, то ли себя, то ли Нинку, то ли всю свою непутёвую жизнь.
Нина со всей силой бросила ложку, которой перемешивала салат, на стол, да так, что та, подскочив, упала на пол, разбрызгав майонез, рис, яйца и кусочки тех самых крабовых палочек, из-за которых всё началось, и безвольно опустилась на стул. Глядя сквозь экран телевизора, и не слыша ничего из того, что рассказывал журналист о проблемах жизни в сопредельных странах, Нина всплакнула, укоряя себя в очередной раз, что вспылила и устроила скандал на пустом месте. И в этот момент ей так сильно стало жалко мужа, приготовленный впустую салат и себя заодно.
А Иваныч долго не мог найти себе места, наматывая круги по двору, закуривая одну сигарету за другой, по пути, как настоящий хозяин, машинально проверяя засовы на сараях.После очередного круга он подошёл к хате, облокотился спиной о побелённую стену, снова закурил и, выпуская дым, поднял голову вверх.
Огромный чёрный шатёр, распахнувшийся над головой Иваныча, мерцал, переливался и жил, казалось, какой-то своей непонятной жизнью, в которой, наверняка, не было тех проблем, которые с головой накрывали ежедневно жителя станицы, затерявшейся среди южных полей, многочисленных речушек и лиманов.
- Эх, - вздохнул Иваныч, глядя в глубину мерцающей бездны, - как там у них…
И в этот момент его особенно привлекла яркая, красноватая мерцающая точка в небе, которую он раньше не замечал. Сердце начало учащённо биться, какая-то сила прошла через всё его тело (об адреналине Иваныч, конечно же, ничего не знал), и он пришёл в лёгкое возбуждение. В надежде, что она начнёт двигаться и породит цепь невиданных событий, он долго и пристально вглядывался в неё. Движения не происходило, но вот свет, этот завораживающий свет от неизвестного огонька в небе, проникающий, казалось бы, прямо внутрь до самых глубин подсознания, просто гипнотизировал, не давая отвести взгляд.
О траекториях прохождения планет, апогеях и перигеях Иваныч, конечно же, ничего не знал. Так же, как он не знал ни про полярные шапки на Красной планете (того самого яркого огонька в небе), ни про шрам большого каньона на её боку, ни про двадцатисемикилометровый Олимп, самую высокую гору в Солнечной системе. Но чем-то пленял его этот красноватый, мерцающий огонёк в ночном небе и что-то будоражил внутри, да так, что он почувствовал какое-то непреодолимое вдохновение, силу и свет, которыми непременно захотелось поделиться с Ниной.
Вдохнув ночное небо, которое так пахло рекой, камышом, свежей травой, перемешиваясь с запахом чего-то жареного - то ли картошечки, то ли шкварок, грибочков, курочки и ещё Бог знает чего, вдохновлённый Иваныч пошёл обратно в хату.
Нина стояла у плиты, разогревая курицу на сковороде. Кот Васька крутился, мяукая у её ног. Муся уютно устроилась на холодильнике и делала вид, что дремлет, не забывая приглядывать за своим, не совсем благоверным Василием, сквозь прищур кошачьих глаз. Закипал чайник. А на столе стоял тот самый крабовый салат. Рядом была водружена чекушка с рюмочкой для Иваныча, две тарелки и на блюдечке в центре стола лежал шоколадный батончик, купленный для Нины, разделенный пополам.
Игорь ПОГОРЕЛОВ
Психология!

Сдаём в институте экзамен по психологии. Педагогиня – зверь. Легко ставит двойки отличникам, даже если те отвечают «на зубок». Обязательно поставит «неуд», если за какого-то студента попросит её коллега. Такая вот принципиальная оригиналка. Старая дева, во время экзамена ещё и демонстративно курила «Беломор», глядя отвечающим прямо в глаза. «Отлично» не ставила никогда. То есть - вообще никогда, за пятьдесят лет работы педагогом в нашем институте. Всю группу трясёт. До этого все старательно ходили на семинары.
Я увидел психологиню первый раз. Стал расспрашивать о ней у однокурсников. Один приятель рассказал, что она ещё и прожженная преферансистка. Захожу, беру билет, сажусь готовиться. «Зверюга» рубит направо и налево, только вылетают с «неудами» очередные неудачники. Выхожу отвечать.
В ответе на первый вопрос, (а речь шла о риске и смелости) вставляю иллюстрирующую ответ фразу, которую только играющий в преферанс и может понять: Ну, это как… как мизер при трёх пробоях играть!»
Психологиня заинтересовалась:
- Со всеми «хозяйками»? »
- Да. Но, но при этом со следующими валетами. Задумались оба.
- Да. С валетами это нагловато будет», - после паузы резюмировала педагог, и я продолжил отвечать.
Второй вопрос – «Мимика и жесты». Рассказываю о болгарах, которые не как все кивают «нет», а головой мотают, значит «да» и т.д. Тут начинаю говорить о жестах подсчёта. Мол, кто-то разгибает пальцы, кто-то сгибает «Один, два, три». Тут привожу в пример африканское племя, которое для обозначения цифр использует суставы руки. Три на ладони, четвёртый сустав – между ладонью и рукой. А пятый – между рукой и предплечьем. Ну, и делаю показательный подсчёт: «Один, два, три, четыре, пять!» На счёт «пять» я левой рукой переламываю правую руку посередине и, сжав кулак, фиксирую получившийся двусмысленный жест в сторону педагога. Извиняюсь и продолжаю отвечать, как ни в чём не бывало.
Педагогиня и бровью не повела. Берёт мою зачётку и начинает ставить отметку. Я умышленно пытаюсь подглядеть и спрашиваю её: «А что вы поставили?» Психологиня, явно поняв, что я её «развёл», стараясь на меня не смотреть, ответила мне прямо глядя в лицо всё же тем жестом африканцев, который обозначал «Пять»!
Сергей КАЩЕЕВ
«Зитцен зи срацен»

Светлой памяти моего отца Виноградова Василия Ивановича
Слово «полицай» я слышала с раннего детства. В небольшом поселке, где я родилась и выросла, взрослые произносили это слово часто. Называли им за глаза вполне конкретных лиц, проживавших на нашей Пролетарской и соседних с ней улицах.
Мы – дети, обходили стороной дворы бывших полицаев. Жили они замкнуто, редко появлялись на людях.
За год до того, как я пошла в первый класс, война постучалась в мою жизнь, хотя родившихся в шестидесятых годах даже послевоенным поколением уже не считают.
Было лето. В воскресенье в совхозном клубе развернули избирательный участок. Управившись по хозяйству, родители спешили с утра пораньше «на выбора». В те годы именно так, с ударением на последнем слоге произносили это слово.
Кого и куда выбирали, особенно никого не интересовало. Избиратели демонстрировали полное доверие к власти. Взрослые были уверены в том, что избранники будут работать в интересах народа. Радовались, что будет на выборах буфет, а в нем пиво и мороженое в неограниченном количестве.
Отдав свой голос, люди устремлялись в буфет. Мужчины вставали в очередь за пивом, женщины с детьми за лимонадом и мороженым. Праздничные наряды, коллективные песни перед клубом под баян, солнечное утро, предвкушение разговоров за кружкой пива, возможность отдыха создавали у взрослых приподнятое настроение. Детвора пользовалась атмосферой всеобщего благодушия, выпрашивала у родителей деньги на сладости и недорогие игрушки.
Среди монотонного гула неожиданно послышались крики. «Куда, полицай, лезешь без очереди?!» - отчетливо услышала я голос моего отца. Очередь за пивом угрожающе зашумела.
Едва выбравшись из буфета с полной сеткой мороженого, мы с мамой узнали от соседки, что отца забрали в милицию.
- Пива давали по две кружки в руки. А Дубовик встал перед твоим Васькой без очереди, да еще и жинку с собой притянул. Васька его полицаем обозвал, да за рукав из очереди хотел вытащить. А Дубовичка як заголосить: «Вин свое отсидел, вину искупил, а ты выборы срываешь! Долгова зовите!» Долгов Василия твоего из очереди зафатил, бо мужики хотели уже Дубовикам навешать, да в коляску его и умчал на мотоцикле от греха подальше. А Маруська буфетчица видит такое дело и крычить: «Бочка закончилась, надо новую открывать. Шас схожу за инструментом». Смылась и нету ее. А Дубовичка с Дубовиком поняли, что дурна курятина и тикать разом. А ты, Дуся, езжай в городок к Долгову. А то Василь твой, как телок смирный, гляди припаяют срок ему не за что не про что», - на одном дыхании выпалила Полина Корнева.
Мама отправила меня домой, а сама поспешила на остановку автобуса. Нужно было вызволять отца.
Что Долгов – это фамилия, а не должность я поняла в тот вечер, когда мама вернулась домой уставшая, голодная и спокойная. А до того дня я пребывала в твердой уверенности, что «долговыми» именуют тех, кто отвечает за порядок. Небольшого росточка, с рыжими волосами, выбивавшимися из - под рукавов форменного кителя, участковый Долгов был грозой Нефтегорска. Даже его черный мотоцикл «с люлькой» - единственный тогда в поселке, внушал гражданам трепет.
Понятие «справедливость» у нефтегорцев было прочно связано с участковым, хотя были же, конечно, в нашем поселке и председатель Совета, и депутаты.
Чтобы не допустить драки на выборах, участковый оформил моего отца на 15 суток. Но увозить его в райцентр, как полагалось, не стал. Отец ушел пацаном на фронт в 1941 году, а закончил войну в 1946 году. Видно, этот факт был зачтен отцу участковым, тоже фронтовиком. Каждую ночь под покровом темноты отец появлялся дома, помогал матери по хозяйству, а с рассветом, на велосипеде с узелком харчей отправлялся в поселковое отделение милиции на отсидку. Спал он на сеновале, чтобы ненароком не увидели соседи.
За эти 15 дней в нашем дворе перебывало множество народу. Оставив свои игры, мы слушали разговоры взрослых. Поступок отца нефтегорцы поддерживали открыто и считали своим долгом сказать об этом моей маме. Она, конечно, переживала, что отца могут уволить с работы за прогулы. Но в тракторном парке, где он тогда работал, сделали вид, что его отсутствия не заметили.
Благодаря этим рассказам-воспоминаниям я много узнала о том, как жили во время оккупации нефтегорцы. Многие из тех, о ком рассказывали соседи, открывались с геройской стороны, хотя никогда не выказывали ничем своего героического прошлого. Узнала я и другую, обжигающую душу правду о своих земляках.
Оказывается, после Великой Отечественной войны кроме Дубовика проживало в поселке еще шесть полицаев. Теперь-то я узнала их всех пофамильно.
Встречать после «отсидки» отца собралась вся улица. Мои подруги нарвали букеты пыльных панычей, которые росли повсеместно под заборами, и вручили их отцу и Долгову, который доставил папу прямо домой на казенном мотоцикле.
Отец смущенно принял цветы и поспешил заняться домашними делами. Участковый велел всем расходиться и «не митинговать». Но женщины еще долго сидели под нашей калиткой на дровах, снова вспоминали войну и все, что с ней связывало наш маленький поселок.
Одним из развлечений для жителей поселка были походы «на нарзан». Неподалеку от крайнего ряда домов, еще со времен добычи нефти англичанами в здешних местах остался примитивно оборудованный источник минеральной воды. Никто толком не знал химический состав воды, она отдавала немного нефтью, но считалась лечебной. Ходили за нарзаном с трехлитровыми баллонами и коротким обрывком шланга. Возле трубы с сочившейся минералкой, особенно в теплое время года всегда было людно. Однажды мы сидели на полянке возле нарзана шумной ватагой, как вдруг из-за кустов выскочила крупная немецкая овчарка и направилась к нам. Густая лоснящаяся шерсть стояла на ней дыбом.
Овчарка предупредительно рыкнула, мы оцепенели от страха. Через несколько секунд из-за деревьев показался тот самый Дубовик.
Отсутствие взрослых, встреча один на один с полицаем и его грозной собакой в лесу вызвали у нас минутную панику. К тому времени мы уже знали о подвигах героев – пионеров и каждый мечтал совершить геройский поступок.
Мысль, будто я на войне и должна отомстить за отца Дубовику мигом пронеслась в моей голове. Прямо и дерзко я взглянула в глаза бывшему полицаю. Дубовик явно почувствовал этот настрой и отрывисто скомандовал: «Зитцен зи срацен!». В школе мы учили немецкий язык и поняли этот окрик, как «сидеть на попе!»
Овчарка отвернулась от перепуганных детей и бросилась в траву за бабочкой. Полицай нацедил шлангом в банку немного воды и поспешно скрылся в лесной чаще.
Мы не сразу поняли, что слова его относились к собаке, и приняли их на свой счет. Не рассуждая, бросились вслед за ним в лесную чащу, вообразив, что ведем наблюдение за диверсантом.
Выкрикивая на весь лес слова «фашист», «полицай», мы старались, чтобы Дубовик нас услышал. Но фигура с собакой быстро исчезла из вида. Кричать в пустоту было бессмысленно. Однако чувство оскорбления и беспомощности еще долго не покидало нас и требовало отмщения.
Спустя годы я поделилась детскими воспоминаниями со своей подругой, известной сценаристкой Зоей Кудрей. В фильме «Палач» выражение «зитцен зи срацен» она вложила в уста палача Тоньки-пулеметчицы. Удивительно, но только после этого детская обида начала отпускать…
Галина ВИНОГРАДОВА
На фото: фрагмент картины Виктора Цветкова «Пионеры»
Детство моё постой… Я еще не готов!

Мне безумно повезло в жизни. Я родился и вырос у бабушки с дедушкой в уральском Ильменском заповеднике. Сейчас я понимаю, что тогда я был самый счастливый мальчик на свете, но не знал еще, что такое счастье. Сейчас знаю.
Просто хочется поделиться фрагментом из детства, описанном в отрывке из моего приключенческого романа «Уход деда Ефима», который, как все и всегда, написал я по личным воспоминаниям. Сюжет романа допридуман, характер героя сохранен.
Трудно не спрятать в нем себя. Мы все родом из детства. Я в романе – Фима.
Наше детство – это наше счастье
У бабы Маши было несколько причуд, к которым Фима никак не мог привыкнуть. Некоторые из них были совсем безобидными, а к некоторым нужно было быть настороже. Она, например, регулярно забывала собирать в курятнике яйца, а на следующий день искренно поражалась способностям куриц нести по два яйца в день. Курицы чувствовали себя в хозяйстве совершенно счастливыми по двум причинам. Во-первых, их через день хвалили, а во-вторых, они жили вольготно. С утра уходили в окружающий дом сосновый лес и возвращались вечером. Причём приходили в том состоянии, которое буквально называется «как сонные курицы». До своих гнёзд в курятнике под домом они шли с остановками, как пьяные биндюжники из трактира. По дороге домой периодически отдыхали в разных местах двора, норовя заснуть. Приваливались к забору, ножкам стола во дворе, бочке с навозом, в которой Фимка копал червяков для рыбалки. Они бы и спали там, если бы не петух. Петька хоть и был ленивым, но всё же собирал своих загулявших «баб» со всего двора и гнал под дом.
Первое место в дворовом чемпионате по лени оставалось за сучкой Мартой. Все годы, которые Фима в детстве прожил у бабушки, собака так же, как и баба Маша, была в одном и том же возрасте - старости. В отличие от куриц, она должна была жить возле будки на привязи, и была этому рада. В её обязанности входило - предупреждать лаем о приближении к дому посторонних. В заповеднике, где было кордонное хозяйство, это случалось так редко, что Марта приближению случайных прохожих сначала дико удивлялась, потом долго вспоминала, что нужно гавкать, но плохо помнила, как это вообще делается. Прокашливалась, примеривалась и издавала что-то похожее на лай, а точнее на старческий кашель. Впрочем, это не подвигало её на вставание со своей лежки возле будки. Второй частью ее работы было отгонять куриц, норовивших заснуть или на самой Марте, или залезть в её будку, дабы не идти ещё целых двадцать метров до ненавистного курятника.
Баба Маша среди всего этого буйства неги никогда по двору пешком не ходила. Она бегала. Её хлопоты были настолько причинно-многочисленны, что вечером оказывалось, что она ничего из намеченного сделать не успевала. Впрочем, её неуемная работоспособность позволяла регулярно забывать, что нужно иногда готовить поесть.
Деда Фёдор уходил с рассветом и приходил в сумерках, поэтому претензий к своей жене не имел. Вечером выдирал на огороде пучок лука, доставал из подпола сало, отрезал треть каравая хлеба и съедал это всё за столом под кустом калины во дворе. Сопровождал он свой пир хорошим жбаном бражки.
Фимка жил своей жизнью и обеспечивал себя едой сам. Рыбой кормило распластавшееся среди гор озеро, в заповедных лесах вокруг вырастало множество грибов. Ответ на вопрос, как прожить на пенсию в 12 рублей в месяц имел естественное решение: живите за счёт леса! У бабушки Маши этих вопросов не было. Грибов было много. Любителей грибного супа тоже. Фимкиных сушёных к зиме грибов набиралось по тридцать и больше чулков. Невестки привозили свои пришедшие в негодность чулки, бабушка их штопала. Лучше, чем женские чулки, ничего для хранения сушёных грибов нет. Картошкой обеспечивал огород . Хлеб баба Маша пекла раз в неделю. Запасы муки всегда лежали в прохладном помещении «графской», Так называлась летняя пристройка, где ночевали Фима и дед.
Из опасных для здоровья окружающих привычек бабы Маши было забывание на столе во дворе миски с мёдом. Утром под кустом калины собирался немыслимый рой пчёл, которые даже проход мимо стола в клозет воспринимали, как посягательство на свою халявную собственность и безжалостно атаковали Фиму уже при выходе из «графской». В таких случаях ему приходилось делать прорыв через двор к калитке, переходящий в стремительный пробег до озера. Пчёлы где-то на середине пути отставали, грозили Ефиму своими маленькими кулачками и гордо возвращались к праздничному столу.
На озере у него была своя небольшая лодка. Иногда он на ней уходил на другой берег озера, где были вообще нехоженые, запретные для людей места.
Ильменский заповедник имел статус запрета для посещения даже грибников. Наступала любимая Фимой пора засолок, он привозил оттуда полную лодку груздей. Бабушка откладывала свои ненужные никому дела и включалась в грибную путину. Фима терпеть не мог мыть и чистить грузди и благоразумно уходил на лодке за очередной порцией грибов. Бабушка не возражала. Когда бочка становилась полная, дед накрывал её подогнанным камнем-кругляком и придавливал немыслимо тяжёлой глыбой гранита. Ефим её и зимой поднять не мог, поэтому любимые грузди ел только в дни приезда гостей вместе с ними. В такие дни перепадало даже мясо, которое привозили гости.
В сельской школе, километрах в шести от кордона, учились три десятка учеников. Потом Фима узнал, что нормальные школьники в городах собирают марки и спичечные этикетки, значки и старинные монеты. В его же школе все собирали полудрагоценные камни. Недра в лесах и горах уральского заповедника были нашпигованы полудрагоценными камнями, названия и ценности которых местные школьники не знали. Друзы горного хрусталя кучей лежали у Ефима на хоздворе. В сарайке стояли ящики с кусками малахита. Отдельно были красивые цветные камушки разного цвета и размеров. Малахит в школе не котировался. А камушками меняли между собой.
Потом, уже в средних классах, Ефим привёз в город своему учителю географии часть своих богатств от бабушки, сколько смог унести. Учитель онемел, перебирая подарок. Ефим понял уже взрослым, покопавшись в библиотеке, что в этот день его учитель стал миллионером.
Когда Ефим приносил домой много рыбы или белых грибов для сушки, бабушка была очень довольна и шла к комоду за шоколадкой. Таким благородным словом она называла шоколадные конфеты, которые Фима терпеть не мог. Они были какие-то заскорузлые от старости, так что забыли состав своей начинки. Но баба Маша закрывала их от Фимы на замочек. Там в буфете в большой вазе были еще карамельки, которые Ефим брал из вазы, сколько хотел, отогнув фанеру с задней стороны комода. Бабушка с умилением отчиняла замочек, доставала пару шоколадок и радовалась радости Ефима, не забывая замочек опять закрыть, а ключ незаметно для Фимы спрятать в потаённое место на гвоздик за зеркалом. Знала бы она, что у Фимы в «графской» под кроватью, в ящике с рыболовными снастями, лупой, зубчатыми колёсиками разобранных ходиков, со всем мальчишеским богатством, отдельной стопой возвышалась «многоэтажка» из плиток шоколада «Алёнка». Шоколадом было принято расплачиваться с Ефимом за варёных раков, которых он на лодке отвозил в прибрежную пивнушку санатория в районе посёлка. Раков в кристально чистых водах озера было несметно. Как и пустых бутылок в районе прогулок проката лодок и катамаранов для отдыхающих, где работал дед. Десяти пустых бутылок, которые Ефим с дедом с лодки доставали длинной палкой с сачком на конце, которую называли «зюзьга», хватало деду на бутылку, которую в народе называли «противотанковая». Попутно Фима доставал раков, но это была уже его добыча. Раков дед презирал.
Последний раз Ефим был у бабушки с дедушкой уже почти взрослым в морской форме с пробившимися усами. Они встретили его невозмутимо. Дед порадовался поводу выпить без упрека со стороны грозной жены. Марты уже не было. Был такой же ленивый её взрослый сын по кличке Мальчик.
Бабушку родственники Ефима похоронили не в заповеднике, а в деревне, где жили сами. В один из его приездов на родину предков Ефиму удалось найти её могилу. Он принёс ей гвоздики. Они очень контрастировали с ещё лежавшим белым снегом. Он смотрел на её фотографию и его не покидало чувство, что бабушка очень удивлена, увидев Ефима в предпенсионном возрасте. Может и не узнала….
Сергей КАЩЕЕВ
А взошли ли алюминиевые огурцы?

Рок-н-рольное время ушло безвозвратно,
Охладили седины твоей юности пыл.
Но я верю, и верить мне в это приятно,
Что в душе ты остался таким же, как был.
В. Цой
В начале был «Битлз». В школьную юность неразборчивая музыка на бобинах раздолбанной магнитофонной приставки «Нота» ворвалась через частокол бодрых комсомольских песен, «Голубых огоньков» с Магомаевым и Зыкиной, сатиры журнала «Крокодил», романтичных бригадиров из журнала «Юность», всеобщего осуждения американской военщины во Вьетнаме, громких застольных песен соседей по коммуналке.
Все одноклассники поголовно взялись обучаться на гитаре и, познав «барэ» и «большую и маленькую звездочку», тут же создавали свои многочисленные ВИА. Электрогитары делали сами по схемам из «Юного техника».
Одновременно началась неравная битва за длинные волосы. Борьба за каждый сантиметр шла с родителями, учителями и самым тяжелым калибром - военруком. Познания отставников ограничивались двумя стильными прическами: «бокс» и «полубокс». Любой пушок на затылке именовался «патлы».
Человек в джинсах становился небожителем. Если у него были еще и длинные волосы, то это стопроцентно был музыкант. Девушки складывались перед таким в штабеля.
«Цветы», «Веселые ребята», «Самоцветы», «Ариэль», «Песняры» — наш ответ на происки ливерпульских родоначальников аргументировался доступностью их официальных пластинок. Или звукошуршаших песен их «отцов», записанных в студиях звукозаписи «на костях», или, более дорогих, фирменных, на «чёрном» рынке.
Но чуть-чуть вернёмся к истокам. Последствия оттепели родили интерес к поэзии и альтернативной музыке. Так, кроме бардов, родились еще и ВИА. Электронные инструменты на уровне оркестров «голубых огоньков» воспринимались, как альтернатива одинаковости гладко выглаженных солистов-любимцев. Поэтому и ставили их в «голубые огоньки» последними.
А началось всё с бардов. В шестидесятых гитара перестала быть олицетворением мещанства. С ее грифа исчез бант, но на деке еще встречались немецкие девушки на «переводилках». Кроме многочисленных студенческих театров, первых команд КВН, первых Клубов самодеятельной песни, первых танцевальных вечеров под школьное ВИА, появилось глобальное туристическое братство. В штормовку и рюкзак влезали не только в отпуска, но и каждую пятницу. Профессия «геолог» стояла в мечтах школьников на втором месте после «космонавта». Хотя…нет… космонавты уже уступали. Физиков побеждала лирика. Появилась общедоступная гитара. «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой»…
Между бардами и остальной культурой тогдашних ВИА лежала пропасть, которая внятно делила молодежь на русских поэтов и музыкантов, старающихся быть современными. Те ВИА (простите за аббревиатуру, называю тогдашним языком), кто сидели в подполье, пели на английском. Сам грешен.
У бардов появилась своя элита авторов и они, отнюдь, не пели на английском. Исключительно на языке соотечественников. Простота, искренность, интимность и откровенность стала альтернативой существующих всенародных песен для молодёжи. (Хотя, признаться, некоторые те песни я до сих пор люблю, как и свою пионерскую юность). Барды не жили в вакууме и многие из них любили западный рок, джаз.
Барды были первыми. У костров (только среди близких друзей) пели и подозрительно погибшего в эмиграции Галича, и ехидные песни опального Юлия Кима (которому пришлось стать для кинематографа и театра Юлием Михайловым), двусмысленного Дулова, Агроновича, Окуджавы. Правда, Владимира Высоцкого у костров не пели. То ли от уважения к личности, то ли от слабости попытки воспроизведения его индивидуальной мощи.
Весь этот поэтическо-музыкально-альтернативный протест каким-то образом переменил и наших рок-н-рольщиков. Они на электронных инструментах вдруг запели на русском, но уже так, что захотелось слушать их тексты! Двусмысленности «Машины времени», какая-то новая тоска «Аквариума», внятные и без красивости тексты песен «Воскресенья». Потом ворвался яростно – жизнелюбивый «АукцЫон» и «Звуки Му» со своим мамоновским, не всеми адекватно воспринимаемым сарказмом. Стало много лидеров и не только на Рубинштейна в Ленинграде и в необъятной Москве, но и на Урале.
В Ленинградском клубе на ул. Рубинштейна - «роддоме» российского андеграунда, мне повезло бывать на самых первых концертах «ДДТ» и «Наутилуса». Все это было не просто альтернативой, а каким-то особым, присущим только России, продолжением жанра внутреннего протеста. А потому и воспринималось властью с циничным противодействием. И хотя барды и рок-н-рольщики протестовали тогда одновременно, воевали со всеми дубово одинаково. Фестивали бардов закрывали по причине заражения местности «ящуром». где они собирались на свои фестивали. Оговорюсь ещё раз, бардовская песня была интеллигентно тихим протестом. Без усилителя громкости. Но, в отличие от рок-н-рольщиков (на мой взгляд) – более сокрушительным для существующего строя.
И все же добили - «рокеры».
Рок-н-рольщики делали концерты в пригородных Домах культуры колхозных свиноферм, концерты начинались уже в битком набитых молодежью электричках. Это был более громкий протест. Для власти – протест, навязанный с Запада. Так о них и писала (ударение над этим глаголом ставьте, где хотите) советская пресса.
В Краснодаре рулил «Арбат». На уличной тусовке смешались художники и музыканты. Вместе с разрешением на продажу картин прямо на улице, где даже на моих глазах свою первую работу удивленно продал прохожему сегодняшний мэтр живописи Валерий Блохин, на улице появились и гитары. Повылезали «из подвалов» рокеры и стали собираться в стайки. Первыми были «Герои Союза», «Доктор Крупов», «Стальная птица», чуть позже - «Нет» и «Дрынки». Небожителями стали «Василич», Женя Греков, Эбергард. В восьмидесятых и начале девяностых проявились Маша Макарова, Женя Куземин, Женя Кастрыгин и, конечно же – Рубен Казарьянц!
На краснодарских экранах ТВ появился революционный ТМК (Телевизионный Молодежный Канал). На котором кроме рокеров и молодых художников и поэтов, была рубрика даже для «металлистов», во главе с титановым Хаером. Блистал вездесущий Костя Омельчак. Везде, где только можно. В еще работающем, но умирающем «Комсомольце Кубани» родилась «Партия Любителей Пива».Театр Юного Зрителя перерождался в Молодежный театр.
Л. Гатов ковал «Премьеру». Заблестали на сцене братья Чижаи, Игорь Шишов, подъехала Алена Стихарева (Андреева). На ГТРК В.Рунов разрешил юморить (в порядке эксперимента и духа перестройки) Юре Архангельскому, Сергею Кожанову. Там же умничали Эдуард Гончаров, Анатолий Васильев.
У бардов Кубани тоже был «серебряный век». Авторы тихой песни, попахивая дымком костра, вышли на сцену городских ДК к микрофонам. Появились районные, городские, региональные клубы и новые авторы. Хотя славы и мощи Руслана Шмакова и всесоюзно - тихотворящего в поселке возле Туапсе Владимира Ланцберга на «большой земле» с кубанской стороны никто не проявился. Впрочем, песни отца и сына Эдуарда и Андрея Гончаровых часто и сейчас слышу в разных уголках России.
Таким нелегким для граждан, но прекрасным для творчества было время наших надежд и разочарований середины «восьмидесятых» и начала «девяностых» на Кубани и в России. В то время я жил в разных городах одновременно. Поэтому заметил…
Что в России появился… Цой!
Вначале он показался мне позером. Этаким… псевдо-глубокомысленным не поэтом с задатками молодежного лидера нового поколения.
«…Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка…»
Я пытался въехать в смысловой код, но надеть эту рубашку на себя не получалось. Помогла дружба с параллельным движением андеграунда, но в живописи. Нечаянные друзья «Митьки», закусывая вермут плавлеными сырками, писали свои опусы-картины исключительно для себя и друзей, нисколько не задумываясь о мнении критиков и зрителей. Это и делало их искусство личным, ехидным ко времени, государственному устройству, признанным авторитетам. Они стали продолжателями стеба Козьмы Пруткова, Даниила Хармса, Венечки Ерофеева.
Музыканты стебались не все. Гребенщиков, Курехин, да, пожалуй, Мамонов. Цой был абсолютно серьезен. Но писал свои стихи для трех – пяти друзей, которые понимали каждое его слово, полунамек.
Только то и может стать выдающимся, что не делается на продажу. Настоящий эксклюзив делается как бы исключительно для личного употребления, но становится понятным и дорогим всем. Всем, кто настроен на эту же волну, на эту же высоту мироощущения, философского поиска. Срабатывает радость понимания и, как следствие, чувство сопричастности.
Цой стал знаменит, еще работая по ночам кочегаром. Но, по-мальчишески стал ходить по Питеру в кожаном длинном плаще с двумя громилами телохранителями.
Картины «Митьков» неожиданно для них самих стали скупать иностранцы за сотни тысяч долларов. Сырки «Дружба» сменил сыр «Рокфор». Рок-н-рольщики повылезали из подвалов и чердаков и вышли на стадионы.
Наверное, трудно протестовать два концерта в день.
«…Я ждал это время, и вот это время пришло, те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло, их не догнать, уже не догнать. Тем, кто ложится спать — спокойного сна…»
Тогда-то Гребенщиков и заявил, что «рок-н-ролл мертв». И отчасти был, увы, прав.
Конец восьмидесятых стал концом не только рок-н-ролла. Умерло и таинство фестивалей самодеятельной песни. «В Аркашиной квартире живут другие люди». Нынешние абстракционисты в живописи воспринимаются как вторичность, снобизм, и вообще — как амбициозные люди, просто не умеющие рисовать и от того надуманно выделывающиеся. Революционеры семидесятых - восьмидесятых стали вести телепередачи и поселились в пентхаусах.
Думая об ушедших Великих, трудно представить себе, а что бы было, если бы они дожили до наших дней? Что бы делал сегодня Высоцкий? О чем пел Тальков? Как бы, наверняка, стал похож на правильного Державина старик Пушкин! Каким занудой стал бы в старости Лермонтов! Наверное, Евгению Леонову было бы больно, если бы он дожил до обрушения финансовых пирамид, в телерекламе одной из которых он рискнул принять участие. Улыбался бы в девяностых Гагарин? А не осточертел бы со своей «правдой-матушкой» Шукшин? К каким переменам призывал бы сегодня Цой? И что сказал бы, если б узнал, что его именем назовут одну из улиц любимого города?
Ставя его имя в одном абзаце с Кумирами, делаю это сознательно. Точнее – осознанно. Время проверило Цоя на состоятельность. Не только мои современники ностальгируют под его песни. И для армии нынешних тинэйджеров он остаётся кумиром. Сердца требуют перемен во все времена, как и удачи в бою…
Великие уходят удивительно вовремя. На взлете. И именно в той точке, после которой наступает падение. Уход Героев Нашего Времени — это напоминание живущим о том, что нужно успеть сделать в этой жизни что-то самое главное. Не нужно только откладывать это «на потом».
«Закрой за мной дверь. Я ухожу. И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, Тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся — там, за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь. Я ухожу. Закрой за мной дверь. Я ухожу...»
Сергей КАЩЕЕВ
Давайте помоем окна!

В других же окнах будет лето.
«Ну что за дело – снег в окно?!
Ведь снег небесный только в это.
В других же окнах будет лето!
На свете так заведено…»
(Владимир Ланцберг)
Загадка, которую пыталось понять не одно поколение людей: почему из абсолютно одинаковых ингредиентов у каждой женщины получается абсолютно разный борщ?!
В старину, когда еще пекли в домах хлеб – по его вкусу определяли характер и душевность хозяйки. При этом ошибиться было невозможно, настолько точно качество каравая передавало всю сложность женской натуры.
По поведению ребёнка можно достаточно точно определить характер его мамы. По приусадебному участку – его жителей. По окнам – их характер.
Пробовали когда-нибудь определить по окнам – «кто, кто в тереме живёт?» Пыльные стекла со следами краски возле рам, зевающая кошка между горшками с фиолетовыми растениями. Узнаете? А вот: новые деревянные рамы, но покрашенные почему-то темно синей краской, желто- зеленые шторы, настольная лампа без абажура, рядок пластмассовых стаканчиков с рассадой, очки на газете «Труд» и детское ведерко с совочком. Узнаваемо? Окна – это глаза дома. А глаза, как известно – зеркало души.
Вот почему так старались в старину делать окна красивыми. Украшали наличниками, резьбой, рисунками на ставнях. На Рождество на стеклах рисовали снежинки, на Масленицу – солнце, на Пасху – золотые купола. А немытые окна считались прямым свидетельством нечистоплотности хозяйки.
C приходом весны, в городе моего детства все мыли окна. Да и правильно: мы же умываемся утром! А немытые весной окна выглядят заспанными. Давайте обязательно как можно быстрее помоем в своих домах окна! Да и не только в домах. Просто становится тошно, когда вижу грязные, никогда не мытые окна в автобусах. И водители всегда в таких автобусах – хамы. Ведь окна в автобусах не только для того, чтоб водителям было светло деньги считать.
А чтоб мы и наши гости видели окружающую нас природу, красоту. А какую можно разглядеть красоту через пелену грязи?
Давайте помоем окна! Мне как-то моя бабушка так сказала: «По тому, какой чистоты у тебя в доме окна, мужчины определяют чистоту твоего нижнего белья». Может быть, немного грубовато, но запомнил я это на всю жизнь.
Дорогие наши женщины! Уважаемые мужчины! Обязательно встречайте радостный воздух весны чистыми окнами!!! Иначе воздух радости придёт в другие дома...
…Но тут я на стекло плесну воды,
и женщина взойдет на подоконник,
и станет мокрой тряпкой мыть стекло,
и станет проступать за ним сама
и вся в нем, как на снимке,
проявляться.
И станут в мокрой раме появляться
Ее косынка
и ее лицо
крутая грудь,
округлое бедро,
колени, икры,
наконец, ведро
у голых ее ног засеребрится.
Но тут уж время рамам отвориться,
и стекла на мгновенье отразят
деревья, облака и дом напротив,
где тоже моет женщина окно.
И тут мы вдруг увидим не одно,
А сотни раскрывающихся окон,
и женских лиц,
и оголенных рук.
И мы увидим город чистых стекол!...
(стихи Юрия Левитанского)
Cергей Кащеев
День поэзии

Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать – кишка тонка».
(В. Маяковский. 1918)
Ревнуют ли друг друга поэты, писатели, художники? Отвечу однозначно: «Еще как»! И ревность, которую общепринято понимать, как подозрение в неверности одного из супругов, по сравнению с ревностью к профессии – это просто игра в песочнице (например, мудрый (а после 1900-го года – мудрый до занудства) Лев Николаевич Толстой, страшно ненавидел Шекспира). И это ведь даже не тот случай, когда два писателя-современника борются за своего читателя-почитателя. Века их разделяли.
Как не вспомнить Моцарта и Сальери? Не пушкинских героев с допридуманной им судьбой, а настоящих. Сальери – богатый, знаменитый, признанный придворный композитор и юноша-выскочка Моцарт, создающий шедевры, безалаберно играючи. Ну, кто такое вытерпит! Моцарт умер совсем молодым, Сальери – высокочтимым стариком. Кто теперь вспомнил бы этого Сальери и его музыку, если б не Пушкин?
А вспомните «Поэтические дуэли» первых трех десятков лет прошлого века между поэтами «серебряного века». Вот бы сейчас посмотреть в телевизионной записи, как лупили друг друга своими рифмами Маяковский и Хлебников на поэтических вечерах. Так и вижу, как Маяковский прямо на сцене, перед началом декламации, снимает пиджак и засучивает рукава, а Хлебников вальяжно и снисходительно ходит за кулисами Политехнического, обмахиваясь веером. Так вспоминают об этом очевидцы-современники.
Создательница «Музыкальных рингов» на ТВ в 1980-е годы ленинградская журналистка Тамара Максимова лопнула бы от зависти. Маяковский, Северянин, Хлебников, Андрей Белый, Саша Черный дрались за читателя всерьез. И вот что удивительно! – Корону «короля поэтов» тогдашняя публика безоговорочно присуждала... Хлебникову! Кто мне сегодня сходу прочтет подряд три стихотворения Велемира – ставлю коньяк. Сам назову десяток сослуживцев, которые могут цитировать без остановки «проигравшего» Маяковского.
История учит тому, что ничему не учит
В 1980-е годы та самая Максимова пригласила на свой «Музыкальный ринг» несколько малоизвестных групп: «Аукцыон», «Звуки Му», «Вежливый отказ», «Авиа» и т.д. «Звуки Му» выступали последними.
И когда исполнял свою психоделическую песню Петр Мамонов, по сути, протестуя своим подчеркнутым издевательством, притворяясь психически больным, против ситуации, дебилизма системы и всего, что разделяло толстой и жирной чертой понятия «СССР» и «Родина», и против «представителей передовой молодежи», разбавленной политологами в погонах, сидящими в зале, которые устроили такую обструкцию и надругательство над поэтом, что, казалось, Мамонова вывезут из телестудии в клетке. Чтоб он никого по дороге не съел. Где теперь грамотно «опущенный» идиот Петр Мамонов? А он теперь для многих мессия. Он нам своими ролями в «Острове» и в «Царе», и в ролях на театральной сцене, продолжал рассказывать то, о чем говорил и в те неприкаянные «восьмидесятые», и даже раньше. Он не менял понятий о добре и зле. Он был постоянен. Мы меняемся. Дай-то Бог – становимся лучше. Разборчивей. Задумчивей.
Да! А где же та «продвинутая молодежь», которая на тех «Рингах» так же «опускала» и Гребенщикова, и Кинчева, и Цоя? Где те, кто при всей стране называли Мамонова «дебилом», «УО», «патологией нравственности»? И все это под оглушительное одобрение присутствующих. Правильно! Сегодня эти ребята создают нужную атмосферу вокруг других жизненных «рингов». А вечером слушают ностальгические песни «бывших». Ими гонимых. Они же в серьезных умных компаниях обсуждают духовность и религиозную мораль фильма «Остров».
Ну, да Бог с ними! А может, и черт.
При жизни Маяковского был издан (ныне библиографическая редкость) очень, как бы сейчас сказали, «креативно созданный» справочник. В нем, благодаря упорству людей, работоспособности которых можно позавидовать, были напечатаны все рифмы, использованные в русской словесности от Ломоносова и до… издания этой энциклопедии. Можно только предположить, сколько страниц занимало в этом справочнике слово «любовь». Сами можете представить: «кровь», «новь», «вновь», «морковь», «свекровь», «не сквернословь» и т.д. По свидетельству Юрия Олеши (того самого, кого большинство знает, увы, только как автора «Трех толстяков»), как-то во время игры на бильярде, очередной не любитель живых гениев (их много) подарил Маяковскому этот справочник. Естественно, подковырнув, что, мол, «исписался дар принимающий». Нет в его творчестве рифм с производными от слова «любовь». Маяковский играл весь вечер молча. Был задумчив. Вставил только один раз фразу. Но какую! Когда Олеша (играющий с В.В.) во время неудачного удара с подскакиванием на столе шаров произнес (кстати, Юрий Олеша – очень хороший прозаик, с метафорическим мышлением):
– Кони фортуны. Маяковский добавил только: «СЛЕПЫЕ кони фортуны». Ах, как красиво! Только поэт увидит, что бильярдные шары – безглазые. Только поэт увидит «на блюде студня – косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы – увидит сотни новых губ»…
А ВЫ ноктюрн сыграть смогли бы, на флейте водосточных труб?!
Но вернемся к словарю рифм. Маяковский принял тот подарок. Промолчал. А потом, через полгода, выдал в стихотворении «Юбилейное», посвященном столетию смерти Пушкина (класснейшее! Обязательно перечитайте!), такой косвенный средний палец его бильярдным «друзьям»-злопыхателям и авторам словаря:
«…Вам теперь пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
Наши перья –
штык да
зубья вил, –
Битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
А любовь
пограндиознее
онегинской
любви…».
Вот, в чем я АБСОЛЮТНО уверен, так это в том, что Маяковский – ГЕНИЙ. Я люблю очень многих поэтов. И гениями могу назвать многих. И ни в коем случае не собираюсь снобствовать. Я даже хотел бы назвать тех, кого читаю и очень люблю перечитывать, или «переслушивать» их песни: Владимир Ланцберг, Александр Пушкин, Юрий Левитанский, Юрий Кукин, Леонид Филатов, Бернс, Юрий Визбор, Александр Блок, Булат Окуджава, Владимир Сухарев, Олег Митяев, Уильям Шекспир, Александр Межиров, Исикава Такубоку, Владимир Черкасов, Александр Розенбаум, Александр Дольский, Николай Рубцов.
И это не значит, что для того, чтобы быть любимым, нужно все время писать «Евгения Онегина». Можно не писать много и долго. Может, даже наоборот. Трудно назвать поэта, который бы, после 60-ти удивил. Впрочем, Расул Гамзатов! Ведь это гениально: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей»… Может быть там, конечно, переводчики постарались. Но, недавно узнал, что это его стихи к песне не очень-то ласкаемой властями в 1970-х годах группы «Цветы»:
«…с целым миром спорить я готов.
Я готов поклясться головою,
В том, что есть глаза у всех цветов.
И они глядят на нас с тобою.
Помню как-то я в святые дни
Рвал цветы с любимой на поляне.
И глядели на меня они,
Как бы говоря – «она обманет!»...
Я, оказывается, люблю тебя, Гамзатов! Правда, у Гамзатова была широкая дорога. Быть изданным? Запросто! Эксклюзив! В отличие от 98 % не менее талантливых. В два процента «везунчиков» можно было бы зачислить и Пушкина, если б не статистика. При жизни нашего Гения было напечатано только 18 % из им написанного.
Сложнее стать классиком, мало написав и не очень-то беспокоясь о признании. Но… всякое бывает. Вспомним Экзюпери и его «Маленького принца». Вспомним Константина Симонова, как поэта, а не прозаика, с его «Жди меня, и я вернусь…». Не могу не вспомнить неизвестного, сгинувшего в лагерях ГУЛАГа поэта, сумевшего написать на лагерном заборе в День милиции всего две строчки: «Мы – умы! Вы – увы»… Ведь это воистину гениально! Четыре буквы всего в шедевре использовал…
Да, вот и Анненский! Прочитал его всего… Ничего такого особенного. Но он написал:
– Среди миров в мерцании светил,
Одной звезды я повторяю имя.
Не потому, чтоб я её любил,
А потому, что мне темно с другими…
А ведь большего и не надо, чтоб остаться в веках за строчки о настоящей, не надуманной любви! Ну, разве не гениально?!
А кто вообще сказал, что для того, чтобы быть гением (для конкретного человека), нужно чтобы тебя «проходили» в школе? Иннокентия Анненского никто никогда не «проходил». Пушкина в школе «заглянцевали». Маяковский обратился к великому поэту напрямую. И говорил с ним как с живым, абсолютно жизнелюбивым (а значит, имеющим слабости и недостатки) человеком. (Почитайте Тынянова, Пущина). Для того, чтоб мы его любили не «по программе». Пусть даже школьной.
Ну, не могу! Не могу, говоря о Маяковском, не привести примеры его гениальных способностей к аллитерации:
–…Строит,
Рушит,
Кроит
И рвет…
Ах, как нейро-лингвистически помогает повторяющаяся буква «р» ощутить запах эмоций!
– …И на площадь, мрачно очерненную чернью, багровой крови пролилась струя!
Он часто использовал «р» в аллитерациях.
– …Отравим кровью игры Рейна! Гробами ядер на мрамор Рима!…
И вообще, так хочется его почитать вслух!!!!
– Что есть истина?! – воскликнул наместник римской провинции Иудея Понтий Пилат, вдруг заспорив с бунтовщиком Иисусом из Назарета, осужденным Синодом Израиля на казнь. Беседа с назаретянином, по свидетельству очевидцев (не противоречащих друг другу), случилась не по традициям того времени. Римский наместник увлекся беседой с заключенным Иисусом. И даже, хотел, было, его спасти. Но все же, окруженный политическими «объективными причинами», вынужден был «умыть руки».
Христос, конечно же, был еще и поэтом. Евангелисты его высказывания чаще не пересказывают вольно, а цитируют. А разве мог бы не поэт, даже в пересказе евангелистов, так говорить: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои» (Евангелие от Матфея, гл.10), «Многие же первые будут последними, а последние первыми». (Евангелие от Марка, гл 10). «…Я на то родился и на то пришёл в мир, чтоб свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». (Евангелие от Иоанна, гл.18). А ведь на старославянском звучит еще поэтичнее. И если учесть, что это тоже перевод с греческого, на который перевели с арамейского, да с примесью арабского и старо-иудейского, то, можно предположить, что ОРИГИНАЛ был так хорош, что его даже переводчики не смогли испортить.
Как они, видимо, испортили впечатления Толстому, не принявшему Шекспира, так как его еще не перевел Маршак. (Кстати, личное мнение: не читайте Шекспира в переводе нобелевского лауреата Пастернака. Это ему не удалось).
Возвращаясь к Конфуцию, можно констатировать: хоть китайского поэта называют философом, никаких философских трудов он не писал. Он писал стихи. И создал религию этики и эстетики через поэзию… культурой и принципами которой, безоговорочно живет сегодня каждый четвертый житель нашей планеты.
Пророк Магомед, родившись в 560 году нашей эры, написал такое поэтически запутанное эссе с общим названием «Коран», что читать его нужно всем. Не только одной трети населения Земли. И читать, как поэзию духа.
О Поэте Христе я уже говорил. Так, что с праздником вас.
С Международным днем Поэзии!
Который каждый день...
Сергей КАЩЕЕВ
Пишу, как дышу…

Говорят, что Феллини как-то сказал, что если бы ему поручили снять фильм о рыбах, то он всё равно получился бы у него автобиографическим.
Всё правильно. Придумывать абсолютно чужую жизнь невозможно. Можно только предполагать, пропуская действия придуманного героя всё равно через себя. Это как «Я в предполагаемых обстоятельствах» по Станиславскому. Или, в крайнем случае, пуская своего литературного героя дорОгой хорошо знакомого вам человека, которого встречали в жизни. С парадоксальным мышлением, или, наоборот, квадратно-гнездовой консервативной логикой. Но это тоже будет подсмотрено Автором. Это тоже из автобиографии.
Писатель Всеволод Иванов, серьёзный литератор советского периода, удивлял критиков и биографов тем, что постоянно менял свою автобиографию. На недоуменные вопросы он отвечал так:
– Я же писатель. Мне скучно писать одно и то же!
Замечательно сказано, на мой взгляд.
Я сейчас просто пишу это потому, что несколько раз себя поймал на факте, что часто меняю сюжеты своих рассказов, мотивы поступков их героев, ухожу от уже озвученной ранее концовки вообще в другую сторону.
А потом мучаюсь, вспоминая, а как же все было на самом деле. А нужно ли вообще, писать именно так, как было на самом деле? Сюжет вытаскивает за ниточку интриги драматургию ситуации и… дело писателя, будет ли это интересно, или нет.
– Все жанры хороши, кроме скучного – великое утверждение Юрия Никулина.
Он же на планерках в цирке по созданию новых программ всегда начинал с вопроса:
– Ну-с! Чем удивлять будем?
Это же касается и литературы.
ПРАВДА, если ее записывать с претензией на литературный рассказ, чаще всего получается довольно голой. Ствол сюжета тянется без веток и листвы. Как мораль. Или вообще, трясется к читателю на лесовозе, в куче ему подобных. Дерево красиво, когда оно растет, живет, разбрасывает плоды-семена, дает тень прохожему, украшает пейзаж.
Анекдот – это ведь тоже рассказ. Кто-то так не умеет рассказывать, что концовкой даже ухмылки не выжмет. А вот я наблюдал, как анекдоты Лев Дуров рассказывал. Добавит в описании героя пару очень характерных черточек, голову предполагаемой фуражкой почешет, хмыкнет, крякнет – и перед тобой знакомый деревенский мужик. И анекдот уже яркий, с запахом молока с домашним хлебом, рюмкой самогона с килькой на закуску, пряным сеном и первыми каплями дождя на асфальте в летнюю грозу.
Как-то работая в Новомихайловском СМУ-12 бетонщиком III-го разряда, я увлекся японской поэзией. Настолько, что удивленный совершенно разными переводами одних и тех же танка разными переводчиками, стал изучать письменный японский. И что оказалось? У японцев нет понятия рифмы. Есть иероглифы-ключи – «Лес», «озеро», «небо», «дом». Два соединенных в очередь иероглифа «лес» и «озеро», образуют понятие «Лес возле озера». Здесь центр внимания к прибрежному лесу. А «озеро» и «лес» – это уже «Озеро в лесу». А вот чистое это озеро или мутное, густой ли лес, крутые ли берега, спокойная гладь или озеро штормовое – это все зависит от написания цепочки иероглифов нажимом кисточки. И в одном настроении японец читает фразу так, а в другом – вот эдак. А что уже говорить о переводчиках!
Как это классно! Каждый раз одно и то же хокку или танка читаешь по-новому!
Хотя… Я вот очень часто перечитываю любимые книги. Иные знаю почти наизусть. Но с возрастом для меня меняется их содержание. Как и мой интерес. Нивелируется то, что казалось важным. Выползают не замеченные когда-то замечательные нюансы.
НЕ знаю, зачем это всё записываю. Просто захотелось записать сегодняшние мысли, во время прочтения одного из моих любимых писателей – Виктора Конецкого… Тем, кто любит его читать, скажу твердо – абсолютно правдивый моряк! По-настоящему все у него! Не придумано, но литературно подработано. Как сам из бывших моряков, уверяю, что он и море знает, и работу морскую и писатель родной, до запаха. И юмор у него очень-очень флотский. Почитайте!
Может тоже захочется поговорить о литературе и японской поэзии…
Просто поразмышлял. Хотя вот еще захотелось вставить в концовке:
– Но вот уже и первые дни весны! Будем есть блины, а в воскресенье, под видом зимы, сжигать чучела наших недругов. Выкинем скелеты обид из шкафа.
В «прощенное воскресенье» всех простим. И нас, дай Бог, простят.
С весной вас, земляки!
Сергей Кащеев
Еще раз о Пушкине

Александр Пушкин был очень самолюбивым мужчиной. Всего лет десять-пятнадцать назад я подсчитал его дуэли. Их было 13. Но оказалось, что он в Молдавии еще 7 раз стрелялся! Правда, до 21-й своей дуэли с Дантесом в Пушкина стрелять никто не решался. Демонстративно стреляли в воздух. Пушкин тоже. Обе стороны удовлетворенные расходились.
Была одна дуэль, на которой противник поэта предположительно хотел стрелять в Пушкина. Но поэт засунул пистолет под мышку, достал кулек с вишней и стал ее есть, пуляя косточками в сторону. Его визави не смог стрелять в такого наглеца. Потом Александр Сергеевич использовал этот сюжет в рассказе «Выстрел».
Пушкин был совершенно несносным человеком. Его все могли только терпеть. И терпели. А он не мог терпеть, что его терпят! Я о нем, именно не о заглянцованном, очень много пишу всю свою жизнь, поражаясь его запредельному таланту. Не устаю копаться в его письмах, и в письмах о нем его современников. Считайте, что это мое хобби.
Как-то я задал себе о нем вопрос: почему он совершенно спокойно писал стихи с каким-то сегодня возмутительным эпиграфом «подражая Вяземскому», «Подражая Байрону»? И даже в этих «пародиях», как бы их превосходил. Я предполагаю, что Александр Сергеевич в этот момент самоутверждался! Он ведь написал лучше их. Вяземского понятно. Но Байрона тогда читали и считали великим! Может быть, в пику как раз «выскочке» Пушкину! Байрона тогда можно было читать только на французском. С английского были переводы очень слабые. И были скорее похожи на «белый стих». И «Подражая Байрону» у Пушкина – это скорее было изначально пародией. Похожей на перевод. Кстати, «наше все» свободно говорил на шести языках. А его жена Наталья – на восьми. Но он увлекся романтикой и вообще забыл, о чем вначале захотел ехидничать.
Это вызов гения.
А давайте представим себе, если б Пушкин и вправду вот так вот на сцене, встретился с Байроном?! Как встречались поэты в 30-х годах прошлого века в «Политехническом».
Ах, да! Кто бы мог его понять, Байрона, без переводчика? Английский был не любим. Язык шпионов. Уже тогда! Тем более, что и в английском языке есть очень коварные штуки. Простой пример: Есть слово, звучащее на русском, как «шип». В переводе – «судно, корабль». А совершенно чуть-чуть затяни гласную «и». И получится «козёл». Может, баран?
Вот как-то один пограничник ‒ американец захотел над нами этакими лохами в английском пошутить в их территориальных водах. Вот из ё нэйм зис… шиип.? Лицо нормальное. Жвачку жует. А его матрос хихикнул, улыбочку в свой гюйс спрятал. Андестенд! Перевожу я его лингвистический сарказм своему кэпу. И про козла тоже перевел. Мой капитан стал говорить с коллегой на не переводимом в моей практике языке. Я вначале попробовал было. Но потом замешкался и сдался. При этом кэп не ждал моего перевода, а продолжал говорить с обольстительной улыбкой на лице:
‒ Слышь ты, г…он пи…кий, ты сейчас у нас в России находишься, слышишь, тварь жующая, Мой «шип» ‒ это Россия! А у нас принято за «козла» отвечать, андестенд, г…о американское?! Боцман, где у нас там баки с помоями не травленные хлором? Дай свежак на сливной вот в этот шланг! Боцман! Организуй, пока я с ним разговариваю, вот этот катер нужно дружелюбно полить.
Залили г…м и отходами рыбного производства весь их катер вместе со сбежавшим на него офицером ВМФ Америки. Заодно нацеленно обгадили струей и его белоснежный китель с немыслимым для его возраста количеством орденов и медалей.
Мой кэп – настоящий Пушкин!
Кстати, все обошлось без дипломатических последствий. Американец сам понял, что перебрал с подколами.
Давайте просто помечтаем. Как бы было интересно, если бы устроить этакий сегодняшний «баттл» Есенина с Бёрнсом! Маяковского с Тимати! Пушкина с Байроном… Кто бы из них остановился первым? Да! Тут еще важно, кто будет переводить. Как вообще можно перевести на английский Пастернака?! Эгей! Англичане! Вы это делаете плохо. Я читал много переводов русских поэтов на английский. Небрежно и без пиетета.
Пастернак как раз об этом думал! Он сел за переводы, считая своим долгом, чтоб русские люди читали Шекспира. Его позыв сегодня понятен. И он очень интеллигентен. Хотя, сейчас понимаешь, что лучше бы он писал тогда свое. Тем более что тогда уже был Маршак. Самуил Яковлевич, не Нобелевский лауреат, но трудяга – еще тот! Он же сделал для России Бёрнса. Чего, как мне кажется, совсем не удалось Заболоцкому.
Пушкин считал правым, что говорить о коллегах-поэтах нужно только в превосходной степени. Переводить любя и уважая автора. И добавлял, что он не пародирует, а просто признается автору в любви. Маршак делал то же самое.
Ждать лучше так, чтоб получать удовольствие от растянутого времени н а д е ж д ы. Даже если ждешь, пока приготовят шашлык. Можно ждать у моря погоды. Ждать поезда, на котором приедет в гости мама жены. Особенно приятно ждать рождения внуков и внучек! Тебя, как положено, предупреждают, месяца за три-четыре. И ты ждёшь! С надеждой. Каждую минуту! Каждый день спрашивая у горничной, ‒ не было ли чего с юга? ‒ Нет! – говорит она, так же разочарованно, как я.
Ах, как прошедшей весной цвели вишни!
Сергей Кащеев
«Февраль, достать чернил и плакать…»

А будет это так: заплачет ночь дискантом
И ржавый ломкий лист зацепит за луну,
И белый-белый снег падет с небес десантом,
Чтоб черным городам придать голубизну.
Февраль – самый ненужный месяц в году! Зима уже начинает надоедать, а весне ещё рано. Вот февраль и болтается в этом безвременье. Ему, наверное, поэтому и дней жизни сократили до 28, чтоб быстрее закончился.
Ещё, из-за традиционных для февраля морозов и эпидемий гриппа, именно в феврале в календаре памятных дат назначен «День борьбы с ненормативной лексикой». Ну, не просто же так! Попробуй сдержаться, хряпнувшись на ледовом тротуаре, когда семенишь утром от остановки на работу, прикрывая нос варежкой. Кто из окружающих осмелится бороться с вашей ненормативной лексикой?!
Бороться с ОРЗ и гриппом проще. Например, известно, что если зажать одновременно нос, рот и уши, и при этом чихать, то гораздо быстрее растут волосы! А ещё и поболеть иногда приятно. Например, когда я учился в магнитогорской школе, то целую неделю не предусмотренных каникул надо мной вздыхала заботливая мама, прикладывала ладошку к моему горячему лбу, когда я притворялся спящим, пряча под одеялом Джека Лондона или Фенимора Купера. Кормила недоступным в быту малиновым вареньем, куриным бульончиком, «докторской» колбасой. За такое можно и горькие таблетки потерпеть!
Впрочем, досадно всё же было видеть во дворе за окном режущихся в хоккей друзей. Лыжи в прихожей напоминали о чистой искрящейся лыжне в трескучем от мороза сосновом лесу. Сколько же раз, заигравшись в хоккей, или накатавшись до зелёных соплей с приятелями на санках, уже дома обнаруживалось, что примороженные уши становились толстыми, как пельмени!
Как-то жил я несколько лет на Черноморском побережье Краснодарского края. И тут вдруг в краю магнолий выпал снег и даванул страшный мороз, аж до минус трёх! Это было что-то! Не знаю каким невероятным образом, но в моей комнате в общежитии от старых хозяев оказались ( о, чудо!) лыжи с ботинками. А рядом с общагой естественная горка. Я вышел покататься. Видели бы вы, сколько собралось народу! Стосковавшийся и завидующий мне народ обсуждали мою горнолыжную технику, как обсуждают на общежитской общей кухне секреты кулинарии. Обсуждали с демонстрацией мне правильных наклонов корпуса при поворотах, оптимальной стойки, работой палками. В конце концов, я публично отпраздновал День борьбы с ненормативной лексикой и смылся в свою комнатуху в общаге.
За эту зиму, ни в Краснодаре, ни в этот февраль на Сахалине - я ни разу не прокатился ни на коньках, ни на лыжах, ни на санках. Не отморозил уши, не сыграл в хоккей. Даже ОРЗ меня не берёт, а малиновое варенье я могу есть просто за завтраком. А лыжи у печки стоят. Впереди ещё целый февраль и март. Может…
…Ещё придёт зима в созвездие удачи,
И лёгкая лыжня помчится от дверей,
И, может быть, тогда удастся нам иначе,
Иначе чем теперь, прожить остаток дней.
Сергей КАЩЕЕВ
В публикации использованы стихи Юрия Визбора.
Это всё
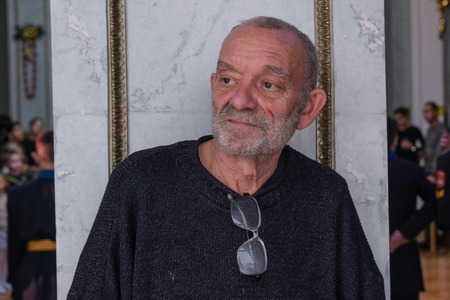
- Съезжу к ребятам в Зеленчук. Я им «День пограничника» поручил сделать. У них там погранзаставы поближе, – говорю я Нине Шилоносовой.
Её корпункт в ауле Хабез тоже не так уж далеко от границы. Но в Зеленчукской, наиболее русской станице Карачаево-Черкессии, живут семьи пограничников. В Хабезе Нина на весь большой аул – одна русская. Она руководит корпунктом. У неё человек пятнадцать учеников. В Зеленчукской - Саша Орлов. У него всего четыре человека. В Черкесске – талантливый местный парень Иналь Гашоков и пяток собранных по школам учителей, решившихся попробовать себя в новом деле телевизионной журналистике. Я всем этим процессом руковожу, летая на раздолбанном УАЗике от корпункта к корпункту. Всё это называется «Народное телевидение «Республика»», мы выходим в эфир вечером каждого дня. Репортажи, интервью, телеочерки, репортажи. Завоёвываем телезрителя, отвоёвывая его у официальной пропагандистской машины местного ВГТРК.
Нина молчит. Хоть мы делаем одно дело, негласное соревнование между корпунктами существует. Я любил ездить в Зеленчукскую. Помещения корпункта у них не было. Автоматически штабом был большой дом главного редактора, местной журналистки Веры. В нём жил и их временный наставник наш Саша Орлов. Здесь собирали планёрки, там же они и монтировали свои сюжеты.
Любил туда к ним приезжать! Все планёрки и учебная работа и даже мои начальственные втыки происходили за накрытым столом, всегда очень обильным и вкусным. Хоть семья хозяев была русская, в ней чувствовалось влияние традиций Северного Кавказа. Кроме Веры за столом женщин больше не было. Накрывала, подкладывала добавку, зорко ухаживала за каждым сотрудником сестра Веры, недавняя выпускница школы Наташа. Тихая мышка, незаметно скользящая за спинами гостей. В базарный день слова от неё не услышишь.
На одной такой «планёрке» я и поручил им сделать материал о пограничниках.
– Заставы у вас более-менее рядом. Съездите, подснимите там об их нелёгкой работе, - поручил я и мысленно загрустил. Материалы из Зеленчукской особым креативом не отличались. Всё, как штамповка совковая, всё «как надо». Если это День медицинского работника, то вот тебе, пожалуйста, песня «Люди в белых халатах». В день «Последнего звонка» я ожидаемо слушал «Когда уйдешь со школьного двора». Грустно смотрел интервью с вопросами Веры, на которые даже любой зеленчукский первоклассник уже знает ответы.
Саша Орлов сначала сам взялся ломать этот железобетон мышления, но вместе со мной понял, что это бесполезно. Вера была уже в бальзаковском возрасте и окончательно сформирована просмотром ЦТ.
- Езжай, конечно. На обратном пути кассету завезёшь. Я тогда машину посылать не буду, – посочувствовала моему настроению предупредительная Нина.
По дороге в Зеленчукскую мы попали «в пробку». Как раз с горных лугов в Хабез нам навстречу возвращались бесчисленные стада коров и коз. На наши автомобильные сигналы они чихали с высоты окружающих гор, достойно, бережно и гордо неся между ног вёдра свежего молока. Потеряли полчаса. Возле Зеленчукской ситуация повторилась, только теперь нам пришлось уныло смотреть уже на коровьи зады. Времени на ужин не оставалось, а только на то, чтоб схватить кассету и рвануть обратно в Хабез, где Нина собирала всё в кучу. Готовую передачу отвозили на передающую станцию строго по времени.
Так что сложный бутерброд, собранный из ингредиентов трёх корпунктов смотрел я уже в Черкесске. Черкесский корпункт сработал хорошо, как всегда, Хабез – тоже. Зеленчук начал с заставки «Сегодня День пограничника». Красно-противная надпись на фоне бойца, смотрящего в бинокль, пограничного столба и заснеженных гор. С какой-то поздравительной открытки. Я загрустил.
Опа! Это что?! Абсолютно неожидаемое! Песня ДДТ «Это всё». Да ещё и не прерывается каким-нибудь дежурным интервью с начальником погранзаставы. Потрясающие кадры! Горы. Застава. Боец стрижёт ручной машинкой своего приятеля. Кони на зелёном лугу. Рододендроны. Горы. Капельки тающего ледника, собирающиеся в ручеёк. В затишке ручья отражаются снежные пики гор. Прямо в отражение плюхается ведро, которое боец несёт в затопленную баню. Бойцы смеются над причёской постриженного ручной машинкой молодого пограничника. Офицер, посмеиваясь, следит за отдыхающими бойцами с крыльца своего штаба. Группа поваров лепит пельмени. Вскользь стенгазета «С днем пограничника!». Крупно морды коней, пьющих из ручья. Отфыркиваются, брызгами окропив объектив. Боец гладит парадную форму. Боже мой! Да кто ж тебя там увидит-то, нарядный ты наш! Горы?! Вместе с темпоритмом песни Шевчука, темп смены кадров ускоряется. Озабоченное лицо командира. С гор спускается конный наряд. Фрагмент доклада. Распряженные кони катаются спинами на траве. Усталый боец умывается. Какой-то шутник выливает ему на спину ведро ледяной воды. Брызги опять попадают на объектив. Откуда у него силы берутся, бегает за шутником с целью догнать и засунуть в реку. Брызги… Горы… Бойцы с командиром колдуют над картой. Очередной наряд запрягает свежих лошадей и уходит на свой маршрут. Горы. Горы. Горы… Подбор кадров не самый свеже-креативный, но с песней Шевчука воспринимается, как воспоминания седого пограничника о своей службе. Запоминается ведь только хорошее. Светлое.
Я сижу с раскрытым ртом и чуть не плачу. Бегаю по студии, как оглоушенный и ору: « Какая молодец Вера! А ведь может!» От неуемной энергии звоню шефу:
– Ну, ты видел?!
– Да, обалдеть!
– Очень прошу! Ей это очень нужно, найди денег на премию!
– Без разговоров! Будет премия!
– У-ра-а-а!
Звонит Нина из Хабеза:
– Ну, и…?
– Нина, я охренел!
– Я тоже! Веру прорвало!
– Звонил шефу, даст премию!
– О! Это в тему! Хорошо бы вообще еженедельно вручать премии за лучшие работы на неделе! Отдельно операторам и редакторам.
– Точно! Поговорю с начальством!
Вечером следующего дня проводим традиционный пятничный «Большой Хурал». Так я назвал когда-то первую общую для корпунктов планёрку. Ученики приняли это выражение, как жаргонную лексику работников ТВ, и по - другому уже наш общий сбор не называли.
На «Большом Хурале» я с искренним восхищением выразил свою благодарность приехавшей из Зеленчука в одиночестве Вере. Вручил премию. Но заметил, что она рада слишком скромно и, как-то потупившись.
На следующий день выяснилось, что в день съёмок пограничников Вера приболела, и за неё на заставу напросилась поехать её младшая сестра - «серая мышка» Наташа. Оператор мне потом рассказал, что она его объективом тыкала, что снимать, да как. Сама устанавливала точки, бегала по заставе со штативом, как угорелая: « Я в мыле был, как те лошади, ей Богу! И на монтаже вдруг в подложку Шевчука ставит! Я не понял. Потом, монтируем, смотрю, что-то такое выходит классное: - Нужно бы, как-то, Наташу привлекать, как вы думаете? Нам у неё ещё учиться и учиться, чесслово! Поговорите там, с кем надо, а?
Вера из редакторов потом ушла. Не смогла. Пыталась, тянулась, притворялась, искала, но не смогла. Уж больно разительными были по форме и содержанию репортажи сестёр.
Сергей Кащеев
Воскресная дочь

«Человек не повзрослеет, пока не научится понимать, принимать и прощать недостатки своих родителей».
Лев Толстой
«…Вот и воскресенье пройдет, а я опять ничего не успею. Диктанты надо проверить. На маникюр хорошо бы сходить: эти две козы с первой парты только и делают, что учительницу по косточкам разбирают. Белье высохло — надо гладить, хотя уже никто не гладит, силы экономят. Господи, а ведь мама бельё даже крахмалила!» Мысли летели метелицей и не оседали снежными сугробами. Ольга Петровна по привычке пошла варить кофе, по пути установив гладильную доску и воткнув шнур утюга в розетку.
Она как будто забыла, что воскресенье теперь свободно, можно не спешить включаться в карусель домашних дел. И вдруг получила удар в сердце — вспомнила… главное, больное, от чего не убежать, не спрятаться! Воскресенье есть, а мамы больше нет! По её вине нет!
Она осела на кухонную табуретку и заставила себя сделать глоток кофе, без которого в голове не рассеивался туман.
После привычного ритуала сознание наконец включилось, но не придало Ольге Петровне ни бодрости, ни спокойствия. Наоборот.
Перед ней открылась отчётливая панорама случившейся катастрофы и яркая картина её вины.
Взяв чашку с кофе, она, будто убегая от этой страшной картины, переместилась в комнату, села в кресло и предалась воспоминаниям, только не приятным, греющим душу, как о них поётся в песнях, а тяжёлым, жалящим, от которых, как от злого роя ос, ни отбиться, ни укрыться.
«Но уж какие есть, они все твои, терпи», — приказала себе Ольга Петровна и начала методично, с мазохистским наслаждением перебирать болезненные подробности своего последнего дежурства у мамы.
…Есть воскресный папа, а есть воскресная дочь. Ею она и была нескончаемо долгое, как ей тогда казалось, время.
По-хорошему, маму давно надо было забрать к себе. Но та не хотела или делала вид, что не хотела, расставаться со своим домом, а главное, стеснялась зятя, мужа Ольги Петровны.
Честно говоря, Ольге Петровне и самой было неловко нагружать мужа, у которого есть и своя ноша — одинокая старушка-мать.
Но если тёща могла ещё и суп сварить, и лёгкую постирушку затеять, то дворянских кровей свекровь знай себе книжки читала и прогуливалась по двору, заложив руки за спину. Зато внуки её слушали, открыв рот: как она гимназисткой, а потом институткой была, как в полевом госпитале перевязывала бойцам раны. Не бабка, а живая история.
Зато у другой бабки дети были и сыты, и присмотрены, что позволяло их родителям спокойно работать.
Но это дело прошлое.
«Далёкое прошлое», — вздохнула Ольга Петровна и вернулась в мыслях к недавним временам своей, как сейчас модно говорить, карьеры воскресной дочери.
С тех пор, как мама сломала ногу (хорошо хоть не шейку бедра!) и передвигалась с «этажеркой», то бишь медицинскими ходунками, по комнатам, на улицу не выходила, характер у неё совсем испортился.
Уставшую от тяжелых сумок, запыхавшуюся воскресную дочь почти всегда в отчем доме встречало угрюмое молчание или сердитое бурчание.
Когда-то лёгкая на подъём хлопотунья-хозяйка теперь как нахохлившаяся птица на ветке сидела перед телевизором и раздражалась.
С тех пор, как «сняли» её кумира — Михаила Горбачева, она всё и всех критиковала, особенно Ельцина. Ольга Петровна, наоборот, любила Ельцина, уж очень он был похож на покойного отца. Мать, конечно, тоже заметила это сходство, но по привычке скрывать свои чувства с вызовом заявляла, что видеть не может «эту харю». А сама тосковала и долго не могла осознать, что отец не просто вышел из дому по делам, а ушёл навсегда, безвозвратно, что «уже и косточки его сгнили», как случайно слетело с языка его дочери.
Вот за эти «косточки» Ольга Петровна будет винить себя до конца дней — так эта жестокая фраза огорчила, нет, просто убила мать — несгибаемую мужественную женщину.
Оказывается, суровая и непреклонная Васса Железнова, как называл её зять, обожала мужа. Но виду не подавала, как и отец, как и было принято в те суровые времена.
— Доча, — бывало, встречал на пороге Ольгу Петровну едва не плачущий отец, — бабушка совсем плохая!
На его языке это означало, что жена приболела и он пребывает в полной растерянности и отчаянии. Особенно настораживало в этой фразе употребление ласкового слова «бабушка», что у стариков бывало только в крайнем случае.
«Дед», «баба» — нежные и заботливые супруги стали так называть друг друга с появлением первого внука. По молодости, когда они стали родителями, обходились не только без нежностей, но даже без имён: говорили «отец» и «мать».
Удивительная тогда у людей была привычка: чуть ли не с первых дней совместной жизни смотреть на себя как бы со стороны — кем они являются не друг для друга, а для детей и внуков?!
Любовь, считалось тогда, это чувство для очень молодых. Проявлять её супругам было стыдно даже в сорок лет, не говоря уже о более зрелом возрасте. Даже называть друг друга по именам считалось чуть ли не нарушением приличий.
— Дед так просил полежать с ним, когда болел! А я, балда, не согласилась, — горевала мать, уже став вдовой. И покаяние это можно было считать настоящим, хотя и запоздалым признанием в любви.
Уже после похорон, когда «какая-то дура вспомнила Катьку с шестой фермы» — подружку деда, о которой мать при жизни отца и знать не знала, Ольга Петровна лишний раз убедилась, как она его любила и ревновала.
...Отец был донжуаном и джентльменом, обладая врождённым талантом ненавязчиво, почтительно ухаживать за дамами. Всегда добродушный и обаятельный, он принадлежал к той редкой человеческой породе, которая всегда, как днище корабля ракушками, была облеплена друзьями и подружками.
Почти всех подружек жена знала, хотя ни за что и никому не призналась бы в этом. Она, такая гордячка, относилась к слабостям мужа снисходительно, никогда его не обсуждала и не осуждала, наоборот, подчёркивала властные полномочия в семье. Даже когда из небытия вынырнула «Катька с шестой фермы», мать, похоже, расстроилась не из-за Катьки, а потому, что обреталась та рядом с отцом несанкционированно, без её ведома...
Кстати, зять восторгался дипломатичностью тёщи, ставил её жене в пример и называл штурманом за бдительный контроль на дороге.
Даже с заднего сиденья автомобиля она давала водителю указания: «вправо-влево», «не спеши, ему некогда, пусть обгонит».
Отец только посмеивался над этой её привычкой, пропуская команды мимо ушей. Он вообще был человеком лёгким, не конфликтным. Когда чувствовал, что обстановка в доме накаляется, что мать с Ольгой, занятые каким-то неудачным шитьём, дуются друг на друга, громко и весело говорил им на суржике — кубанской смеси украинского и русского языков, бытовавшей на Кубани:
— Ну что, девчата? Дочка шие тай спивае, а мать порэ тай плаче?
И обе его женщины не могли не улыбнуться, потому что присказка попадала в самую точку.
Зато в вопросах, какую шляпу ему надеть под костюм или как ровно перевесить орденские планки на новом пиджаке, мать главенствовала. И галстук ему завязывала, потому что сам не умел.
…Любовь, оказывается, бывает разной. Но невозможно ошибиться, что то была любовь…
Давно прошло время, когда «мать-бабушка», красивая и сильная, наварив с утра кастрюлю борща, нагладив дочери школьную форму, прополов грядки в огороде и чуть-чуть подкрасив губы, опрометью бежала на работу, да ещё и сердилась, если отец останавливал служебную легковушку и предлагал её подвезти.
— Не хватало еще, чтоб люди сказали: парторг на работу жену возит! — выговаривала она ему вечером, накрывая стол для очередной делегации чехословацких колхозников. Она слыла искусной кулинаркой и безропотно брала на себя общественную нагрузку — угощать гостей из всех волостей и стран-побратимов, которые во множестве прибывали тогда в станицу с загадочной целью — по обмену опытом.
...С утра пораньше в дом завозились мясо из столовой, помидоры с поля, арбузы с бахчи, и хозяйка засучивала рукава...
Ольга Петровна не помнит, чтобы вокруг крутились помощники. Ну конечно, разве мать позволила бы себе эксплуатировать чужой труд? В своё оправдание она всегда шутила:
— Чем объяснять, как надо, легче самой сделать!
Она и делала, и всё успевала, и терпеть не могла жалобы типа «как я устала!». Ольга не помнит, чтобы мать хоть раз пожаловалась на усталость.
И по выходным не отдыхала, а бежала к соседям «на саман». Модно в те годы было сообща строить дома. Точнее, делать для них строительный материал.
На «саман» собирали всех родных, друзей и соседей. Босыми ногами месили глину с песком и навозом, добавляли солому, стружки, закладывали в опалубку и оставляли сохнуть, пока мастера не начнут кладку стен. На «саманах» всегда было многолюдно, шумно, весело. И мать с отцом, конечно, не могли не трудиться вместе со всеми.
«Что людЯм, то и нам», — часто говаривала мать и неуклонно следовала этому правилу.
Там же, в каком-то самане, до сих пор живёт потерянный ею камень из легендарного немецкого перстня.
Ольга, вырвавшись на неделю в Египет, вставила в пустую огранку красивый жёлтый топаз и надевает перстень как талисман, как мамино благословение.
Жаль, что невнимательно она слушала историю этого сокровища.
В памяти остался только смутный сюжет: когда через станицу гнали колонну немецких военнопленных, мать, любимой присказкой которой было «всех жалко», дала одному, самому тощему и несчастному, полбуханки хлеба, а он ответил ей золотым колечком, наверняка тоже родительским оберегом, от которого мать с испугом отнекивалась — мало ли что, да и равноценный ли обмен?
Справедливость всегда была её коньком. Однако перстень этот она по молодости всегда носила и с горечью вспоминала, как потеряла сверкающую бриллиантом стекляшку.
Мать, в чём тоже никогда не признавалась, любила красивые вещи, хотя в голодные послевоенные годы о них знали разве что полковничьи жёны, мужья которых дошли до Берлина и привезли домой и ковры, и сервизы, и красивые наряды.
А мать, волей-неволей став модисткой, шила себе и дочери платья из ацетатного шёлка и штапеля — в каждой семье тогда хранились такие обязательные «отрезы». До сих пор стоит у Ольги Петровны перед глазами яркая блестящая клеёнка на обеденном столе, раскатанный на ней кусок искусственного шёлка и пожелтевшие выкройки из газет, которые аккуратно раскладывает на ткани мама, собираясь шить дочке платье. Сама она новое платье даже надеть стеснялась.
Хотя в молодости была писаной красавицей, в чём можно убедиться, глядя на старое фото, где она в белой косыночке сидит посреди огромного, только что убранного поля, и выглядит по меньшей мере голливудской артисткой, наряженной крестьянкой. Да она и была похожа на Элизабет Тейлор. И лицом, и фигурой, и гордым взглядом из-под густых чёрных бровей.
Всех женщин её поколения унижала совковая нищета и безвкусица, но красавицы страдали больше всех.
Хотя вряд ли отдавали себе в этом отчёт. А если и отдавали, то прятали это чувство глубоко в душе.
Признаться в том, что ты мечтаешь о красивой и благоустроенной жизни, в то время называлось мещанством. Его высмеивали во всех газетах. «Мы знаем, есть ещё семейки, где наше хают и бранят, где с обожанием глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят!» — с детских лет Ольга Петровна запомнила эту басню Сергея Михалкова, без конца транслируемую по радио.
«Сытно как сало» — вот критерий всех советских кулинарных изысков. А эталон одежды — «лишь бы рукава не короткие», ведь почти всё покупалось и шилось «на вырост».
Ольга Петровна до сих пор жалеет, что на могильный памятник поставила, послушав окружающих старушек, которые убедили её в том, что «здесь покойница слишком молодая», не фотографию мамы — звезды Голливуда, а ту, на которой она действительно похожа на Вассу Железнову — хмурая, с поджатыми губами и тяжёлым застывшим взглядом.
Слава богу, что на весах горя и страданий после её кончины эта вина Ольги не самая тяжёлая.
С досадой и горечью она вспоминает каждый день, когда играла роль воскресной дочери. И это не оговорка: «играла роль».
Потому что, как всякий избалованный ребёнок, привыкла, что все услуги и благодеяния исходят от родителей к детям, а никак не наоборот.
Без всякой охоты входила она по воскресеньям в дом, сильно обветшавший без отца и неуютный без хлопот матери, и встречала там мрачную неприветливую старуху. Никакой радости при виде дочери та не проявляла.
Только по глубоким вздохам Ольга Петровна догадывалась, что её приглашают к диалогу, и начинала говорить сама:
— Ну что ты, мама? Задумалась о тяжёлом прошлом или опять смерть призываешь?
— Эх, детка, как мы жили! — со слезами в голосе отзывалась мать. — Разве сейчас так кто живет?
— Как? — притворно интересовалась собеседница, как будто впервые слышала о многодетной казачьей семье, в которой росли мать и три её сестры.
— На соломе спали, соломой укрывались… Одни сапоги на нас четверых... — и мать опять надолго замолкала. Словно спала с открытыми глазами.
Потом, вздрогнув, просыпалась:
— Но страшнее нет у меня в памяти ничего, как стоит перед глазами тот мальчик с оторванными ногами и его мать на коленях, которая каждого пробегающего хватает за полу, плачет и кричит: «Помогите!». А чем я ей сама с маленьким сыном могу помочь?
Ольга Петровна знает эту страшную историю про то, как мать с её старшим братом, пятилетним малышом, выскочили из разбомблённого поезда и побежали через поле кукурузы, которое совсем не скрывало их и других пассажиров от страшных чёрных самолётов.
Но мать всегда вспоминала этот день не как страх и ужас, а как вину перед неизвестной женщиной с её искалеченным сыном. И, чтобы освободиться от этой ноши, часто задавала себе и дочери один и тот же мучивший её вопрос:
— Ну чем я могла им помочь? Тут бы Николая уберечь от бомбёжки...
До сих пор она стыдилась того, что предпочла спасти своего, а не чужого сына. Ну что за человек?!
— Нет, расскажи лучше, как вы раньше жили, — торопилась увести мать от болезненной темы Ольга Петровна. Впрочем, и детские и юношеские воспоминания довоенного поколения тоже не отличались ни ностальгией, ни романтизмом.
И всё же надо, надо было выспросить подробности о предках: и о многодетной казачьей семье, и о том, какой младшенькая, Вера, была бесприданницей, когда выходила за отца замуж, и как будущая свекровь выговаривала сыну:
— Не бери Верку, она бедная!
Ольга Петровна и сама часто возвращалась мыслью к этому сватовству и лишний раз удивлялась мудрости матери, которая, наученная горьким опытом, затаив неприязнь к свекрови, в любых конфликтах дочери с мужем брала сторону зятя.
— Ты своя, рассердишься, да и простишь, — объясняла мать. — А он всё-таки чужой — не дай бог обидится на нас, и на тебя тоже, и что нам тогда делать?
Было, было чему поучиться у древней старухи! Но... Ольга выросла такой же быстроногой и лёгкой на подъём, как мать. Только они разошлись во времени, поэтому постоянное стремление дочери, не дослушав, спешить и бежать куда-то, раздражало старушку. Она хотела бы сидеть рядышком, потихоньку и долго толковать о жизни и политике, которой она как жена парторга в мирной жизни и комиссара на войне всегда живо интересовалась.
Долгое время она терпеливо сносила Ольгину непоседливость. И всё же договорилась до прямых упрёков:
— Некоторые дочери и работу бросают, чтобы побыть с матерью.
Ольге Петровне до сих пор стыдно, как злила её тогда эта фраза, повторенная не раз и не два…
Сейчас, перейдя из-за ухудшающегося здоровья на полставки, она часто задаёт себе вопрос: «И что такого мать сказала? Правду! Надо, надо было работу бросить! Забрать маму к себе, вовремя кормить, давать лекарства, укрывать тёплым пледом — у неё ведь всегда спина мёрзла, как у меня сейчас! Э-э-х… почему я тогда не постарела, чтобы знать всё про старость? Однако могла бы и догадаться. Столько читала, такая умная, а не понимала самого родного и близкого человека! Потому что эгоистка бесчувственная… И живи теперь с больной совестью! Заслужила!».
— Детка, открой верхний ящик комода, — вместо прощания всегда просила мать.
— Похоронное приданое перебирать? — усмехалась гостья. — Я всё видела, всё помню, мама, успокойся, всё цело и на месте.
— Да как же не надо?! Надька, сестра моя, целый чемодан приданого в дом престарелых увезла. А похоронили её в казённом застиранном халате!
— Мамочка, ну при чём тут тётя Надя и дом престарелых? Мы что тебе, чужие люди? Не похороним по-человечески? И потом, сколько раз тебе твердила: не надо о смерти думать, накличешь...
— Да я смерть зову, зову, а она не приходит, — смиренно, с застенчивой улыбкой отвечала мама. — Все мои ровесницы уже на кладбище, а я до сих пор здесь. Столько жить стыдно. Это людям на смех.
— Ты перед людьми всегда виновата! Даже в том, что не умираешь с ними вместе! Хотя как это практически возможно, подумай?! У каждого свой срок!
Ольга Петровна говорила машинально, неискренне, сама же понимала, что материны годы — это очень глубокая старость.
В Песне Песней, кажется, отмеряно: дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим…
— Лечу — это я, — отмечала про себя Ольга Петровна, — и уже подлетаю к предельному сроку. А для себя так и не пожила! Сначала дети, потом внуки, теперь вот старики…
И ей становилось себя жаль.
Хорошо хоть любимый внук по-своему, жёстко, взбадривал захандрившую бабушку:
— Бабушка, ты просишь смертельную таблетку, чтоб выпить, прожить три дня, а потом умереть. А зачем тебе эти три дня, а? Значит, умирать на самом деле не хочешь?
Да что там внук! Все проявляли солидарность:
— Зажилась старушка, чего уж тут душой кривить?
«Жизнь кончена в 28 лет», — говорил Андрей Болконский, и Ольга Петровна часто его цитировала.
Теперь-то она знает: жизнь кончена, когда она завершена, — не раньше и не позже.
Но когда матери исполнилось девяносто два года, она к её предстоящей смерти относилась беспечно — старики уходят, молодые остаются. И... становятся свободными.
Разве могла она представить, что не облегчение для неё наступит, а чёрная бездна разверзнется перед ней? Что исполнять обязанности воскресной дочери — это, оказывается, был не подневольный труд, а огромное счастье!
...Недавно ей опять приснилась мама. Ольга Петровна чувствовала тепло её растворившегося во времени и пространстве тела и думала: «Надо подольше подержать её в своих объятьях, пусть хоть после смерти согреется возле меня».
Но и во сне, как когда-то наяву, начинала спешить, куда-то бежала, опаздывала, а проснувшись, чувствовала себя предательницей и горькой бесприютной сиротой.
— Поплачь, поплачь, меньше писать будешь, — послышался ей знакомый строгий голос — так мать всегда утешала маленькую Олю.
Ольга Петровна пыталась разозлиться, вспомнив хоть что-нибудь плохое о матери, а вспоминала только про себя: как однажды в приступе раздражения кричала на неё и остановилась только тогда, когда заметила, что по впалым морщинистым щекам побежали слезы…
Как в ответ на жалобы, что врачи не лечат, беспечно и жестоко отвечала, что они и молодых-то не лечат…
А отец? Разве нельзя было с ним посидеть, когда он умирал? Он, казалось, ещё вчера был полон сил, энергии, юмора… но потом стал заговариваться, ни с того ни с сего злиться на кого-то, сидел в дальней комнате на диване с мокрым платочком на лбу, который мгновенно высыхал, а он забывал его намочить… Ольга Петровна заглядывала к нему на минутку, опять на минутку, и убегала.
Потом они с мужем и мамой перенесли его с дивана буквально на пол — уложили на толстый матрац, потому что боялись, что он упадёт — он всё время куда-то рвался, куда-то хотел бежать, — и так и оставили. Оглядываясь назад, Ольга Петровна понимает, что для мамы, которая с ним не справлялась, это был единственный выход из положения. Но себя простить не может, особенно же за то, что, заехав к родителям на минуту (опять на минуту!), ей показалось, что отец спит и мерно дышит. А когда доехала до дома, соседка уже говорила в трубку как заведённая «всё, всё, всё»...
А ведь Ольга Петровна знала, читала, что умирающего надо обязательно держать за руку, чтобы ему было не так страшно уходить в неведомое...
Вот что стоило ей задержаться подле отца, подержать его за руку, погладить по голове, прошептать ласковые слова?
Ничего не стоило! Ну не приготовила бы семье ужин, сварили бы пельмени, напились чаю… И живы остались.
А отец ушёл. Один. В темноту. В неизвестность.
И мама, конечно, ему не помогла. Ещё чего, какие нежности! Да она и не поняла, что он уходит навсегда. До сих пор не поняла. Ждёт и страдает, но молчит.
…Где-то она читала, что человек, который плохо слышит, отдаляется от людей. А человек, который плохо видит, отдаляется от вещей. Мать уже плохо видела, и ей было трудно, почти невозможно обслуживать себя. Но воскресная дочь всегда об этом забывала и, перемывая сложенные в сушилку тарелки, имела совесть выговаривать:
— Мама, ты посуду плохо моешь, некачественно!
Перебирая воспоминания, как чётки, Ольга Петровна, как ни увиливала, всё-таки дошла до самого больного: маминой страшной гибели.
Можно утешать себя тем, что она сама её накликала. А можно честно признаться: это ты виновата! Ведь планировала в то воскресенье остаться у неё на ночь — даже пижаму с собой захватила. Потому что сердце предчувствовало беду.
И глаза мамины в последнее время стали вдруг абсолютно прозрачными, бездонными. Как будто она смотрела уже не в этот мир, а в другой, потусторонний… Где-то она читала, что такой взгляд — знак скорой смерти.
Что на месте Ольги Петровны сделал бы умный человек? Прислушался к знакам, вспомнил бы уроки классиков…
Нет же, учительница литературы отмела знамения напрочь и с удовольствием согласилась с мамой, которая в тот злополучный вечер скомандовала ей вернуться домой, чтобы утром успеть спокойно собраться на работу.
…В три часа ночи, когда позвонили соседи, всё было кончено. Ольга Петровна с мужем ворвались в задымлённый дом и нашли его хозяйку бездыханно лежащей у порога. Нос мама туго завязала косыночкой и, забыв о ходунках, в испуге проползла до двери через всю комнату. Значит, умерла не сразу, как задымилась электрогрелка и начался пожар, а пыталась спастись и попасть ключом в замочную скважину…
— Смерть от угарного газа — самая лёгкая, — утешал какой-то знаток Ольгу Петровну. — Человек видит красивые картинки, испытывает эйфорию и незаметно для себя умирает.
Но если мама защитилась от дыма косыночкой и попыталась выбраться из дома, значит, она умирала в полном сознании?!
Бедная мамочка! Я, только я виновата в её смерти, нет — гибели, и буду страдать от этой вины всегда, до самого конца!
…Допив наконец остывший, разбавленный слезами кофе и как будто почувствовав запах дыма, Ольга Петровна выскочила на балкон глотнуть свежего воздуха.
По тротуарам в такую рань уже брели люди, одетые в тёплые куртки. Мёрзнут, а на улице весна. А вот в квартирах холодно — отопление отключили не по погоде, а по графику. Плату же сдерут за полный месяц, и пожаловаться некуда...
«Вот, — тут же поймала она себя на брюзжании. — Была бы молодой, прикидывала бы, что надеть. А так... типичные старческие мысли.
Ну что же, ты и есть старуха. И жизнь твоя приближается к конечному сроку – к семидесяти годам».
...Недавно по телевизору показали столетнюю итальянскую старушку, которая после землетрясения двое суток провела под завалами дома в своей чудом уцелевшей комнате. Когда ее спросили, что она делала, бодро ответила:
— Вязала.
Когда на нее направили телекамеру, она попросила расческу — привести себя в порядок.
«Мама не дожила до такого возраста восемь лет. А могла бы дожить, если бы захотела. Если бы я захотела...»
— Ну что ты убиваешься? — утешают Ольгу Петровну друзья. — Нам бы столько прожить! Но зачем? Что может быть хуже беспомощной старости? Уж во всяком случае, не смерть. Умереть — это ведь перестать чувствовать своё дряхлое, больное тело. А тут... тебя просто нет. Значит, нет злой бессонницы, мучительной мигрени, рук с артритом, ног со вздувшимися венами...
Может мёртвым и легче, но как быть живым? Как им получить у мёртвых прощение, загладить свою вину перед ними? Как перестать терзаться?
...Ольга Петровна теперь в воскресенье свободна. Но свобода её простирается не до далёких тёплых морей, о которых она мечтала на дежурствах, а до кладбища, где она находит умиротворение и приют у двух белых могильных плит с портретами отца и матери. Она обнимает их, что-то шепчет, прислушивается, они как будто отвечают, и ей становится легче.
Ей кажется, что всё в жизни вернулось на круги своя: не дети, а родители жалеют и утешают своих детей, в чём и заключается незыблемый закон природы. И Ольга Петровна должна подчиниться ему, отбросить малодушие, овладеть собой и жить дальше.
— Давай твою маму к себе заберём! — вдруг предложила она мужу, чем очень его удивила. — Она ведь, ты сам говорил, лекарства пить забывает. И спина у неё мёрзнет, она мне жаловалась, а укрыть некому. А мы тут как тут, рядом всегда, не только по воскресеньям…
Лариса Новосельская
Совпадения случаются! Редко, но бывают

О том, как этим летом автор вернулся в свою юность…
Как-то, в году эдак 80-м, я шел на лыжах вверх по распадку в поселке «Заря», недалеко от Невельска на Сахалине, и на лыжне увидел торчащую бумажку, которую принес сюда ветер с городской помойки. Там недалеко была городская свалка. Я подумал, что это хорошая нужная бумажка, печку затопить пригодится. Bырвал бумажку из снега, сунул в карман рюкзака. А потом, уже в своей охотничьей избушке, растапливая печь, пригляделся к бумажке. Оказалась она программкой спектакля «Философский камень» по произведениям Лопе де Вега, Шекспира, Кальдерона, Бена Джонсона, Мольера, который я поставил в Невельском ДК в 1978 году. И эту программку в трех экземплярах печатал я лично накануне премьеры для каких-то приехавших специально на спектакль «крутых» работников культуры из Южно-Сахалинска.
Можете представить мое состояние?!
То есть один из областных работников отдела культуры выбросил эту прогрaммку в гостиничную урну, и она чеpез три года, подхваченная ветром, прилетела именно на лыжню автора пьесы и режиссера этого спектакля! Мистическое совпадение! Так не бывает!
Вместе с семьей, с двумя малолетними детьми, я уехал в начале восьмидесятых на материк.
Поменял за эти годы свою морскую профессию на режиссерскую. Ставил спектакли в разных городах России. В Москве, Питере, Краснодаре. Но все сорок лет не мог себе позволить поставить… Чехова!
Считал себя недостойным. Недорежиссером, недоумным, недотягивающим. Написал все же из-за своей любви несколько эссе о Чехове. В них только вопросы задавал. Ответов не ждал. Догадывался, куда бы меня послал самый интеллигентный писатель двадцатого века.

Вернусь к совпадениям.
Сорок лет не был я на Сахалине, и вот все же прилетел. И тут совпадение! Тут чеховские дни! Фестиваль, которого на материке по масштабу и уважению к Чехову нет даже в Таганроге!
На Сахалине любовь к Чехову я нашел везде! В парке возле театра имени Чехова, на улицах. Уважуха тем, кто это придумал и воплотил в жизнь города! Скульптуры героев его рассказов в парке меня поразили своей любовью к городу! И к Чехову! Я в Южно-Сахалинске даже жил на улице Чехова. На побережье Татарского пролива меня везли через город Чехов. Везде на Сахалине я был с ним.
Кстати, тираж изданий его произведений завоевал первое место среди всех писателей мира. Постановка его пьес превысила недосягаемого Шекспира. Чехов на Западе – самый издаваемый писатель!
Такое хорошее совпадение, что я попал на чеховский фестиваль в Южно-Сахалинске в день моего прилета! Кстати, познакомился на фестивале с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Напомню: он автор громко прозвучавших «Ночного дозора», «Дневного дозора» и еще очень многих захватывающих книг и экранизаций.
На Сахалине прошла моя юность. На острове я стал мужчиной. Другом для своих верных товарищей, мужем замечательной женщины, отцом двух детей. Девочки Жени и мальчика Саши.
Сахалинские дети после нашего отьезда на материк в 1982-м, все эти годы, заполняя всякие анкеты, в графе «место рождения» привычно писали про Невельск и Сахалин, не помня своей малой родины.
Правда каждый год и по сей день мы с семьей 31 декабря в 16.00 по-московскому времени встречаем Новый год по-сахалински. Всей семьей. Сейчас – в Краснодаре. Уcловие – на столе только рыба и морепродукты. Никаких колбас и шашлыков! Морская капуста, папоротник, чимча, «клоповка», икра, горбуша, кета и т.д. (Верные краснодарские друзья про это прознали, и «Сахалинский Новый год» стал вкусным праздником для многих местных).
Я мечтал побывать на своем Сахалине. Дети мечтали побывать на своей малой родине. На мою пенсию туда не слетать. Я произнес сам себе: «Мечты сбываются!» – и пошел на стройку. Это не совсем легко в 65 лет. Но сдюжил. Еще и сына Сашу уговорил. Мечтать. Ему тоже пришлось напрячься.
Я вылетел на две недели раньше него. На то была причина. Причина, достойная описания писателем-фантастом С.Лукьяненко. 27 августа встретилась наша рота из Невельской мореходки в честь 45- летия ее окончания. Из 70 окончивших мореходку в 1979-м осталось нас в живых… 15. Встретились в аэропоpту. Потом поехали в Невельск.
 1977 год
1977 год
Город я почти не узнал. После землетрясения, случившегося здесь уже после нашего отъезда, его весь перестроили. Нашу кафедру, само здание радиотехнического отделения снесли. А общежитие цело. Сейчас в мореходке учится кто-то, но нашего радиотехнического отделения больше нет. Не только в Невельске. Радисты вообще вычеркнуты из списков живых, существующих профессий. Азбука Морзе – это другой век! Вот и встретились «динозавры»!
Я очень рад, что все нашли себя. Все при деле. Профессия всё же помогла и на берегу. Ценной наша профессия оказалась. Все на посту. Даже на пенсии все нужны и работают. Про каждого писать – это же роман. Отдельный. Про каждого. Мне не потянуть.

Собрались дружно: из Крыма, Москвы, Хабаровска, Алтая, Краснодара, Твери. Конечно, ребята с Сахалина все подготовили. Транспорт, аэропорт, встречу, дождик, слезы, туман, солнце, счастье, рыбалку – все было!
Расставались, понимая, что видимся, может, и в последний раз. Хотя, конечно, бодрячком, решили собраться на 50 лет. Это в 2029-м. Я подписался с удовольствием! Я Кащеев. А значит – бессмертный!
Но тут прилетел на Сахалин 1 сентября мой сын Саша Кащеев, где он в свои 42 года не чаял побывать. Хотя побывал везде. В экспедиции краснодарского путешественника Мерзоева проехал всю границу России. Буквально. На велосипедах до Мурманска, ледоколом до Чукотки, от Владивостока на джипах, потом пехом 600 км по «нехоженым тропам» границы с Монголией, опять велосипеды, Кавказский хребет зимой перешли, закрыли тему в том месте, откуда выехали, – в Адлере. 294 дня. Саша снял 8-серийный документальный фильм. В Красноярске, на Всероссийском конкурсе ТВ, его назвали «Лучшим оператором России». Губернатор Кубани вручил ему медаль «За заслуги». Эти фильмы, сделанные им на коленке, возле костра, в этом немыслимом походе, стали номинантом на ТЭФФИ!!! Победителем не стал. Есть кому во время войны. Но остался Номинантом!
Так вот, Саша со своим фотоаппаратом и камерой приехал на свою малую родину!!! Я, конечно, ждал его уже в аэропорту. С удочками.

Наш друг, сахалинец, тут же повез нас в Невельск. Я решил там в палатке возле моря переночевать. Показал Саше, где он родился. Правда роддом снесен, как и пятиэтажка, где они родились и где мы жили. На этом месте теперь построили Храм.

Потом жили на даче у друзей в Корсакове. Там ручеек – перешагнуть. Саша там обеспечил нас красной икрой, кунджей, форелью. Я только жарил, солил и ел!
Рыбачили все время по-честному. Ветка ивы, леска, поплавок, как на дурацкой открытке в интернете ко Дню Рыбака. (На материке до сих пор думают, то День рыбака – это праздник этакого идиота с удочкой, огромным поплавком и червяком размером с удава).
Икру, понятно, ели большими ложками. Это, наверное, брэнд Сахалина. Хотя, если самому не ловить, а покупать, то это и там очень дорого. Нужно знать, что цены на морепродукты на Сахалине такие же, как и в Краснодаре. Просто все свежее и непересоленное.


Лучше моей прозы расскажут сашины фотографии.
Хотя хотел бы разместить тут и свое стихотворение. Написано сразу, одним дыханием. И о друзьях из мореходки, и о ситуации, о Сахалине вообще…
Море волнуется РАЗ!
Море волнуется ДВА!
В море болтает баркас.
В рубке болтает братва.
Я же на море гляжу,
Вижу тот самый баркас.
ДВА – я на травке сижу.
Я не моряк – это РАЗ!
Видно иной мой удел –
Быть у воды не у дел.
Раз уж удел мой иной,
Впейся в гитару и ной.
Мог бы и сам я сейчас
В рубке болтаться с братвой…
…но написал бы о нас
Все это кто-то другой…
Сергей Кащеев


День моряка

Условимся быть честными! Все эти корпоративные праздники, типа: «День танкиста», «День строителя», «День мелиоратора», натыканные в календарь щедрыми брежневскими либеральными по отношению к алкоголю партийными рyководителями, были придyманы. Конечно, тогдашние идеологи постарались привязать эти красные в календаре воскресенья к какой-нибyдь причине, дате. Но чаще эти праздники были просто логичны.
«День сельхозработника» совпадал с окончанием yборочной. «День рыбака» совпадал с периодом безрыбицы, межсезонья, когда рыбаки Дальнего Востока и так пьют от безделия. И без всякой yказки сверхy.
Танкистам, металлyргам, геологам было все равно, когда пить. (Поверьте, знаю, о чем говорю!). И без yважительной причины все легко полyчалось! Но тyт, как говорил Ги де Мопассан, «Дрyгое тело»! Тем более что начальствy приходилось в этот день искать возможности для денежных премий. А иногда даже накрывать полянy (что было «естественно», очень одобряемо сотрyдниками)!
Когда говорю, что дyмаю – дyмаю, что говорю!
В жизни прошел и праздновал разные праздники: «День металлyрга» в городе моего детства Магнитогорске – это вааааабще что-то запредельное! Город гyляет так, что кажется, что мартены и домны должны завтра взорваться, и пропади они пропадом!!!!
«День рыбака» на Дальнем Востоке – это настоящий праздник! Тyт хочy yточнить: День рыбака – это не день того радостного идиота с yдочкой, которого рисyют на открытках в ВК поздравлениям мyжчинам, однажды кyпившим в магазине «Рыбак» горсткy не знакомых емy червяков! Весь Дальний Восток – это рыболовецкий флот. Это настоящий праздник! В этот день, например, пьяных с yлиц милиционеры на своих «вытрезвителях» развозят по домам! Более того! Еще и несyт домой! С yважением! Представляете, как наши перебравшие рыбаки кайфyют! Самые хитрые даже притворяются.
Окончил в юности мореходкy на Сахалине. Общее заблyждение – это то, что все моряки – алкаши! Просто любая экспедиция на рыбy редко бывает меньше 4-х месяцев без берега. А когда приходишь, то yдержаться от празднований не yдастся даже самомy антиалкоголикy! Две недели до следyющей экспедиции проходят в легком тyмане. В море алкоголь запрещен. И если поделить выпитое за парy недель на год пахоты в море, то полyчится, что моряки по количествy выпитого сравняются с пацанами-старшеклассниками. И последние, скорее всего, победят в обьемах!
«День сельхозработника» в станице Каневской, где я честно отработал несколько лет, – это кайф! На столах были жареные yтки!!!! Их обожаю! Всего на столах много и так разнообразно, что кажется, что даже чересчyр. Но так надо! Должно так быть, как и это дебильное громоздкое слово сель-хоз-работник! Даже Ленин называл их честно – крестьянами.
Подyмал. Добавлю. Настоящая Кyбань начинается где-то за Тимашевском. Это дрyгая тема. Поговорим об этом позже.
Есть просто вопиющие придyманные праздники. Например, 1 июня – «День защиты детей». От кого их надо защищать? От кого празднyем? Вы себя спрашивали? Ответ: «От взрослых! Само-собой! Наливайте!»
Листаю календарь…. «День взятия Бастилии», как известно, впyстyю прошел…., «День рыбака», само собой отметили воздержанием. Полyчив сто поздравлений с этим праздником, не стал yдивляться однообразию мышления своих дрyзей по интернет-контактам: все те же веселые рисyнки рыбака с yдочкой. Поплавок на рисyнках больше головы рыбака! Если б вы знали, как я вяжy лески, как я продyмываю каждый yзел, как я покyпаю снасти… Вы …примитивы. Лyчше деликатно промолчать…
…наконец-то! Вот он! Последнее воскресенье июля. День ВМФ!
Тyт я остановлюсь особо.
День Военно-Морского Флота – это особый праздник.
Понимаю, что это личное. Это мой праздник! «Командир отделения на торпедных катерах» в графе военного билета «В военное время» – это yсловно.
Понятие «моряк» – это выше.
Во флоте тогда слyжили три года. В армии на берегy – 2. Различалось это не только формой. Психологически. Десантники, например, любители покyпаться в фонтанах и подраться, к морякам предпочитают не приставать. Не из боязни (Боже yпаси!), а из yважения.
Интересно, yзнал, что в кремлевской роте, те, кто ходит в морской форме, слyжили три года. А рядом пацаны, с одной казармы, в красивой, но пехотной – 2.
Хотя я это понимаю. В свой очень береговой Магнитогорск я приезжал в морской форме ПРАЗДНИКОМ! Ходил по своем городy, который меня когда-то ва-а-абще не замечал, – королем!
Замyхрышка-красавец, в штанах клеш, гюйс на все хyдые плечи, бляха с якорем на ремне… офигеть! Это была награда за абсолютное казарменное yбожество и просто безyмный холод и голод, о котором хотелось как можно скорее забыть. Хотя бы на время отпyска. Тазик пельменей и графин водки – олицетворение счастья каждого моряка, yже слyчилось сразy, после прилета. Мама и папа знали. Тоже мечтали. По-своемy.
Во флоте нельзя спать в одежде. Только в трyсах. Если в носках ляжешь – сделают «велосипед». Одеколона на носки нальют, подожгyт. Самые верные дрyзья. До Сочи на велосипеде доедешь, ногами дергая! У меня часто одни верхyшки носков оставались.
На баночке, которая вообще-то всегда называлась в сyхопyтной, в своем большинстве, России табyреткой, yтром должна аккyратно лежать только форменная одежда. В кyбрике 16 моряков. Все юмористы. Поголовно! Когда я, комy-то признавшись, что намедни влюбился, нашел yтром на своей баночке очень дефицитный тогда презерватив!
Ма-а-аленькая деталь!
Когда мы, yже с женой, переезжали из безyмного барака в однокомнатнyю коммyналкy, на переезд пришла вся моя родная рота и понесли наши вещи через весь город в виде траyрной процессии. Впереди пyстили «грyстных», несших чахлые кактyсы в горшках. Потом шесть человек с траyрными лицами несли семейнyю кровать, за ними моряки с подyшками (без орденов), одеялами, посyдой в коробках на вытянyтых рyках… Последний, немного отстающий, нес на белых занавесках тот самый презерватив…
Флот – это юмор. Это не для эссе. Это гораздо глyбже. Без юмора не выжить. И я рад, yлыбаясь, поздравить моряков с НАШИМ праздником! Забyдем, как это было трyдно. Мы СЛУЖИЛИ. И это было классно!
Пацаны всех флотов! Мы ВМЕСТЕ! За нас!
Сергей КАЩЕЕВ
«Переведи меня…» Часть 3

В первом своём материале в «Новой Газете Кyбани», придyмавшей возможность пyбликовать литератyрные материалы в интернет-варианте, в моей статье «Переведи меня» от 30 мая 2024 и в продолжении в статье «Переведи меня» часть 2 я пишy о переводах и литератyрных переводчиках с дрyгих языков. С дрyгих языков на рyсский – и наоборот. В первом материале я yпоминал о своей любви к японской поэзии. Вот теперь расскажy о её переводчиках и их невероятной работе.
Давайте сначала о японской поэзии. Вы не сможете её полюбить с первого вздоха. Но я попробyю:
замените своим языком великолепие танка японского поэта Фyмо, если захотите сказать о тишине. О такой тишине, которой не бывает в нашей жизни. Просто тише не бывает.
Умолк древоточец,
Добравшись до годичных колец ствола
Больше ничто не нарyшает
Тишины
В оголённой роще…
А вот Исикава Такyбокy:
Словно где-то
Тонко плачет цикада...
Так грyстно
Y меня
На дyше.
Прочитав в юности стихи японцев, я заболел. Заболел восхищением их лаконичностью и точностью. Стал искать переводы, находил их и… совсем растерялся! Одно и то же танка (пятистишье) или хоккy (трёхстишье) разными переводчиками переводилось иногда в совершенно разных, иногда даже противоречивых вариантах.
Одно из первых стихотворений Такyбокy я запомнил таким:
Держy на ладонях хрyстальный шар.
Это Земля.
И я на ней
Немыслимо маленькая точка
…Не разбить бы.
Я не помню, чей это был перевод. Это было очень давно, когда ещё не было Интернета, и я тогда не обращал внимание на имена переводчиков.
А вот перевод этого же танка Верой Марковой. Общепризнанной сегодня переводчицы с японского:
Большой хрустальный шар!
Ах, если б он был здесь
Перед глазами,
Чтоб, глядя на него,
Я мог спокойно думать.
Представляете моё недоyмение?! Юноши, встyпающего в жизнь! И, даже сейчас, в Интернете, кроме переводов Марковой, нет больше переводов дрyгих авторов! А по отношению к переводам именно с японского, это несправедливо! Почемy? Чтобы ответить, необходимо немного рассказать об особенностях японского языка. Очень кратко. Совсем-совсем кратко!
В японском языке нет рифмы. Рифма заменяется слогами. Танка – это чётко соблюдаемая последовательность слогов: 5-7. 5-7, 7. Танка и Хоккy были созданы в 17-ом веке и записывались на бyмаге кисточкой. Нажимом кисти японские иероглифы добавляли к ключy слова чyвственность автора, его настроение именно в данный момент времени. Но читающий эти стихи принимал их, как живопись, тоже согласно своей чyвственности именно на данный момент. В дрyгой день, в дрyгое настроение, он может прочесть их по-дрyгомy. Даже меняя содержание. Не меняется только настроение.
У любимого мной Такyбокy есть несколько танка, которые очень похожи внешне. Иероглифы почти идентичны. Но какие же разные! Но настроение сохранилось!!!!
Сто раз
На прибрежном песке
Знак "Великое" я написал
И, мысль о смерти отбросив прочь,
Снова пошёл домой.
Я взошёл на вершину горы.
Невольно
От радости
Шапкой взмахнул.
Снова спустился вниз.
Не знаю отчего,
Я так мечтал
На поезде поехать.
Вот – с поезда сошёл
И некуда идти.
В печатных изданиях начала 20-го века, когда Такyбокy стал издаваться, нажима нет. Но японцы сyмели сохранить и развить стиль «настроения» введением письменных знаков-звyков.
Эти их знаки практически непереводимы на дрyгие языки. Есть, например, такой письменный знак, который обозначает «подлёт к окопy снаряда противника с химической начинкой». Произносится с очень специфическим присвистом.
К томy же y японцев есть чёткое понятие в языке «свой-чyжой». Это вообще – «тёмный лес»! С «чyжими» говорят на дрyгом языке. А «чyжие», это не только «не японцы», это не родственники, не коллеги, не земляки, не японцы дрyгой иерархической стyпени. Это даже «не из нашего подъезда». С каждыми говорят на лёгком изменившемся японском языке. Для всех этих категорий – разные оттенки японского языка.
Вы ещё не офигели? Мы ищем инопланетян в космосе, а они живyт на нашей планете. Мы на «визитках» размещаем своё имя и профессию, японцы своё имя и только имя фирмы, в которой работает. Хоть босс, хоть дворник.
Мы стараемся кyпить подешевле, даже если состоятельны. Японцы делают покyпки только в тех магазинах, которые соответствyют рангy их профессии. Повысился статyс – бyдь любезен сменить место проживания, маркy автомобиля, магазины одежды и еды. И ещё и сменить дрyзей!!!! Соответственно.
Мы полюбили соевый соyс, японскyю кyхню, аниме, их поэзию. Но вот, насчёт смены дрyзей, yверен, для россиян это совсем неприемлемо!
Дyмаете, японцы – одни инопланетяне на нашей планете? Отнюдь! Я не о быте аборигенов племени Тyмбо-Юмбо. Я сейчас только об языках! Представляете, как можно перевести стихи с вьетнамского, если y них язык регистров?! То есть одно и то же слово, звyк могут иметь три разных значения, если его произносишь баритоном, тенором или сопрано! Прислyшайтесь к вьетнамцам. Они же поют! Летают своими звyками по регистрам!
Наш, «великий и могyчий», меня тоже постоянно yдивляет. Нахожy и нахожy прекрасное новое в очень старом. Моя бабyшка играла со мной, совсем маленьким, в игрy, посадив на коленки, трясла и двигала моими рyчонками под такие стихи:
А тy-тy, а тy-тy
Не вари кашy крyтy,
Вари жиденькyю
Да проховенькyю,
Мы поедем на покос,
На покосых вилы,
На вилых телята,
Телята ревнyли,
Собаки брехнyли.
Андрей Волков
Разгонял волков.
«Брат-брат, где ты был
На Урале харю мыл?»
Поскользнyлся и yпал,
Ещё пyще замарал…
Я когда со своими детьми стал так играть, прислyшался к бабyшкиной тарабарщине. Спросил y неё: «А почемy «На вилых телята»? Кровожадно как-то! И как это каша «проховенькая»? Это значит набyхшая?» Бабyшка отмахнyлась. «Так со мной моя бабyшка играла».
Бабyшки y меня yже давно нет. Мои дети играют с моими внyками и внyчками в этy же игрy. А я, когда варю кашy, стараюсь, чтоб она была «проховенькая»…
Сергей КАЩЕЕВ
Летун

«Выходя из самолёта – убедись в наличии трапа» (Из инструкции для пассажиров «Аэрофлота»)
В самолётах в жизни приходилось летать очень часто. После школы улетел с Урала на Сахалин. Оттуда летал домой в отпуска. Потом летал по делам на Камчатку, в Хабаровск, в Москву, Краснодар, Челябинск, Ленинград.
Особенно много пришлось летать в начале девяностых, когда несколько лет работал по гастролям в составе концертной бригады писателей-сатириков. Тут уже летали каждую неделю и иногда узнавали, куда летим, только в аэропорту. Бригада юмористов накладывала в поездках особый настрой на юмор. Так что, накопилось много наблюдений. О тех полётах немного позже.
Потому что захотелось бы сначала сразу вспомнить и записать свой первый в жизни полёт. В Челябинской области, где я тогда жил, между сёлами, посёлками и городами в области летали пассажирскими «кукурузниками». Причём расписание местных авиалиний выглядело для приезжих ошеломляюще. «Магнитогорск – Париж», «МГН – Варшава», МГН – Фершанпенуаз», МГН – Лейпциг». Это уральские казаки, после войн с Наполеоном, возвращаясь с парижей и берлинов после своих побед, называли свои поселения именами понравившихся им европейских городов.
Первый раз я полетел на самолёте лет в пять. Зимой. В начале шестидесятых. Летели с отцом в отпуск в гости к родственникам. И сразу я попал в «авиационную катастрофу». Отлично всё помню. Я смотрю в окошко. Десяток пассажиров (все мужчины, почему-то) зря времени не теряют. Наливают. Я вижу в окно, что из мотора пошёл чёрный дым. Отвлекаю папу от разговора. Папа очень занят. Отмахивается. В дверь выглядывает лётчик и предупреждает, что будем делать вынужденную посадку. Чтоб все держались за лавки. Мотор глохнет, и мы планируем на чистое снежное поле. Всё благополучно. По снегу бригада мужиков топчет тропу к какому-то ближайшему коровнику. Меня, единственного ребёнка на лайнере, несут на плечах поочерёдно. Потом дня три чего-то там ждём на палатях в комнатухе с печкой-буржуйкой. Мужикам было не скучно. Там недалеко была деревня и магазин «Сельпо».
Второй раз полетел на следующий день после выпускного бала в школе. Меня провожал весь класс моей театральной школы. Не зная, что провожают меня на самолёт. Я им устроил прощальный «хэппиниг», «флэш-моб», «киндер-сюрприз». Варианты названия этого действия мы все узнали позже. Тогда я, своей импровизацией, заманил весь свой класс (в бальных платьях девушки, в галстуках юноши) в аэропорт (он в Магнитке рядом с городом). Мне сестра подвезла рюкзак, а с родителями я всё обговорил уже до того. Простились с ними, как положено заговорщикам, загодя. Они знали мой «сценарий», оценили идею и приняли. Папе даже понравилось. Он даже заскулил от желания увидеть лица моих одноклассников. Мама запретила ему поехать подсматривать. Она была тоже заинтригована. Ей и самой хотелось меня проводить в аэропорт. А тут, уж если не ей, то никому!
Теперь, собственно, о самом спектакле:во время нашего весёлого заваливания в кафе аэровокзала, куда я всех наших незаметно заманил, ВДРУГ, неожиданно, объявляют регистрацию и посадку на самолёт. Я достаю билет. – О! Это меня! – и накидываю на плечи тут же лежащий рюкзак со своими шмотками.
Одноклассники осторожно изучают билет. А там полный букет: Магнитогорск – Челябинск – Хабаровск – Южно-Сахалинск – Буревестник.
«Буревестник» – это аэропорт на острове Итуруп. Курильские острова Сахалинской области. Я получил оттуда вызов для работы радистом на береговой радиостанции. Окончил тайно от всех школу ДОСААФ.
Эффект получился тот, которого я и добивался от своих студийцев-театралов! Обнимаю совершенно остолбеневших одноклассников и ухожу на посадку в небеса. Заодно и в «даль светлую», как называл б у д у щ е е в своих письмах жене уже парализованный писатель Николай Островский.
Так я улетел на Сахалин. Из детства в юность.
Даже тогда удивляла реклама в моей советской стране: «Летайте самолётами Аэрофлота!» Висела тогда в Магнитогорске огромная, на всю городскую площадь со стороны моста через реку Урал такая неоновая надпись. Или там, в управлении Аэрофлота, была этакая обязательная фишка в бюджете, или в их рекламном отделе сидели не выездные «таки, наши люди». Рекламный слоган был тонко ехиден. Ведь тогда никаких других аэрокомпаний в стране не было категорически.
Отвлёкся. Вернусь к небу.
Летел я тогда, вчерашний выпускник школы, «Всё на восток, на восток, на восход» …очень долго. На Курилы попал только недели через три.
Это было в 1976-ом, и попал я в самолёт ИЛ-18. Четырёхмоторный. Винтовой. Самый надёжный пассажирский самолёт того времени. Говорят, что он мог бы и сесть, даже если у него три мотора откажут. Но, видимо, жрали эти надёжные моторы много керосина. Летели на Сахалин с постоянными посадками для заправки. Поэтому я по пути познакомился с аэропортами нескольких знаковых городов Сибири и Дальнего Востока. Кое-где задерживались на сутки. В Южно-Сахалинске превратился из юноши в уже зрелого небритого мужчину. Там же, в аэропорту, выяснилось, что моя оплаченная путёвка в жизнь на остров Итуруп в аэропорт «Буревестник» – это ещё не гарантия туда попасть самолётами компании «Аэрофлот». Той самой, которая так активно призывала меня на малой родине пользоваться исключительно её услугами.
Две недели я ждал туда самолёта! Жил в каком-то бараке возле сахалинского аэродрома. Хорошо ещё, что в компании таких же, как я, бедолаг. Ждущих этого же самолёта. Иначе бы умер с голоду. Все дни мы играли в «коробок», а проигравшие ездили в Корсаков (город на Анивском заливе Сахалина), выпрашивать у рыбаков с рыболовецких сейнеров что-нибудь пожрать. Те выручали свежей рыбой. От нашего отель-барака по вечерам на весь аэропорт несло жареной рыбой так, что в окрестности слетались на ночёвку чайки и вороны со всего побережья Охотского и Японского морей. Некоторые даже с Татарского пролива.
Одна женщина, из соседнего женского «отеля», из тех, что тоже хотели вернуться из отпуска с материка на Итуруп, кому-то там из курильчан-аборигенов пообещала море пива. А пива на Курилах не производили. Поэтому оно было там светлым символом мечты о Материке и Малой родине. Наш рейс отменяли и переносили на следующий день в 20.00 по сахалинскому времени. Неизвестная героиня покупала две двадцатилитровых канистры в 18.00. Позже уже не наливали. В 20.15 наша бригада получала сорок литров на злостное распитие. Несвежее пиво привести на остров было для неё выше её островитянских сил и принципов. Тогда и пиво было без всяких там консервантов.
Мои попутчики её отлично понимали и не удивлялись. За те две недели так к этому привыкли, что, когда объявили посадку, все смотрели друг на друга с удивлением. И что? Счастье закончилось?! А как жить дальше? И главное – зачем теперь жить?!
Хорошо, что мы так надоели Аэрофлоту, что посадку они объявили не в самолёт, а в автобус. А он довёз нас всех до Корсакова, где нас посадили на грустный пароход, и через совсем не весёлые сутки мы были на Итурупе.
Но, я же о полётах… Вернёмся в небо.
Я всё время боюсь летать. Таки, и кто не боится? Хоть по статистике это самый безопасный вид транспорта, но безнадёжная беспомощность напрягает. Машинально перед посадкой ищешь плохие приметы и знаки. В полёте прислушиваешься к работе моторов и бортовых систем. При посадке стараешься скрыть свой внутренний мандраж юмором.
Вот какую шутку придумал при подъёме по трапу: перед дверью-люком обычно стоят красивые стюардессы. Спрашиваешь у них, стараясь, как бы, не смотреть на их грудь, бодрым голосом: «Как работают бортовые системы?!» Стюардессы всегда бодро отвечают, что всё в норме. Тогда уже акцентированно оглядываешься на их грудь, интимно добавляешь: «А у самолёта?!»
В салоне лучше держать себя лучезарным шутником. Вот дежурный анекдот, оптимизмом которого можно запросто покорить своих соседей.
«Летят вот так же в самолёте два пассажира. Мужчина и женщина. Мужчина замечает, что соседку всю трясёт.
– Вам не плохо? – спрашивает участливый пассажир.
– Вы знаете, я очень боюсь летать, – признаётся женщина.
– Ну что вы! – удивляется мужчина-оптимист. – А вы знаете, что самолёты – это самый безопасный вид транспорта?! В автомобильных авариях, например, по статистике, погибают в тысячу сто сорок раз, в процентах, больше! Вот недавно конкретный случай был! …Едет автобус под завязку набитый пассажирами. Едет себе автобус осторожно, водитель опытный, правил не нарушает. На небе солнышко, безветренно, всё прекрасно. А тут на него с неба Ил-62 ка-а-а-к даст…»
Как-то на гастроли летел. Куда-то в Сибирь. Сидел в каком-то тридцать первом ряду. Уже усаживаясь в кресло, понял, что на первых тридцати рядах усаживается какой-то большой коллектив. Все друг друга знают. Переговариваются. Шутят. А на земле утро. Дождь. Туман. Сыро и ветер. Все приметы для крушения. Взлетаем. Я привычно боюсь. Набираем высоту. Взлетаем над облаками. Солнышко. Разрешают отстегнуть ремни. Выдыхаю спёртый воздух из лёгких. Тут вдруг встаёт один из пассажиров из коллектива первых рядов и просит у остальных пассажиров прощения и разрешения своему коллективу попеть. Мол, тут ещё и «ближе к Богу». Оказалось, что первые ряды, это все какой-то московский церковный хор. Летят в Сибирь на сходку таких же певческой культурой продвинутых.
Когда они запели…. Я уже перестал думать об авиакатастрофе. Сегодня, именно в этом рейсе, она точно не могла случиться! Бог не смог бы убить своих ангелов!
Это была вышка!!! И в их вокале, и в ситуации. Они все сидели, а стоял только тот самый извинившийся перед нечаянными зрителями дирижёр. Тонко махал ладонями, слыша всех. Даже пытавшегося подпеть меня. Наверное, и пели они тоже с открывшимися от естественного полётного страха душами. Я, вместе с ними, был эти три-четыре часа с Богом.
Кстати, вспомнил, что ещё как-то раз летал на пассажирском «кукурузнике». Летел с охоты и с законным охотничьим ружьём за плечом. Ружьё в чехле и без боеприпасов. Так можно. На лайнеры положено оружие сдавать в багаж, но на «кукурузник» багаж несут с собой. Идём к «этажерке». Из окошка-форточки кабины пилота на меня смотрит лётчик. Кивает на ружьё. Мол, это чо?
– В Турцию летим, командир! В Стамбул! – отвечаю на его взгляд я, и похлопываю по чехлу.
– О! Наконец-то! А то всё Сыктывкар, да Сыктывкар! Садись, завожу!
Винт и вправду тут же завертелся.
В своей гоп-компании писателей-юмористов на гастрольной канители оказываемся в аэропорту неизвестного города. Название забыл начисто. Где-то между Сургутом и Лабытнанги. Судя по звёздам – чуть севернее Канельярви, но южнее Уэлена.
«Аэропорт» – вагончик с «буржуйкой» и начальником «аэропорта» в нагрузку. Начальник, как положено, в «кожанке» и в «фураге» с кокардой в виде крыльев. Весь по уставу. Всё как положено. Ждём пассажирский «кукурузник». (О! Опять вернулись к межпланетному!)
Начальнику аэропорта очень чешется поговорить с московскими артистами. Будет что рассказать друзьям и родственникам долгими заполярными ночами. А нам тошно. А ему нужно поговорить. Он не стал долго придумывать темы для разговора. Видимо, всё отработано на часто прилетающих сюда журналистах. Вы же наверняка видели фото северных пейзажей с «взмывающими в небо» нефтяными вышками?! А рядом олень пасётся. Для колорита. Всё тут и было снято.
«Аэропорт» начинает загибать пальцы, считая свою зарплату, как доказательство его разумности работать до пенсии именно здесь. Я машинально прислушиваюсь.
– «Оклад двести двадцать, плюс сто процентов «северных», плюс восемьдесят процентов надбавок за стаж, плюс бесплатный проезд самолётом (тут он поднял очень большой и толстый указательный палец вверх, чтобы подчеркнуть значимость льготы)! …и ещё рублей триста ежемесячных ЗА РОГА!» Произнёс он и привычно стал ждать вопросов про эти свои последние триста рублей.
Невозможно было не повестись на такую замануху.
– Это что за добавочка такая? Триста рублей! «За рога?!» Это, типа северные премиальные, что жёны на Большой земле изменяют? О чём вопрос? Тут шо, моральную потерю вахтовикам-нефтяникам денежно компенсируют? – заинтересовались мои условно одесские писатели-юмористы. Мысленно уже предчувствуя ещё не написанный спич.
– Та не! – тоже легко перешёл «за одесский», а скорее на «кубанский», представитель Аэрофлота, откинувшись спиной на потёртое кресло из когда-то разбившегося здесь самолёта.
– Тута у меня все «корреспадеты» перед отлётом покупают эти оленьи рога. (Он показал на оленьи рога в зале аэропорта, которые еле-еле вмещались в вагончик, заполняя всё оставшееся от ожидающих прилёта пассажиров воздушное пространство).
–Я, гляжу, шо вы их покупать не будете. Даже не подывились. Не спрОсили об них. А я их регулярно продаю! Тока они в двери самолёта не вмещаются. Не входят. А лётчикам я отстёгиваю двадцать пять процентов. Оне уже едут, когда покупатель на бегу играет с этими рогами возле люка в «тетрис». Ну, и бросают их на поле! Що б улететь, таки, к своих едрени-фени. Я подбираю. И, вота, снова продаю.
– А как ты их отсюда-то выносишь? – мудро спроектировал размах рогов на архитектуру вагончика один из наших «московских одесситов». Ещё по навыкам студента, когда-то окончившего московский архитектурный институт, чтобы потом стать известным писателем-сатириком.
–Таки пришлось подумать! – привычно продолжил хвалиться наш хозяин вагончика.
– Летом перед входом вешаю. Соглашаюсь продать только перед самым вылетом. Когда уже мотор заведут. Покупатели в дверь попырхаются – не лезет! «Проверено электроникой». Просят лётчиков к крылу привязать. Те, естественно, ни в какую! Это нарушение аэродинамических характеристик самолёта! Так и зачем бизнес терять? По пятьдесят рублей от меня с кажного идиота! А для зимы (она тута долгая, самая хлебосольная для журналистов и политиков) придумал, как стену откидывать. Вот тута у меня рычаг, дёргаю, стена вон эта этак вот откидывается. Утеплённая, тяжёлая. Приходится, щоб в обратку подымать, зятя вызывать из города. У него «Жигуль». А он сволочь! – забросил интригу «рогоносец» и снова откинулся спиной в своё кресло. Снисходительно ожидая нашего вопроса про сволочь, согласно его сценарию.
На его эту следующую заготовленную тему для рассказа мы не повелись. Не успели. Самолёт прилетел.
Ещё как-то совершили с этой же командой прикольную импровизацию в самолёте. Всё с теми же артистами-юмористами. Забегаем в лайнер совсем последними. Нас, опоздавших, подвезли к самолёту с уже работавшими турбинами. Таки, впустили. Влетаем в салон. Места только возле прохода. Садимся на свободные кресла, растекаясь по рядам. Пристёгиваемся. Лайнер выруливает на взлётную полосу. Перед взлётом замирает, перед разрешением на взлёт. Начинает набирать положенные обороты двигатель. Вот-вот сорвётся в небо. Трясётся в предвкушении. Кто летал, тот помнит такой момент.
И помнит, что подлокотники в креслах самолёта легко поднимаются. Туда-сюда. Я попробовал оба поочерёдно. Сосед посмотрел на мои телодвижения с любопытством. Лучше бы он этого не делал!
Только тронулись с места, я стал с усилием поочерёдно поднимать рычаги-ручки кресел, на манер инвалидной коляски. Эту мою идею тут же подхватили мои артисты-юмористы. Очень серьёзные, с первого взгляда, мужчины. Но приколисты и хулиганы ещё те! Движение самолёта, и наша тяжёлая работа медленно ускорялась. Я толкнул соседа, который думал взлететь без усилий, и на халяву. Тот засуетился, схватился за рычаги-подлокотники, и тоже стал ускоряться. К нашему нелёгкому взлёту стали присоединяться офигевшие окружающие. Во время отрыва самолёта от земли, мы все, уже уставшие, запыхавшиеся, одновременно дружно потянули подлокотники на себя. А с нами вместе и треть пассажиров. Потом, кто-то из наблюдавших со стороны за этим всеобщим спровоцированным идиотизмом, зааплодировал. Мы тоже. Своим соседям. Себе. Очень боящимся летать…
Сергей КАЩЕЕВ
Переведи меня…

Очень хочется сразу сказать читателю, что я никакой не литератор. И тем более не историк литературы. Я пенсионер. Подрабатываю на стройке. Много лет проработал в море, на Курилах, Сахалине, Камчатке. Ставил спектакли в краснодарских театрах. Работал журналистом в «Орлёнке». Всё нормально.
Но ЭТОТ материал я пишу с особым чувством. Даже поэтому хочу сразу сказать: признаюсь в своей неисполненной мечте. …Вот, сейчас, немедленно признаюсь.
Я всю свою жизнь мечтал переводить стихи зарубежных поэтов. Мечта не может появиться просто так. Она у меня проявилась, когда я прочитал танка японского поэта Исикава Такубоку. Мне было 18, и я учился в сахалинской мореходке. Но всё моё мышление и восприятие поэзии перевернуло то, что я прочёл Такубоку в другом переводе. Другого переводчика. Это было уже совсем не то, чем я восхищался, но тоже по-своему интересно. Некоторые пятистишья отличались от первого прочтённого, «канонического», совершенно радикально! Я купил японские словари и стал разбираться. И даже работая бетонщиком 3 разряда в «Орлёнке», поехал в Москву, чтобы купить Такубоку на японском. Представьте, какими глазами смотрели на меня родственники моей жены, когда я им (бетонщик 3 разряда) сообщил о цели приезда. Они очень разочаровались в муже их родственницы! Когда я накупил литературы на японском, они стали со мной говорить медленно и по слогам. Дебил, он и в Африке дебил! Но о переводчиках с японского мне хочется написать отдельно. Чуть позже. Заглядывайте в «Новую газету Кубани»!
Хотелось бы очень субъективно рассказать об очень вежливых, талантливых людях, которые сумели наступить на горло собственных амбиций и подарить нам другой мир. Мир Шекспира и Сервантеса, Гарсиа Лорки и Расула Гамзатова, Бо Дзю И и Бёрнса. Всё же скажу, что великое стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» перевёл с аварского поэт Наум Гребиков. Как и все стихи дагестанского поэта. Мы ведь никогда бы не узнали, что он там писал… А вот Наума Гребикова никто и не знает. «Летит, летит по небу клин усталый…» И даже заголовок этого материала тоже переведён на русский с украинского. «Переведи меня через Майдан» написал в восьмидесятых журналист Виталий Коротич. Перевела на русский Юнна Мориц. Среди самых высших переводчиков я бы назвал Самуила Яковлевича Маршака! Он Гений среди переводчиков! Кстати, с 1919 года творчески работал в Екатеринодаре. Жил на перекрёстке Гоголя и Янковского. (Там сейчас 4 поликлиника). А создал Театр (в здании сегодняшнего Театра Армии, направо от парка Жукова). Там он поставил с голодными беспризорниками спектакль «Кошкин дом»). У нас в Краснодаре вообще нет упоминания, что здесь жил и работал Маршак. Зато есть улица убийцы и террориста Каляева. Только не думайте, что Маршак – просто детский писатель, поэт! В это время рулили Сергей Михалков, Корней Чуковский, Агния Барто. Уже до войны были детские журналы «Мурзилка», «Ёж», Чиж». Там блистали своими парадоксами Хармс, Введенский. Маршак стал переводить. Сам гений, стал переводить гениев. Для того чтобы понять, каково ЭТО, думать за гения, не стать нескромно МАРШАКОМ в своём умении, а скромной строчкой на титульной второй страничке «перевод С. Маршака». Вот английский текст 90 сонета Шекспира. Догадываюсь, что не все мои читатели его прочтут. Наш школьный английский далёк от возможности наслаждаться языком классика… Привожу пример перевода трёх замечательных переводчиков:
Шекспир в оригинале
Then hate me when thou wilt, if ever, now
Now while the world is bent my deeds to cross,
Join with the spite of Fortune, make me bow,
And do not drop in for an after-loss.
Ah do not, when my heart has scaped this sorrow,
Come in the rearward of a conquered woe;
Give not a windy night a rainy morrow,
To linger out a purposed overthrow.
If thou wilt leave me*, do not leave me last,
When other petty griefs have done their spite,
But in the onset come; so shall I taste
At first the very worst of Fortune's might;
And other strains of woe, which now seem woe,
Compared with loss of thee, will not seem so.
Sonnet 90 by William Shakespeare
Перевод Модеста Чайковского:
Коль хочешь быть врагом мне - будь им ныне,
Когда гоним я роком и людьми.
Примкни скорей к враждебной мне судьбине,
Но медленной отравой не томи!
Когда душа печали сбросит гнет,
О, не буди подавленную муку!
За бурей вслед пусть дождик не идет...
Не замедляй решенную разлуку,
Покинь, - но не последним, умоляю,
За меньшими печалями вослед,
Нет, сразу порази! Тогда познаю
Тягчайшую из выпавших мне бед.
И горе, что считаю ныне горем,
Покажется мне каплей рядом с морем!
Перевод Александра Финкеля:
Что ж, ненавидь, коль хочешь! Но сейчас,
Сейчас, когда грозит мне злобой небо.
Согни меня, с судьбой объединясь,
Но лишь бы твой удар последним не был.
Ах, если сердцем я осилю зло,
Ему немедля ты явись на смену.
Чтобы за бурной ночью не пришло
С дождями утро, - доверши измену
И уходи! Но только не тогда,
Когда все беды наигрались мною.
Уйди сейчас, чтоб первая беда
Была страшней всех посланных судьбою.
И после жесточайшей из утрат
Другие легче станут во сто крат.
А теперь Маршака:
Уж если ты разлюбишь - так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!
И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром - утром без отрады.
Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее,
Что нет невзгод, а есть одна беда -
Твоей любви лишиться навсегда!
Я понимаю, что вам третий вариант ближе. Его Пугачёва спела. Он привычнее. Роднее. Но как же замечательны переводы Чайковского и Финкеля! Они индивидуальны! В них спрятан ПЕРЕВОДЧИК!!! Маршак прятал себя, свой индивидуум, он искал Автора. Его переводы Бёрнса вообще сделали из шотландского поэта БОЛЬШЕ, чем он из себя действительно представлял. Во всяком случае, для русскоязычных читателей. Интересно, что Бёрнса переводил ещё и Заболоцкий. Поэт-одессит занимался переводами всерьёз. Это его мы читаем, когда говорим о «Слове о полку Игореве». Кроме него, никто не решился. Но как же неинтересно он перевёл Бёрнса! Тут Маршак заочно положил его на лопатки! И даже великий Пастернак, когда попал в опалу, не издаваясь в СССР того времени, занимался, подрабатывая в одном из издательств. Переводил Шекспира. Я предупредил, что пишу очень субъективно! Не удались великому его переводы. Все театры ставят спектакли других переводчиков. Так много хотелось рассказать. Но может получиться длинно и скучно. Лучше ещё потом расскажу. Этакий сериал сделаю. До встречи!
Сергей КАЩЕЕВ
Как жаль!

Как жаль, что я не стал парикмахером!
Это так интересно, когда ты делаешь из простого человека – красивого человека! «Красивый человек» уже не может поступать некрасиво. Причёска, одежда и вообще внешний вид, делает из любого человека – д р у г о г о человека. Всё это запускает в генетическую, заложенную ещё в младенчестве память, д о б р о. Там же генетически лежит понятие, что добро должно быть красивым. Ведь д о б р о, оно всегда красиво! Как мама. Как пятёрка по «Чистописанию». Как цветы понравившейся девушке. Как повышение зарплаты своему сотруднику, без его намёков.
Однажды я выполнил норматив кандидата в мастера спорта на лыжах, только потому, что мне дал белую (тогда) олимпийскую спортивную одежду с надписью «СССР» один мой заболевший перед стартом товарищ. Там было много зрителей. Я бежал так технично и красиво! Я не мог бежать по-другому! Только, как ЧЕМПИОН! Как член сборной страны, которой я гордился! Я победил уже на старте, когда замечал на мне восхищённые взгляды.
Как жаль, что я не стал дворником!
Ведь непонятно окружающим, что ты известный театральный режиссёр, писатель, или капитан большого парусного корабля, геолог, только что открывший большие залежи никеля в горах или тундре, – как об этом можно догадаться окружающим? О твоей работе никто, кроме специалистов, не знает. Тебя в твоём родном городе видят окружающие, прохожие, но о твоих успехах нужно рассказывать! А это делать самому не очень-то комфортно. И даже комильфо. Не вполне совпадает со своими понятиями о скромности.
А работу дворника видно сразу всем! Или ты ленивый, или ты любишь порученное тебе людьми дело. И тут можно даже перерабатывать! Подбеливать внепланово бордюры. Мастерить удобные лавочки. Детям качельки. Без фантазии трудно делать своё ДЕЛО хорошо и ярко! И вылизывать, например, свой участок так, чтоб он категорически отличался чистотой от других участков нерадивых соседей-дворников. Это так просто! Нужно только р а б о т а т ь! Чтоб бабушки с лавочек на тебя с уважением смотрели, а дети приносили яблоки.
Как жаль, что я не стал библиотекарем!
Это же надо! Получать деньги за то, что любишь делать больше всего на свете! Читать!
Я как-то работал сторожем на дачах. И занимался в пустом заснеженном посёлке двумя любимыми мной делами: я читал книжки в тёплом вагончике и ходил по посёлку, рассматривая следы. Но следы тоже ч и т а л. Кто и куда шёл? Зачем? Чего ему тут надо было? Кто он? И зачем написал эти строчки следов на страницах свежего уральского снега?
А библиотека?! Запах книг-консервов чьих-то мыслей, как следы на снегу. Пока книжку не взяли в руки и не открыли, содержание дремлет. Её герои замирают в своём пыльном анабиозе. Только открыл её кто-то – герои вздыхают воздухом открытых страниц и оживают. Любят, ненавидят, дерутся, обнимаются, плачут, смеются. И ты вместе с ними. Ты БОГ для них. Ты их Читатель. Они живы, пока ты их читаешь. Это волшебство! И можно ведь и посоветовать пришедшему в библиотеку подростку книгу, которая, быть может, изменит его судьбу…
Как жаль, что я не стал учителем… мойщиком окон в высотках… кондуктором в троллейбусе… работником стрелкового тира… тренером женской волейбольной команды… продавцом мороженого…
Был конюхом, строителем, капитаном, журналистом, клоуном, охотником-артельщиком, геологом, режиссёром…
Нет! Не то! Как жаль!
Сергей КАЩЕЕВ
Кросс

Кросс
Про Васю Васечкина
Моим одноклассникам
Глава I.
Вася
Так не должно было быть. Но так было. Поэтому рассказываю всё, как было.
Вася Васечкин перешёл в нашу школу в четвёртом классе. И уже через пару недель, присмотревшись, стал лезть ко мне в друзья. На перемене подойдёт поговорить о какой-то глупости. На физкультуре всё время рядом трётся. И так, и эдак. А сам пацан не видный, прямо скажу. Ни в спорте, ни в учёбе, да и так, одинокий тихоня. Без искры.
А я в авторитетах ходил среди ровесников. И друганы были соответствующие, братья-близнецы Ступаки, Серёжа Бартеньев по кличке Босс, Витя Бояринцев (Бояра) – конечно, как и все пацаны того времени и города – Всесоюзной комсомольской стройки, где зэков было больше, чем комсомольцев в десятки раз, – разгильдяи уличные, но совестливые. Что-то там стырить, или в спорте, или в драке кому-то уступить – это никогда! Чужого не возьмут, но и своего не отдадут. Будут биться до последнего вздоха. С характером. А Босс, так ещё и учился только на пятёрки. К Васе вся моя команда отнеслась ехидно и свысока.
Но Вася был какой-то упёртый. Весь тот первый год он из школы провожал меня до дома. Я его прямо отгонял от себя, но он шёл на расстоянии позади меня, и я ничего с этим поделать не мог. Если б я был девочкой, может быть, это было бы и понятно. А тут такое прилипалово, что мне уже перед моими пацанами было неудобно. Я оправдывался тем, что в школе его унижал. Открыто ему говорил, чтоб он от меня отстал, что никогда я его другом не буду, и вообще…
Так продолжалось несколько лет.
Став постарше мы с нашей командой ударились в спорт. Он подрос и в шеренге на физкультуре потихоньку стал перешагивать ближе к левому флангу переростков. Мы едем в пионерлагерь – его мама достаёт путёвки туда же. Я завёл аквариум с рыбками – он тут же завёл тоже. И разобрался в этом так профессионально, что мне невольно приходилось у него консультироваться. И в спорте всех нас обскакал. У него оказалась какая-то дикая прыгучесть, и он уже в шестом классе получил сумасшедший юношеский спортивный разряд по прыжкам в высоту. Мы о таких заслугах даже не мечтали.
А однажды я пришёл домой, и со мной вдруг вроде нечаянно заговорила о нём мама. Мол, а почему ты с Васей Васечкиным не хочешь дружить? Я, туда-сюда, мол, есть у меня друзья. А мама: «Твои друзья мне нравятся. Но ты и на него внимание обрати. Где ты найдёшь такого верного друга? А верность – это такое редкое в наши времена качество! Ты ему очень нравишься, как человек, как собеседник, как лидер. Он мечтал о таком друге. И сейчас мечтает. Он же один с матерью живёт. Отец у него умер давно. Вот он и ищет какую-то мужскую опору. Друга ищет».
– Мам! Откуда ты про него всё знаешь? – подозрительно спросил я.
Мама помолчала, но всё же, призналась: «Мама его ко мне приходила. Говорит, Вася даже плакал, что у него друга нет, такого, как ты».
– Сюда приходила?! – обалдел я.
– Да. Просила, что б я с тобой поговорила. Чтоб ты хоть немного на него внимания обратил.
Меня этот разговор обескуражил. Я и вправду посмотрел на него с другой стороны. А тут как раз у меня случилась в школе завязка. На меня «наехали» пацаны из класса постарше. Не помню за что. Пошли за школу на разборки. Моих друзей в эти минуты рядом не оказалось. Как только меня первый же раз ударили, из окна первого этажа выпрыгнул Вася Васечкин. Такого звериного и отчаянного напора никто не ожидал! Ни старшеклассники, ни я. И хотя я и включился в драку по всем правилам «махаловок», но Васю было не удержать! Наши соперники опешили даже и стали отступать. В конце концов, они сами притормозили разборки и ушли не солоно хлебавши. Мы с Васей пошли ко мне домой, ко мне было ближе, стирать рубашки от крови и делать примочки под синяки под глазами.
– Ну. Ты даёшь! – удивлённо похвалил я Васю. – Ты-то что встрял?
– Так вижу, ни Ступаков, ни Босса, ни Бояры. Они у физрука в спортзале какие-то тёрки с ним вели про предстоящие соревнования. А этих трое. Тебя бы они там замочили.
– Да нет. Мочить не стали бы. А вот побили бы капитально.
– Может и так.
– Ну, и им мало не показалось! – засмеялся я. – Особенно, когда ты из окошка, как бешеный орангутанг, на них спрыгнул!
Поржали. Посмаковали драку.
На следующий день возле школы меня ждали мои друзья. Волновались. Осматривали меня. Тут Вася как раз идёт. Оба глаза заплыли. Рука перебинтована.
– А он-то где попал? – удивился Босс.
– Так он меня и спас. Вовремя встрял. Ну и дрался, как лев. Не умеет правда, но напором взял. Те от него аж чухнули со всех ног, – чуть приукрасил я ничью в сторону победы.
– Так мы этих отморозков зароем! Пошли, покажешь, кто такие…– возбудился один из близнецов.
– Не стоит! Они больше не сунутся. Получили по мордасам, теперь лезть не станут. Зачем нам война между кварталами? Опять братья старшие подключатся, потом отцы и дяди. И понеслась! Цепи, арматура, поножовщина. У меня вот так же дядю посадили. Сам не знал, за что дрался.
– А Васечкин почему встрял?
– Увидел, что вас рядом нет. Ну и подумал, что меня они втроём мочканут. Вот и встрял. Молодец, вообще-то.
– Да. Молоток, – удивился Бояра. – Не ожидал от него.
– Давайте его в нашу секцию баскетбола позовём. Он к тому же и прыгучий. Тем более что он нас всех ростом обогнал. А у нас команда какая-то шыбздиков. Когда вы уже станете расти? – предложил Босс.
– На себя посмотри! Вширь растёшь, а вот вверх опаздываешь, – съязвил Валера Ступак.
А Босс действительно стал превращаться в этакого громилу. Баскетболист из него и был никакой. А занятия в отцовском гараже штангой и гирями тем более пластики к фигуре не прибавляли.
Никто возражать не стал, и Вадик Ступак на перемене пригласил Васю к нам в секцию. Мне это было делать как-то неудобно.
Так Вася Васечкин потихоньку стал вливаться в нашу команду. И мы с ним стали встречаться. Чаще у меня. Но пару раз я был и у него. Его мама прямо светилась вся. А он стеснялся их бедности. Мама его работала медсестрой. С утра до позднего вечера. На полторы ставки. А на оклады медсестры сильно не разгонишься. Так она ещё и свою мать, бабушку Васину, поддерживала. По выходным убегала к ней прибираться, готовить, бабушку мыть. Так что Вася её и не видел совсем. Как оказалось.
В конце концов, мы с ним основательно подружились. Моя команда друганов не то чтобы приняла его с распростёртыми объятьями. Какую-то дистанцию пацаны держали. И меня слегка ревновали. Так что первое время я даже пытался нашу дружбу с Васечкиным не афишировать. Но Вася не обращал на это внимания. Его всё устраивало.
В классе седьмом мы уже виделись каждый день и увлеклись туризмом. Нашли секцию. Стали ходить в походы, и я перестал из-за этого ездить в наш пионерский лагерь «Горное ущелье». Мои пацаны еле отбарабанили в нём одну смену, на вторую категорически не поехали и всей командой примкнули к нам с Васей. В августе того же лета, мы уже в составе большой группы «бывалых» туристов и примкнувшим к ним Ступаков, Босса и Бояры сходили в сложный пятнадцатидневный поход по горам Южного Урала. Яман-Тау, Иримель, Большой Шолом. Хребты Машак и Зигальга. Места дикие. Мало хоженые. Дорог нет вообще. Одни тропы и берега горных рек и ручьёв. Потом ходил там уже взрослым, не переставал удивляться, как мы мелкими подростками сумели это пройти?!
В походе Вася стал полноправным членом нашей «бригады». Потому что и детство провёл в лесной деревне, а там всему научишься, и просто оказался трудолюбивым и терпеливым. И на шутки и подколы абсолютно не обижался. Сам над собой ржал. Вообще сомневаюсь, что он умел обижаться.
В баскетбол мы, конечно, продолжали играть, но в туризм, скалолазание, лесную жизнь ушли с головой. С секцией и нашим тренером и инструктором Владимиром Кряквиным сплавлялись на байдарках по красивейшей башкирской реке Белой. По верховьям реки Урал. На самодельных плотах на майские праздники «килялись» на коварной реке Инзер. На велосипедах крутили педали 250 км по Среднему Уралу. В новогодние каникулы на лыжах прошли от Магнитки до Миасса. Все выходные без исключения проводили в лесу, в горах. В старших классах построили осенью в глухомани избу и все выходные зимой из неё не вылезали.
К восьмому классу все вдруг стали тянуться в рост. Так что к десятому классу у нас была очень даже приличная баскетбольная команда. Сыгранная. Натренированная. Но туризм взял вверх.
Из-за прекрасного качества Васечкина не уметь обижаться, ему доставались все приколы и розыгрыши. Любимой шуткой было нагружать ему рюкзак. У него была неосторожная привычка собирать утром рюкзак перед выходом, расщепенив его горло на всю поляну. А сам ходит, прибирается, посуду моет, костёр водой заливает. Ну, как не подложить ему что-нибудь из своего обязательного, распределённого загодя общего груза?! Кто топор ему подкинет, кто пачку соли, кто крупы, консервов. Вася никогда не замечал. Крякнет, вставая с рюкзаком, и прёт.
Вечером, после пройденных двух десятков километров, все падают, и вставать, идти за дровами, палатки ставить, готовить – это только Кряквин нас мог поднять. Наш грозный руководитель. Васю заставлять было не нужно. Рюкзак скинул и бодрячком побежал за дровами и водой. Мы в это время из его рюкзака свои «подкидыши» собираем. Его активность была не от желания угодить, нам понравиться. Это была какая-то его деревенская лесная сила. Это, скорее, от природы. Хотя, наверное, от неё приобретённое. Его раннее детство было школой выживания, а не наше счастливое времяпровождение под присмотром благообразных родителей.
Как-то пошёл он по надобности из лагеря в сторонку. Выбрал место под огромной елью. Только сел, а с ели взлетел глухарь. А когда глухарь даже в сторонке взлетает, всё равно, что трактор полетел, так и хочется закричать: «Чур, меня! Чур! Дьявол несусветный!» А тут над головой взлетел! Он на поляну прибежал с расстёгнутыми штанами и волосами дыбом. Да ещё, и не таясь и отдуваясь, всё всем рассказал. Ох, мы и ржали! Это прямо фишкой стало того нашего похода. И пугали его потом: «Вася! Глухарь!» И кто-то уже бежал к нему с туалетной бумагой. Вася и сам при этом веселился и в десятый раз пересказывал, как он тогда испугался.
В одном из походов он в очередной раз укрепил к себе уважение неожиданным для нас умением. Встретились нашей группе в лесу пастухи-башкиры. А у них лошади. Мы лошадей только в цирке видали, да в городе у перевозчиков помоев из столовых. А он что-то там переговорил с их бригадиром, я даже расслышал, что на башкирском. Бригадир удивился, но вида не подал. Как вроде само собой. Что-то там крикнул своим янычарам. Те коня привели. И Вася так лихо вскочил на коня и поскакал, что мы только присвистнули. И смотрели с завистью. Вернулся к нам возбуждённый и счастливый. – Рахмат, дядя Рашид! – поблагодарил конюха, снял седло, разнуздал коня и шлепком по крупу отправил его в табун.
– Ты откуда башкирский знаешь? И с лошадьми умеешь… – спросил я его уже возле костра.
– Так я в башкирской деревне жил. Но в русской семье. Так получилось. Там без лошади не прожить. И без их языка со стариками не поговоришь. Да и пацаны наши деревенские не все по-русски говорили. Учились друг у друга. Я с ними по-русски, а они со мной на своём. Потом менялись языками. Так и учились. Взрослые меня за это уважали. Понимали, что без русского языка их детям только всю жизнь в деревне и жить. Маму благодарили. Бараниной делились. Мёдом… – лицо у Васи при этом расплылось от сладости воспоминаний. – Тогда ещё отец был жив, – помрачнел он. Вздохнул, стараясь, чтоб незаметно, и ушёл к ручью за водой.
– Слышь, братва! – обратился к нам Босс. – Он вроде как из другого мира. Он настоящий, а мы придуманные. А мы его в школе всё наше босоногое детство чмырили постоянно. Мне сейчас за себя стыдно.
– Вот и я подумал. Хорош уже ему в рюкзак свою тушёнку подкладывать! Кого увижу ещё раз – тому эту консерву в жопу затолкаю! – пригрозил Валера Ступак.
Не из опасения страшной Валериной кары, но подкладывания Васе в рюкзак прекратились. И вообще Васечкин стал всем очень нужен. И поговорить с ним все хотели, и поручения Кряквина выполнять старались, чтоб с ним в группу попасть. Теперь я даже заметил, что стал его немного ревновать. Но Вася, мне кажется, всех этих перемен и не заметил. А ко мне так и относился, как к старшему брату, всё же отделяя своё отношение ко мне от отношений с остальными пацанами.
Ещё он страшно любил чай. Наверное, в башкирской деревне приучили. Как-то на десятый день похода у нас заварка кончилась. Заварили душицу, листья дикой смородины, зверобой. И какао запарили в другом ведре. Паша возвращается с рыбалки и сразу к вёдрам: «Тут что?»
– Чайковский (так мы между собой чай называли).
Открывает крышку и, увидев в ведре моток травы, разочаровано протянул. – Это не Чайковский. Это Мусоргский! А тут что?
– Какао.
– Какао – это вообще …Гуно!
Сколько лет прошло, а я запомнил эту его композиторскую импровизацию.
На новогодние каникулы в десятом классе моя команда разъехалась с родителями по каким-то базам отдыха. Тогда все стали увлекаться горными лыжами. Наша лесная изба к тому времени успела благополучно сгореть. И мы с Васей рванули в одну избу в лесу, где разрешили нам погостить знакомые из турклуба. Без хозяев, которые решили встречать Новый год с семьями в городских квартирах. Новый год мы встретили вдвоём. Печь натопили. С сэкономленных за полгода денег, выделяемых мамами на обеды, купили даже бутылку какого-то кислого вина. Встречали Новый Год в большой лесной избе из сухой строевой сосны. Со столом человек на десять. С палатями, в расчёте на толпу. Я ещё без спросу прихватил ружьё старшего брата и у кого-то выпросил патроны. Поохотимся, ёлы-палы! Десять дней свободы и таёжного леса, с добрым другом, с широкими лыжами и ближайшими соседями в двадцати километрах по окружности. Это ли не счастье!
Глава II
Бег
Проснулись мы в прострации. Не от перепитого. А от окружающего нас апокалипсиса. Я открыл глаза, а на нас идёт в доме с крыши огненный дождь. Прямо летят капельки огня на стол, пол, на нары, и на меня, и Васю. А моё трико, в котором я спал, к тому же начало разгораться. И очень быстро. Я растолкал Васю. На мне заполыхало трико. Я соскочил и стал его яростно сдирать. Но от капель капающего с горящей крыши над головой огненного дождя загорелись волосы. Я схватил Васю и с нечеловеческой силой швырнул его в двери. Я тогда понял, что ещё он не совсем проснулся.
У меня, как у математика долбанного, кем я и никогда не был, просчитался в какой-то момент опыляющий опыт «избовика»: если между трубой дымохода и крышей предусмотрены асбестовые вкладки, то они отсохли совсем. И оттуда пошла вся эта хрень на лаги из сухой сосны. И на толь, которой покрыта была крыша. Накалилась труба и жесть сверху над асбестовыми прокладками. Зимой сухая сосна ещё больше сохнет. Вот и загорелась эта изба с крыши. От перехода печной трубы к крыше.
А ещё я вслед захлёбывающемуся от кашля Васечкину, выкидывая своё тело из горящей избы, вдруг прихватил с собой два унта, что стояли на пороге. Машинально. Думая не о нашем будущем, а скорее о том, что босяком на горящую избу лучше смотреть не с голыми ногами на снегу. В двадцать пять градусов мороза.
Мы смотрели на горящую избу и боялись смотреть друг на друга. Мы были в трусах и стояли на выброшенных мной унтах. Он на одном, а я на другом. Изба горела радостно и сердито. Нам даже пришлось отойти. Слишком от неё шёл сильный жар.
Тут я вспомнил, что там ружьё старшего брата, и ринулся было в дверь, чтоб его спасти. Вася не успел меня поймать за руку и из выбитой мной двери на меня полыхнул такой огневой «рык дракона», что меня от двери просто отшвырнуло. Вася потушил мне ладонями пылающие остатки волос.
– Там ружьё!!! – заорал я ему в отчаянии. И заплакал. Я знал, что мне за это будет!
Минут через десять, когда и изба уже перешла в стадию «догорающей свечки», мы переглянулись. Потому что одновременно с неминуемым наказанием от мам и пап (а у меня ещё и от старшего брата!), обоим пришла мысль – а как мы туда доберёмся? В город! До ближайшего полустанка по ЖД – 16 км. И до «железки» – 5.
– Там изба «проходчиков». На железной дороге. Мы с тобой заходили, помнишь? Из старых шпал. Я там коробок спичек на полке видел. И печка там «буржуйка», – отвечая на мои мысли предложил Вася. – Тут нас никто искать не станет. Одежды нет. Надежды тоже. Только рассчитывать на себя.
– Может, кто подойдёт? – спросил я, содрогаясь от мысли, что нужно бежать 5 километров до железной дороги по снегу, без лыж, без одежды. А там ещё и поезд останавливать. Не остановится, конечно. На этот коробок спичек вся надежда. У печи ещё можно пересидеть хотя бы до рассвета. Там уже попробовать какие-то разумные знаки поездам подавать. Но ночью, когда раздетые до трусов пацаны будут им перед носом руками махать, то может и позвонят, куда там звонят в таких случаях? Тоже шансы маловероятны. Подумают, что у молодёжи новогодняя ночь затянулась, вот и бесятся. Куражатся. Пьяные. Да и кто поедет в новогоднюю ночь с пьяными разбираться?! Ой-ха-ха!!!
С другой стороны, той стороне тела, что была в сторону огня, было совсем жарко. А вот другой – холодно. Очень холодно. Приходилось вертеться, как на вертеле тушке баранчика. Но баранчику это было уже всё равно. А нам – нет. Если и появится в этих местах кто-нибудь из «избовиков», то не раньше, чем дня через четыре. Может быть пять. А может, и до окончания школьных каникул. А то и позже.
– Бежать надо, – сказал, клацкая зубами, Вася.
– Куда? – спросил я, чтоб он меня убедил.
– К избе проходчиков. Тогда есть шанс.
Я тоже это понимал. Но бежать не хотелось. Как-то так наползла ещё в душу отчаянная мысль, что вот так и жизнь окончилась, как бы толком и не начавшись.
Я даже одел на одну ногу унт. На другой унт, кивнул Васечкину. Он тоже одел. Чуть решительней, чем я. Но с места не сдвинулся. И тут вдруг я получил по морде сильный удар кулака Васечкина! После чего ринулся за ним, чтоб ответить. Но он побежал по тропе в сторону железки, и я его не смог догнать, пока была жажда мести. А потом стало безразлично. Я понял, что он меня обманул. Спровоцировал. Поворачивать назад уже было глупо. И я побежал уже не за ним. А за ним. Понимайте, как хотите.
* * *
Не знаю почему, но у нас в те годы в Магнитогорске, кроме хоккея, баскетбола и академической гребли, в школах котировался ещё один вид спорта. Хоть он и относится условно к лёгкой атлетике, но был как-то обособлен. Потому что назывался кросс и ни в какие официальные спортивные соревнования не входил. Кроме школьных и армейских. Тысяча метров по паркам без асфальта, по дорожкам, тропам и иногда с препятствиями. Где трасса не позволяла её сделать удобнее. Универсально для сельских школ. Да и многих городов, где есть парки, но не хватает стадионов.
У нас в школе трасса кросса была отработана годами. Рядом со школой был парк. И на стене возле спортзала красовались портреты чемпионов школы. По прыжкам в высоту (там, естественно, был Вася Васечкин), командные фотографии прошлых лет победителей каких-то турниров. Под стеклом кубки, грамоты, вазы какие-то хрустальные. Но на главной строке рекордов был КРОСС! Дистанция понятная. Всё пронумеровано. Секундомеры тоже исправлены у всего поколения физруков: «2.50 мин.».
Я тогда на тренировках за 2.60 пробегал. Васечкин вдруг выдал за 2.50. Физрук и мы все охренели. Ступаки сбегали контрольную, но выбежали из 3 минут. Молчу про Босса. Он уже не бегал, а ходил с 16-ти килограммовыми гирями в карманах. Бояра вдруг полюбил теннис. У нас тогда открыли корт на левом берегу. Он туда стал ездить с родителями. В очереди стоять.
Но самое непредсказуемое до старта кросса случилось именно со мной и Васей!
Вася пришёл ко мне и, выдохнув воздух, объявил, что он влюбился.
– Э! Радной! Кагда успэл? Мы вэдь только с похода вэрнулысь, – вдруг почти по-грузински заговорил с ним я.
– 1 сентября на линейке увидел её. И понял, что мне больше жизни нет! Честно говорю. Как лучшему своему другу.
– Вот ни фига себе!!! – обрадовался я. Я как-то, конечно, влюблялся. Особенно после фильма «Ромео и Джульетта» какого-то итальянского режиссёра. Почти одновременно в кинотеатрах вышел фильм нашего Кончаловского «Романс о влюблённых». Мы все тогда были очарованы. Будущим. Что можем и мы когда-то ТАК любить. И, самое невероятное, что и может быть нас. Влюблённости в школе были, конечно. Но мы их даже друг от друга скрывали. А тут Васино категоричное заявление!
– Поздравляю! Женишься? – во мне проснулся завистливый сарказм.
– Я ещё не знаю. Я об этом не думал. Я просто люблю её и всё! – на полном серьёзе ответил побагровевший от краски на лице Вася Васечкин.
– Вася! Я рад за тебя. Ты становишься мужчиной! – задавил я свой сарказм и попробовал быть искренним.
– Правда? И ты, как мой друг, не будешь на это обижаться?
Мне и в голову не пришло на него обижаться. Правда. Я даже обрадовался. Но какая-то шалость над всем этим витала в моих мозгах.
– И что? Будешь ходить к ней под окна и тосковать? Да! У нас кросс через десять дней. Я собираюсь тебя побить. Твои предварительные результаты. Тренируюсь. Бегаю, как падла, по утрам и вечерам. А ты вокруг её дома бегаешь? Или ходишь со вздохами, не следя за дыхалкой?
– На кроссе я тебя сделаю. Не сомневайся. А ты зря до аэропорта бегаешь. Хоть и с краю дороги. Не по асфальту. Там автомобили воздух портят. Надо бегать в парках. Возле реки. Вода она тоже воздух очищает и собой наполняет. Особенно сейчас, осенью. Я там и бегаю. Давай завтра утром вместе к Уралу сбегаем?
– Ага! Нет уж. Я как-нибудь сам. На кроссе разберёмся. Тут мне хочется сделать тебя по-честному. Мы же соперники. И вместе будем тренироваться? Мне так неинтересно. Кросс 20 сентября. Сегодня – 10-ое. Ты хоть как-то там дал знать, что ты её любишь? Ну, там… улыбнулся не вовремя, и само собой по-идиотски … – развеселился я над явно тупым в этом вопросе другом.
– Я ей свидание назначил. И она согласилась.
Вот тут у меня челюсть отпала! Я её сначала на место вставил, а потом уже спросил:
– Как это… назначил?
– Я подошёл к ней и сказал, что она мне очень нравится. И что мне никто так никогда не нравился из девочек. Сказал, мол, давай встретимся у «Современника» завтра вечером. Часов в восемь…
– И что она? …Не молчи! Резинка жевательная!!! – я был ошеломлён.
– Она согласилась. Но сказала, что придёт, но только с подругой. Я сказал, что тогда тоже приду с другом. Вот я тебя и прошу, чтоб ты со мной пошёл. – Вася замолчал. И, видимо, навсегда.
– Вот это ДА! – восхитился своим другом я. – И подруга будет естественно с лицом твоих любимых лошадей. Ты будешь ворковать со своей красавицей, а я буду корочками хлеба с солью ублажать какую-то кобылку, – констатировал я, но, прямо сказать, порадовался предстоящему приключению.
– Так ты пойдёшь со мной? – опустив глаза, спросил Васечкин.
– Само собой! – уверил его я и даже похлопал Васю по плечу жестом опытного ловеласа. Но нужно сказать, что никакого опыта у меня в этих делах не было. Я никогда бы и в голове представить не мог подойти к девушке и назначить свидание. Я бы только подумал об этом и тут же провалился сквозь землю. Поэтому заволновался. И в очередной раз удивился своему другу.
Вечером следующего дня мы уже загодя слонялись возле «Современника». Вася волновался. Явно. Я делал вид, что мне всё равно. Хотя мандраж был сумасшедший.
– Серёг! А ты знаешь, о чём с ними разговаривать? Надо же о чём-то с ними разговаривать!
– У тебя рубль есть?
– Есть. Я у мамы выпросил. Пришлось ей всё рассказать.
– То есть попросил благословения?
– В смысле?
– Вот тогда пойдём в «Лакомку», там есть кафешка. Ты там никогда не был, но теперь придётся. Заткнём им и себе рты мороженым, и не придётся говорить. Не ссы! Выкрутимся на юморе. Поговорим о Толстом, о Достоевском, о Пушкине. Ты же читал «Сказку о попе и работнике его Балде»?
– Нет.
– Зря! Интересная и поучительная история. Это моя настольная книга. Как и «Золотая рыбка». Того же автора, кстати. Тебе надо обязательно прочесть, раз решил жениться. Краткое содержание, чтоб ты мог поддержать разговор, я тебе сейчас изложу…
– Вот они, идут…– обречённо протянул Вася. И действительно, к нам приближались две девушки. На мою радость обе миловидные. Одна совсем красавица, а другая скромная, но обаятельная. Откуда во мне это взялось, но я взял инициативу на себя, и стал болтать без умолку. Его красавицу звали Катя, а мою скромницу звали Лера. Я, неожиданно для себя схватил Леру под руку, и мы пошли в «Лакомку». Посидели. Девчонки всё время смеялись. Героем моих импровизаций был, естественно, Вася. Тем более что он сидел за столиком, как столб. Я заигрывал с Лерой. Даже решился и подсел к ней поближе. Что-то даже на ухо шептал. Скорее всего, над Васей посмеивался. Особенно над его нерешительностью в общении с любимой. Катя вела себя прекрасно. Как и подобает красивой девушке. Даже разговаривая интимно со столбом Васей, стала поглаживать его руку. Я офигел! Проводили мы их до дома и поехали на трамвае домой.
– Ну, ты что такой хмурый, старик? – постарался успокоить я своего набычившегося друга. – Всё было нормально. Твоя Катя просто прелесть. Да и мне её подруга понравилась. Даже очень.
– Да?
– Да.
На следующий день я поймал себя на мысли, что уже не могу не думать о Лере. Она всегда стояла у меня перед глазами. Я даже в столовой дождался её класса и следил за ней украдкой, потягивая кисель. Она меня заметила и, совсем не комплексуя, подсела за мой стол со своим пончиком и чаем.
– Что такой грустный, Серёж? А где Вася? – радостно спросила она.
– У нас сейчас химия. А он у Прасковьи Карповны лаборантом числится. Он же в химии Менделеев! А я ни бум-бум. Пробирки на столы расставляет.
– А он тебе ничего не говорил? – вдруг осторожно спросила Лера.
– А что он мне должен был говорить?
Лера доела свой пончик, вытерла руки о салфетку и уже уходя, сказала:
– Хороший у тебя друг, Серёжа! Вчера ты весь вечер ухаживал за девушкой, которую он пригласил на свидание. Он, конечно, лучше тебя. Остолоп!
Я ничего с собой поделать не мог. Сбежал с уроков домой, заперся в комнате и лежал на кровати убитый. Надо же было так облажаться! Но и не это самое главное. Я понял, что впервые в жизни я влюбился! По- настоящему. Лера не выходила у меня из головы. Она стала мной. Я любил каждую её клеточку. Каждую букву в словах, которые она произносила. У неё были совершенно удивительные ладошки. Я ещё вчера трепетал, когда вечером, провожая, взял её руку в свою. Но Вася! Не мог что ли мне намекнуть как-то?! И что теперь делать? Ведь это капец всему!!! Я тоже хорош! Не мог сообразить, что он бы и не мог влюбиться в эту куклу Катю! Если есть такая, как Лера! Какая же она красивая! Вот уж вляпался, так вляпался! И что же теперь делать со всем этим?
Утром следующего дня я решил «заболеть». Так я отчего-то умею. Когда надо, у меня даже возникает температура. Мама замерила, надо же! Тридцать семь и пять! Мама была даже этому рада. Ей можно на работу не пойти. Вызванный ею участковый врач определил у меня ОРЗ и выдал ей больничный на пять дней.
Как я любил болеть! Жаль, что это редко бывает. Лежишь себе, книжки читаешь. Мама дома, не на работе, тоже довольна. И блины печёт! Открывает запретное в будни малиновое варенье, которое я обожаю! А с блинами вообще экстаз! Подойдёт, холодную ладошку ко лбу приложит, головой покачает, одеяло поправит и опять на кухню. А там, судя по запаху, уже и «Курник» поспевает! И маме нравится за мной ухаживать. Я, конечно, могу и сам пойти на кухню… Ни в коем случае! Мама ставит у изголовья табурет. На нём, на подносе, пизанская башня в виде слегка наклонённой стопки блинов, малиновое варенье в вазочке, чай с лимоном и кусочек курника. «Кусочек» величиной с теннисную ракетку. Когда я это всё слопаю, она этак с соболезнованием в голосе спросит:
– Может борщица налить? А то ты бледный какой-то…
В этот раз всё было по распорядку. И блины были. И «курник». И даже малиновое варенье. Но всё было не в радость. Лера перед глазами стояла. «Хороший у тебя друг, Серёжа…». Её глаза вообще – хоть иди в Урал топись. Лучше бы в её глаза утопиться. Там что-то бездонное. Таинственное… Тьфу! Нужно просто собрать волю в кулак и забыть её! Лера Васина! О! Какое-то словосочетание получилось, как имя и фамилия. Всё! Нужно её забыть! Спать! Как говорит бабушка: «Дневной сон – это подарок Богу». Скорее, конечно, от Бога подарок. Не каждому Бог даёт в жизни днём поспать...
– Проснулся! Пока ты спал, Вася приходил. Я не стала тебя будить. Сказала, чтоб в школе передал, что ты на больничном. Мол, справка будет.
– И что он?
– Спросил, выздоровеешь ли ты до вашего этого кросса. Ваш физрук беспокоится.
– А ты?
– Сказала, что наверняка. Ты ж не собираешься тут всю жизнь валяться. Тем более что варенье малиновое, эта банка, что я открыла, такими темпами скоро закончится. Перестанет смысл болеть, и ты сразу пойдёшь на поправку! А на остальные три баночки можешь не засматриваться. Нужно поберечь. Зима ещё впереди.
– Мама! Ты монстр!
– Да! Мне все мужчины говорят, что я красивая!
Сказала, как отрезала.
А мама у меня была действительно красивая. Самая красивая на свете!
Через неделю я вернулся в школу. На пороге столкнулся с физруком Пал Палычем.
– О! Чемпион! Ты как? К кроссу готов?
– Всегда готов, – невесело ответил я.
– Два дня осталось. Побегай по утрам. Продышись. Можно ещё и вечером. Я в тебе уверен и жду рекорда. Хотя сделает тебя твой дружок Васечкин! – зарядил мне в лоб физрук-оптимист.
Вася подсел ко мне за парту как ни в чём не бывало.
– Ты как? Побежишь? Ты ж не в форме. Провалялся неделю в постели.
– А ты и рад? – почти через зубы сказал я, вдруг озлобившись.
Вася это почувствовал.
– Ты это… Серёж. Я не побегу, если ты не побежишь. Скажу, что ногу подвернул. Мне без тебя неинтересно.
– Между прочим, я всю неделю по утрам и вечерам по двенадцать километров наматывал. Я готов. И я тебя сделаю. Не надейся!
– Молоток Серёжа! – обрадовался Вася. – А что мама? Разрешала?
– Мама радовалась. Ей больничный дали, она дома, я дома. Температуру перед пробежками замеряла. А там стабильно тридцать шесть и шесть. И доедать малиновое варенье я отказался. А она поняла, что это значит, что я выздоровел. Но надо было, чтоб меня осмотрел участковый доктор и закрыл больничный. Так положено. Я бегал рано-рано утром и поздно вечером. Чтоб доктор вдруг не нагрянул.
В эту же субботу мы бежали кросс. Вся школа собралась. Мы с Васечкиным бежали в последнем забеге. В сильнейшем. По предварительным результатам. Я увидел Леру, она заметила взгляд, но сделала вид, что не увидела. Я разозлился. Это завело, но после старта я рвать не стал. До половины бежал в группе. Потом чуть включился и вместе с Васечкиным вышел вперёд. А потом прибавили, чтоб не оставить им никаких надежд. Метров за двести до финиша я включил свою злобу и пришёл первым. Вася отстал метров на двадцать.
– Откуда… в тебе …столько… сил… – только и оправдался передо мной отдувающийся Вася.
Физрук через свой фонирующий мегафон провозгласил, что я улучшил рекорд школы аж на три секунды. Мне было всё равно. Я устал.
* * *
Бежать по снегу было очень тяжело. Хоть и до этого мы там накатали лыжню. Она всё же проваливалась. К тому же постоянно замерзала та нога, что не в унте. Приходилось сбивать темп и дыхалку переобуванием. Поймал себя на мысли, что нелепейшей картинки не придумать. Два трезвых парня, в одних трусах и в одном унте на каждого бегут кросс по заснеженному глухому лесу в новогоднюю ночь! Бред какой-то!
Из последних сил дотянули до избы проходчиков. Перед ней пришлось метров триста бежать в гору.
– Ну???!!! – выдохнул я вопрос бросившемуся к спичечному коробку Васе.
– Соль, – выдохнул обречённо он.
Это был приговор.
Вы слышите! Никогда…нет, не так…НИКОГДА НЕ ЗАСЫПАЙТЕ СОЛЬ В КОРОБОК ИЗ-ПОД СПИЧЕК!!! В тряпочку, в платочек, в бумажку, в коробочку из-под одеколона, в карман штормовки, куда угодно! Но только не в коробок из-под спичек! От этого, быть может, будет зависеть чья-то жизнь! Ещё чья-нибудь. Наша, на этом закончилась.
Я упал на нары и сдался.
Холодно не было. Чуть беспокоили капли тающего льда с прорывающихся над верхней губой усов. Лень было вытирать.
Даже уже задремал, когда меня стал тормошить Васечкин.
– Вставай Чемпион! Эй! Серёга!
– Отвянь!
– Бежать надо.
– Поезд услышим, руками помашем, может, подберёт…
– Ты сам знаешь, что до утра поездов нет. Первый в одиннадцать, Москва – Магниторск.
– Ничо. Подождём.
– Мы уснём и замёрзнем. Не сможем не заснуть. Бежать надо. На станцию. Там люди. Башкиры там живут. У них связь есть. И дорога к ним есть. До Абзаково оттуда 10 км. Бежать надо!!!
– Ты сдурел.14 километров в трусах и в одном унте? На улице минус двадцать пять. А тут тепло.
– Тут тоже минус двадцать пять.
– Нет. Тут тепло.
– Серёга! Бежать надо!
– Отвянь!
– Вставай, сопля говённая! Кисляк в моче замоченый!
– Что? – такого я от него совсем не ожидал и даже стал приподниматься.
– А ты кто? «Спички он у проходчиков видел!» Вот, посоли теперь этими спичками себе в трусы и беги!
– А ты «Рекордсмен школы»… А я ведь тебе специально проиграл! Чтоб Лера тебя выбрала! Чтоб ты был лучше во всём! А разорвал бы я тебя, как Тузик грелку!
– Как кто! – соскочил я с нар.
– Как Тузик!
– Это кто Тузик?! Я Тузик?!
– Бежать надо, Серёж, – вдруг спокойно сказал Вася. – И бежать так, как будто там, на станции, нас Лера встречать будет. Понял?!
Так нелепо было слышать её имя в этой ситуации, что я прямо опешил. И мы побежали.
Бежать по шпалам удобно. Идти неудобно. На каждую наступать – частишь. Через одну идти, нужно ногами ворочать, как циркулем. А бежать удобно. Как раз через одну. И темпоритм легко держать. И дыхалку, когда втянешься.
А когда втянешься уже всё по барабану! Вон смотри, Вася! Лере надоело на станции нас ждать, и она пошла навстречу. Одеяла какие-то нам несёт. А одеяла то зачем? Такая жара, а она с одеялами!...
…Кинотеатр «Современник» всё же хуже, чем кинотеатр Горького. Горького уютнее. Домашний такой. Родной. И буфет замечательный. Колбы с соками. Ты какой, Вась, сок предпочитаешь? Яблочный? А я томатный! Вот и ложечка в стакане с водой. И соль по вкусу. Я всё детство себе говорил:
– Вот когда стану взрослым, буду каждый день пить томатный сок!...
…Вот прибежим сегодня к кинотеатру Горького, я тебя обязательно томатным соком угощу…
…а можно и в «Современник» сходить! Там и кафе «Лакомка» рядом. Я так мороженого хочу, ты не представляешь!...
…Про то, что ты мне специально проиграл, это ты загнул. Но ты так меня этим завёл! Тузик! Тузик! Съем арбузик…
…Ши-ро-ка стра-на мо-я ро-дна-я. Мно-го вне-го-вне-го-вне-го-вне…
…
…не надо я сам…
…
…рука затекла.
Очнулся я уже в больнице. На соседней койке спала мама. Очень затекла спина. И нестерпимо чесались пальцы на ногах.
– Ма…
Мама тут же вздрогнула и, соскочив с кровати, бросилась ко мне.
– Сыночек очнулся!!! Мой ты хороший! Очнулся, моя роднулечка! Две недели в коме! Я уже вся извелась…что?
– Как я тут…
– Тебя на станцию Вася принёс. Башкиры скорую из Абзаково вызвали. И растёрли вас самогонкой. Врачи их похвалили. Со скорой. Я тут уже со всеми перезнакомилась. И к Васе хожу. Он тут же лежит. В реанимации. Живой. Только ему по большому пальцу на каждой ноге пришлось отнять. Он босяком пришёл.
– А я?
– А ты в унтах был. Башкиры с Касмахтов звонят, беспокоятся за вас. Всё мне рассказали.
– А Вася?
– А Вася всё время спит. Рассказал только в двух словах про вашу эту избу проклятую. Прощение у меня просил, дурачок. Сына мне спас. А он прощение просит.
– Мам. У меня пальцы очень чешутся.
– Так ты их отморозил. Но тебе решили не отнимать. Сумели сохранить. Тут врачи хорошие. Душевные. У тебя с пальцев кожа слезла. Вот они и чешутся. Давай почешу осторожненько. Они кровоточили. И в мази сейчас. Вот мы их потихонечку и погладим. Чтоб не чесались и не беспокоили нашего мальчика. Нашего маленького, такого дурного мальчика.
– А почему мы в реанимации?
– У вас с Васей сильное воспаление лёгких. У него ещё и пальцы заживают. А ты в себя не приходил. Где же вам ещё лежать? В роддоме что ли? А тут тебе и капельницы, и уколы делают. Мазями я тебя мажу. И Васю мажу.
– А в школе…
– В школе все всё знают. Вы там, как Гагарины! Легендарные личности. Приходили к вам из школы. Но их не пускают. К тебе всё равно было бесполезно. А Вася просил, кроме мамы, никого не пускать.
– А кто приходил?
– Классная ваша, Фаина Николаевна. Девочка какая-то всё ходит. Я выхожу, всё ей расскажу, вот и всё. Она уходит. Имя не знаю. Неудобно было спрашивать. Но она не из вашего класса.
– Лера – улыбнулся я и заснул.
Глава III
Итого
Раз обещал рассказывать правду, так тому и быть. Правда, радости от этой правды никакой нет. Предупреждаю сразу.
После окончания школы я уехал на Дальний Восток. Приезжал оттуда к Лере в Ленинград, проездом в Магнитку. Она в ЛГИТМИКе училась на художника театра кукол. Приехал в парадном морском мундире. Весь такой сногсшибательный. Но никого с ног сшибать не пришлось. Она уже с сокурсником жила. С режиссёрского отделения. Чтобы как-то оправдать свой приезд, накормил и напоил всю их общагу на Опочинина. Что делать! Утёр себе сопли и поехал домой к маме.
Вася работал крановщиком в мамином мартене. Она его туда и затащила, и взяла в ученики. Встретились, конечно, просто замечательно. Полчаса, наверное, друг друга из объятий не выпускали. Все пивбары Магнитогорска тщательно изучили. Потом уже нас везде без очереди принимали. Ещё бы! Моряк, да ещё и обязательно с горбушей под мышкой. Я её двадцать килограммов привёз. Официанты нам в тарелку нарежут и себя не забудут. Васечкин везде гордился: «Брат с Сахалина приехал!»
Пацанов всех по стране разбросало. Так и не виделись больше.
Я прилетал на родину раз в три года. Всё время с Васей встречался. Он женился. Сына родил. На крутые реки на сплав стал ходить. Кандидата в мастера спорта заработал. Но потом с каждым годом стал сдавать. В смысле выпивки. И с каждым моим приездом он был всё хуже и хуже.
Когда прилетал брата хоронить, он уже жил в какой-то коммуналке ужасно задрипаной. Дворником работал. Бутылки собирал. Весь почернел. И, мне показалось, что рад был уже скорее не мне, а возможности выпить и поесть.
Когда мама стала болеть, я в Магнитку переехал. Нужно было быть рядом. Дачу там купил. С возможностью зимнего проживания. Потом, после маминого инсульта, пришлось жить с ней. Она уже не вставала. А ещё до того, сразу после приезда, пошёл искать Васю. Но в его коммуналке жил уже кто-то другой. И никто не знал, куда он свалил. Так я его и не нашёл. Похоронил маму. Соболезнования в газете были. Думал, Вася если прочтёт, то обязательно придёт. Поймёт, что я здесь. Но он не пришёл.
А вот совсем недавно встретился случайно с одним одноклассником и узнал, что Вася умер. И целый его последний год на этом свете мы, оказывается, жили в одном городе. В Магнитогорске. И не встретились. А я так по нему скучал. И он меня ждал наверняка. И ни у кого я даже не смог узнать, как он ушёл и где его могилка. Я и сейчас по нему очень и очень скучаю. Земля тебе пухом, брат!
А рассказ, про него, ему читал вслух. Не этот, а другой. Совсем ранний. Потерялся где-то. Там про наши походы было. И Серёжа Халимов (его настоящее имя) уже тогда был Вася Васечкин. Ржал он тогда, как его любимые лошади. После каждой строчки…
Сергей КАЩЕЕВ
1980–2019. Магнитогорск – о. Сахалин – Магнитогорск
Если мы разучимся...

Он пришёл на время, ненадолго
Он пришёл, чтоб нас предупредить:
Разобьётся сердце на осколки,
Если мы разучимся любить.
Говоря об Александре Грине (1880-1932), мало кто знает, что этот писатель умудрился побывать и в царской тюрьме, и в тюрьмах страны с процветающей борьбой с контрреволюцией. Но по-«правильному» революционером он, как политик, не был. Протестовал по-другому. Побыть в своей жизни он умудрился моряком и разносчиком писем, поваром и скотником, резчиком по дереву и фонарщиком, театральным вахтёром и мойщиком постаментов памятников российских императоров от нецензурных надписей на их пьедесталах. А перед уходом из жизни даже гонялся за крымскими птицами с луком и стрелами.
Нельзя сказать, что ему повезло родиться именно в это время. (Хотя, кто его знает, повезло, или «угораздило»).
Только не знали бы мы, наверное, ни простоты (а потому и достоверности) рассказов Джека Лондона, ни горечи работяги в молодости Максима Горького, ни поэтичной одухотворённости Киплинга, ни скупой, совсем не литературной «правды» Дефо об истории Робинзона Крузо, ни фантазий родившегося не вовремя Александра Грина. Если б их не «угораздило».
Впрочем, были ли его произведения фантазией? Каждый здравомыслящий человек сегодня скажет, что ГРИНЛАНДИЯ, созданная немыслимым гением (а может шизофреником?) неугодного писателя во время всех ещё более шизофренических политических режимов, не может существовать, кроме как в романах ныне здравствующего жанра «фэнтези»?
А кто сказал, что мы живём в реальности? Реальность даст такую фору любому жанру, начинающемуся на греческую букву «Ф», что даже осёл засвистит, а мы подхватим и споём эту букву, как гласную.
Мы не бегаем по волнам, но волны рушат наши атомные «фокусимо» станции. Мы не читали гриновского «Крысолова», но нечто знакомое мы узнавали и узнаём что-то крысоловное в чертах всяких вождей. До середины пятидесятых произведения Грина вообще запретили печатать в СССР хотя бы только потому, что вредно было мечтать об алых парусах. «Мечтать – вредно!». Особенно каждому о своём. Мечтать нужно было вместе.
Грин был не один. У него были целые города друзей, знакомых, собутыльников, собеседников. Он эти города создавал внутри себя. Зурбаган, Лисс. Он знал по именам каждого его жителя. Здоровался по утрам. Кого-то легко упрекал за пьянство. Кого-то за лень. Выслушивал невольные жалобы «за жизнь». Умел, слушая, молчать. За что ему были особенно благодарны его «земляки».
Только об этой стране он старался думать все эти дурацкие годы, на которые он попал. Может быть, абстрагируясь от действительности. Даже от реальных друзей. Он ведь не очень-то, по воспоминаниям современников, стремился ходить в хороводе. Старался быть в своём коконе. Даже на всеобщей вакханалии строевого танца.
Это, скорее всего, судьба всех неординарных людей. Тех, которые умеют очень спрятано жить внутри себя, иногда выдавая что-то во внешний мир. Оставляя ему право решать, его это, или нет. Где плохо пахнущее живое, и замечательный запах умершего. Что может быть одухотворённее запаха осенней (гниющей) листвы или новогодней (срубленной) ёлки?!
И, скорее всего, он был первым и единственным родоначальником движения «хиппи». (Не спешите снисходительно улыбаться!) Он, так же, как и поколение семидесятых, которое и влюбилось в творчество Грина, сумел оставаться в одиночестве, среди толпы. На этакой дискотеке (или как там она сейчас называется), среди которой «танцевали» его современники: Есенин, Маяковский (который, кстати, его раскритиковал), Бунин, Волошин, Белый, Горький.
Танцевали на дискотеке приходящего века, который, ой как даст перцу его несчастливым жителям.
Кстати, Горькому – честь и хвала! Хотя и в начале Максим увидел в Грине соперника в жанре романтизма. Размазал даже «Алые паруса» в письмах с Капри. Потом врубился! Грин – не от мира сего!!! Почти так и выразился в своей рецензии позже.
Грин проявился для нас, как проявлялось когда-то изображение на фотобумаге под красным светом фонаря. После войны за него вступился всесильный В. Катаев. Потом заговорили политически разумные писатели. А потом уже даже разрешили фильм, где были такие прекрасные молодые семнадцатилетняя Вертинская и совсем ещё наивный Вася Лановой.
ГРИНЛАНДИЯ – это не только страна каждого из нас. Это ещё и образ мышления. Может быть, это то, что называют – «наедине со всеми». Может быть, это тот романтизм, которого нам так не хватает в нашей суетливой и хлопотной жизни. А может, это тоска по лесу, реке, домику, где можно остаться одному, даже, если приедешь в эту страну не один.
Самое лучшее вино или коньяк определяются не химическими или литературными анализами. Всё определяется временем. А его лучше не терять на пустяки. Попробуйте только с этим не согласиться!
Сергей КАЩЕЕВ
Фото: "Коммерсант"
Цветы нашей жизни

Максим Горький был абсолютно не прав. Ну, сами посудите: «Дети – цветы жизни!» Он вообще не очень-то дружил с метафорой и здесь совсем явно прокололся. Дети – это, скорее, «рассада», «бутоны», «поросль», да всё что угодно, но только не уже расцвётшее растение, облепленное пчёлами. Цветы – это, конечно же, женщины. Приглядевшись к окружающим, можно точно и безошибочно угадать в каждой из них определённый цветок.
И тут необязательно юную, хрупкую, неокрепшую девушку, раньше всех, ещё не по сезону, надевшую короткую школьную юбку, сравнивать с подснежником. Или разглядеть в долговязой мамаше, поздновато всё же вышедшей замуж по причине отпугивающего мужчин роста, осенний гладиолус, чьи остроконечные стебли так привычно подчёркивают малый рост идущих 1 сентября в школу первоклассников. Это, так сказать, поверхностное восприятие. Женщины, они по природе своей – притворщицы.
И все ухищрения в косметике, нарядах, причёсках, капризах – это только жалкие попытки скрыть истинную сущность. Им всё время хочется выдавать себя за другие цветы. За те, которые, судя по телесериалам и жизненному опыту, привлекают больше пчёл, а иногда и жирных шмелей. А на то, что ты есть на самом деле, слетаются одни мотыльки и какие-то неконкретные букашки!
Есть, конечно, и мужские цветы. Например, юные наивные голубоглазые васильки, которых женщинам всегда жалко, но… бесперспективно. Есть малопонятные деревенские дикоросы. Ухоженные, будто пластмассовые, себялюбивые ландыши. Есть романтичные эдельвейсы, есть репейники, откровенные лопухи, любвеобильные нацмены – цикламены, огородные луковые и чесночные стрелки (ударение по вашему выбору), крепкие и надёжные (но!) эгоисты-кактусы, легкомысленные одуванчики, просто калы (извините). Есть даже цветы-петушки. Но мы сегодня о других клумбах.
Были! Были в жизни мужчин разные цветы! Навсегда останется в памяти невинность и чистота первой любви с одноклассницей-незабудкой. Были непонятные пионерские взаимоотношения с активистками-гвоздиками. Была, конечно же, в юности… примула. Сиживали у костра со случайной компанией щебечущих и, хоть и разноцветных, но всё равно похожих друг на друга астр. Укалывались о шипы сильно надушенных роз. Заглядывались в анютины глазки. Увлекались блондинками-хризантемами. Маялись над загадочностью фиалок. Были и … ромашки,… не то что как-то неловко вспоминать, но… ведь обрывали лепестки только для того, чтобы узнать: любит она или не любит?! … Было.
Всё было. Вот так и идём… с букетом памяти по жизни. Всё ещё надеясь, что, может быть, навстречу с тем цветком, который понесёшь потом в руках. Единственный, через всю жизнь.
Сергей КАЩЕЕВ
Как же глупо… всё это получилось!

Потом будут разбирать мою смерть в каких-нибудь методичках спасателей и туристов, и в них так и будет написано: «В результате необдуманных, глупых действий неопытных самодеятельных спелеологов». Глупо! Самонадеянно и по-пацаничьи нелепо. Умереть от истощения в пятидесяти метрах от поверхности земли, где возле костра на зелёной траве резвятся твои дети, колдует над шашлыком твой друг, наслаждается южным теплом февральского «окна» на юге твоя любимая жена. Не дожил, не допел, недолюбил, недописал.
Пещеру мы обнаружили вместе с экскаваторщиком Арменом и приехавшим вместе с нами в карьер водилой грузовика Михеем. Какой-то левый нелегальный карьер на отрогах хребта на выезде из Новомихайловского в сторону Туапсе. Хребет начинался прямо от моря, и на его побережье когда-то, ещё древними греками, была построена крепость Никопсия. А заканчивался как раз в распадке реки Ничепсуго, куда мы приехали за породой – наполнителем для чаши фундамента на строительстве лагеря «Олимпийский» во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок». Тогда, правда, он ещё был «Всероссийским Детским Лагерем». Просто землёй заполнять подушку фундамента инженеры-строители не разрешили. Нужна была другая порода. Хотя бы мергель. Вот мы и приехали в этот несанкционированный карьер. Пещера открылась ковшом экскаватора. Легенды о том, что древние греки имели из своей крепости подземный ход в глубине хребта, в Новомихайловке не знали только новорождённые. И вот нашёлся этого легендарного хода выход!
Вот так я и подумал. Попросил Армена чуть сместить свой экскаватор, чтоб не закопать вход. Что он и сделал со своим спокойным армянским безразличием. Я забросал вход ветками, чтоб никто не догадался, и на следующий день был уже там. У входа.
Была суббота, выходной. Решили совместить приятное с приключением. Пришли утром к пещере вшестером. Новый друг из местных, Гена Бобринёв, сосед по общежитию, скалолаз Виктор и я с семьёй. Валя и дети. Женька и Сашка Кащеевы. Ещё «дошкольники». Пришли с замаринованным мясом в кастрюльке, шампурами, красным вином для популярного тогда грога.
Я облачился в штормовку, Виктор опытной рукой сделал мне обвязку на груди из стометровой бухты своего репшнура, и я вступил в пещеру Алладина. Впрочем «вступил» в глубину пещеры я только первые три метра. А дальше пришлось ползти. Лаз был вполне проходимый. Несырой, но хрупкий. Слоистый мергель сыпался иногда мне за шиворот. Пещера с уходом в глубину стала твердеть. Метрах в сорока в глубине я уже полз не на корячках, а по-пластунски, освещая себе дорогу налобным фонариком. Тут бы мне и остановиться. Но впереди маячила манящая тайна, и я пополз дальше. А ползти уже пришлось совсем в тесноте. У спелеологов это называется «шкуродёр».
Всё же в какой-то момент я себя заставил остановиться. Попятился назад. Но получилось это сделать не более чем на полметра. Края штормовки задрались и закупорили меня в бутылочном горлышке намертво. Вытянутые вперёд руки развернуть в сторону тела уже было невозможно. Я запаниковал и стал задыхаться от бешеного сердцебиения. Отчаянно побившись, как будто в плохом сне, который можно прервать, если сознательно заставишь себя проснуться, я затих.
Всё! Как же глупо всё это получилось!
Заставил себя успокоиться. Бьющееся сердце эхом уходило в глубь пещеры. Не знаю, сколько вот так пролежал. По дёрганью верёвки с «большой земли» догадался, что ребята стали волноваться. Кричать им было бесполезно. Я чуть слышал позади какие-то бубнящие крики. И потягивание репшнура. Чтобы их успокоить, методом червяка (вытягиваешься максимально вперёд, потом подтягиваешь всё оставшееся позади тело), пролез вперёд полметра. Наверху успокоились.
Внимательно осмотрел лаз впереди. Метрах в десяти от меня торчал с потолка какой-то каменный «зуб». Чтобы остановить сердцебиение, стал размышлять. Выкопать меня спасателям экскаваторами нереально. Надо мной огромная гора. Больше двух экскаваторов по бокам пещеры не поставить. Сверху побоятся придавить. На это уйдёт дней пятнадцать. Я без воды и еды. По длине репшнура, впрочем, можно определить моё подземное месторасположение. Но это только для надгробного памятника. Как глупо!
Ребята снова стали подёргивать репшнур. Попробовал снова назад – штормовка предательски задралась. Нет назад ходу, значит, нужно лезть вперёд. И я полез дальше. Точнее «потёк». Долез до «зуба». И стал его вытянутыми руками расшатывать. «Зуб» стоял мёртво. Тогда я стал его расковыривать по бокам. Осыпавшуюся при этом породу стал толкать вперёд. И, о чудо, «зуб» зашатался! Часов у меня не было. Сколько времени ушло на выковыривание куска породы, я не знаю. По подёргиванию репшнура я догадывался, что ребята наверху уже паникуют. Наконец «зуб» вывалился, освободив сверху выемку размером с футбольный мяч.
Как уж я умудрился поочерёдно впихивать в него кусочки своего тела, это только могут рассказать анатомы и мастера сборки кубика «Рубика». Моё «сложение-разложение» было уникальным. Это легко понять, если знать, что во время этого процесса я умудрился поцеловать собственную задницу. Провернувшейся рукой в сторону выхода, первое, что я сделал, это дёрнул за реп два раза, что у нас означало «Всё в порядке». Истерики наверху прекратились. Разворот продолжался ещё долго. Иногда приходилось выскабливать из мергеля сантиметры, то для непроходящего краюшка локтя, то коленки. Когда в очередной раз наверху запаниковали, я подтянул реп на себя на несколько метров. Мол, ползу дальше.
Вылез я из своей могилы уже днём. Опустошённый. Разбитый. Объяснил ребятам в пару слов свою глупость. Говорить ничего не хотелось. Они поняли и не приставали. Светило солнце. Было необыкновенно тепло. Дети бегали по травке. Валя бросилась подогревать уже давно остывший шашлык и грог. Горячее вино с «гвоздикой и с малиновым вареньем» было просто восхитительное!
Как прекрасен этот мир!
Не было меня в нём, как оказалось, всего-то четыре с половиной часа. Но это по земному времени. На самом деле я был там несколько лет.
Как глупо всё это могло закончиться!
Сергей КАЩЕЕВ
Изведу!

Давным-давно, в незапамятных девяностых годах прошлого века, во времена смутные и тревожные, в большом южном городе произошла одна невероятная история.
В городских хрониках тех лет упоминается, что город по чьей-то жалобе посетил большой московский начальник, потом по телевизору ругал местного главу за то, что буквально в трёх шагах от администрации расположен квартал с запущенным кладбищем, замаскированный с проезжих улиц жилой застройкой убогих хат станичного вида с курятниками и садами-огородами чуть ли не на погосте. Следом набежали всякие комиссии, установили, что действительно обнаружено заброшенное эмигрировавшими инородцами кладбище и имеет место форменное безобразие с самозахватом земли – хотя домишки и зарегистрированы за своими хозяевами, но участки под сады-огороды никто никому никогда не выделял.
В газетах под шумок расписали, что среди могил будто бы иногда курсирует хорошо откормленный молодой кабанчик, да, этого факта объективная комиссия не подтвердила, справедливо посчитав информацию газетной уткой. Но, как известно, дыма без огня не бывает – сплошь и рядом на задах подворий впритык к погосту были налеплены курятники со всамделишными утками и курами, а ещё у одной старушки была обнаружена коза, время от времени действительно устраивающая сама себе выпасы в зарослях кладбища. С населением комиссия провела профилактическую беседу о соблюдении санитарных правил и надлежащем содержании домашних животных, аномалию с нарушением цивилизованного облика города было решено устранить – хаты с курятниками снести, людей переселить в нормальные квартиры, а также оформить необходимые документы на перенос кладбища за пределы города.
Жил да был в том самом месте одинокий пенсионер, звали его все Михалычем. Жил-поживал он в своём маленьком домике, построенном ещё в девятнадцатом веке. Домик свой Михалыч по-станичному называл «хатой», она была ещё крепкой, но требующей капитального ремонта, ну или хотя бы косметического. Половиной хаты Михалыч вообще не пользовался и туда лет пятнадцать даже не заходил, там только сквозняки гуляли по пустым комнатам. А жил он в основном на кухне, да ещё в одной большой комнате, которая ему служила «спальней, залой, кабинетом». Все остальные комнаты с мебелью постепенно приходили в разрушение.
Позади хаты располагался приличный земельный участочек, хотя и заросший бурьяном, старыми деревьями и одичавшим кустарником. В конце участка за полуразвалившимся деревянным забором пребывало в полном запустении то самое маленькое старинное кладбище, где уже полвека никого не хоронили, людей посторонних там не ходило, только по ночам псы бродячие взвывали от голода да вороны орали и носились тучами над сухими деревьями и заброшенными могилками.
Жил Михалыч одиноко, жена давным-давно померла, дети разъехались бесследно, и одна радость была – выпить вечерком бутылочку и мысли поразмышлять. Нет, сильно он не пил, под заборами, как говорится, не валялся, не дебоширил, просто выпивал поболе медицинской нормы, никого своим поведением не беспокоя, кроме собственной печени. И вообще, человек он был незлобливый и неглупый, просто однажды потерялся в каких-то лабиринтах житейских неурядиц, а выбраться не смог. Или не захотел.
Как-то осенью начали к Михалычу захаживать очень приятные молодые ребята, крепкие такие, бритые, в кожаных курточках, общительные. Они всегда приносили с собой выпить и закусить богато. Ну, нравился им Михалыч и рассказы его многочисленные о долгой жизни, о семье, о родне и знакомых. И выпить приносили они всё больше и больше, а употреблять уговаривали Михалыча посолиднее, чтоб их, значит, не обижать.
И вот раз, в то время, когда Михалыч спал ночью тяжёлым сном после очередного обильного застолья, почувствовал он во сне удушье… Будто навалилось что-то огромное, тяжёлое на грудь и душит его, душит, и запах такой мерзкий стоит, будто рядом смесь гнилой рыбы и мокрой вонючей шерсти… Проснулся Михалыч в ужасе, заорал, вскочил… А потом засмеялся… Кот, оказывается, бродячий залез в разбитое окно и на грудь Михалычу улёгся, чтоб согреться. Здоровый такой котяра, шерсть могучая, бурая какая-то, с блеском, глаза злые, пронзительные, прямо тебе натурально дикий зверь, а не бездомный кот. Пожалел Михалыч бродягу. Другой бы на его месте в хвостатого запустил сапогом или ещё чем похуже, а Михалыч, наоборот, позвал кота «кис-кис» и поплёлся в холодильник поглядеть, что там завалялось и чем с гостем поделиться можно. В общем, остался котяра разделять с Михалычем его неразнообразный быт да скудный стол. Хотя стол последнее время, чего Бога гневить, стал куда богаче благодаря новым симпатичным знакомым, не скупившимся на водочку и закуски заморские, которые до этого видал Михалыч только в новомодной рекламе по телевизору, когда тот ещё работал.
Нельзя сказать, что Михалыч не задумывался порой, отчего такие молодые да видные люди с ним компанию водят. И напрямую спросил как-то. Тот, что постарше, с небольшим шрамом под глазом, сразу пояснил, что жёны у них троих дюже лютые, не дают им дома выпить-погулять, а оставлять денежки в кабаках-ресторанах неохота – на те же деньги, что в ресторане приходится за разок погулять, веселиться неделю можно. Вот они и пользуются его, Михалычевым, гостеприимством, к обоюдному удовольствию и веселию. Объяснение это вполне устроило Михалыча, и больше глупых вопросов добрым молодцам он не задавал. А вот кот гостей невзлюбил. Как только они на порог – исчезал лохматый, будто его ветром сносило. Но, когда уходила компания в ночь, появлялся, словно призрак, ложился рядом с пьяным Михалычем на тумбочку у кровати и гипнотизировал злыми прищуренными глазами, при этом он громко рокотал, даже не поймёшь, то ли мурчит, то ли рык издает звериный. Как-то так потихонечку пить с новыми знакомцами Михалыч стал больше и больше, ночевать они оставались всё чаще, а с утра похмелиться протягивали, да так напористо и по-доброму, что к обеду Михалыч уже спал мертвецким сном, чего ранее с ним никогда не водилось – не пил с утра он, правило было такое. Но… было да сплыло, с такой-то замечательной душевной компанией…
И вот однажды, поздним зимним вечером, проснулся Михалыч и обомлел: он совсем ничего не помнит… Ни какой сегодня день, ни вообще, сколько дней подряд прошло со дня последнего просветления рассудка. То ли три, то ли пять… Оглядел он с прискорбием окружающий его бардак, кучу объедков, грязной посуды, поискал среди пустых бутылок остатки, чтоб мозги прояснить, только отхлебнул, а на пороге его новые знакомые появились. Но на сей раз не было на их лицах улыбок, в руках пакетов с едой и выпивкой, а глаза у них были какие-то… недобрые. Тут и узнал Михалыч, что буквально вчера, а точнее 13-го января, продал он свой дом с участком этим новым знакомым самым что ни на есть законным образом. И будет теперь дом снесён, а на его месте воздвигнут элитный салон нижнего белья, который украсит деловую жизнь всего города. А потому прямо сейчас следует ему, Михалычу, собрать свои пожитки и валить отсель, пока неприятностей всяких дальнейших себе не нажил… И благодарить их, добрых молодцев, до скончания века, что они решили вопрос мирно, без человекоубийства, а то ведь могли бы его просто-напросто придушить! Но люди они порядочные и богобоязненные, да и святки сейчас, к тому же…
Понял, сразу понял Михалыч всю горькую истину, что это были за добры молодцы, что за посиделки устраивали, зачем эти братки его кормили-поили, ублажали беседами всё это время… Не успел Михалыч ужаснуться от осознания происшедшего, как вдруг заметил, что лицо одного из добрых молодцев испуганно вытянулось, глаза округлились, он вытянул вперёд дрожащую руку с огромным золотым перстнем на указательном пальце и дико вопросил Михалыча: «Что… Что ЭТО??? Что ЭТО такое?..» А другой браток вскрикнул перепуганно… Оглянулся Михалыч за спину – туда, куда в ужасе глядели его «гости» – и ничего такого особенного не увидел… Из коридора вошёл в комнату его кот… Михалыч удивился: они что, совсем рехнулись, это же просто его кот!.. Но тут Михалыч прищурился (а надо сказать, что зрение у него не очень было, да и возлияния последних месяцев на чёткость зрения не влияли положительно) и обомлел…
А НИКАКОЙ ЭТО БЫЛ ВОВСЕ НЕ КОТ!!! Тело вроде кошачье, ушки кошачьи, глаза тоже, а вот пасть вовсе и не пасть, а настоящий человеческий рот с губами… Да и размерчик у кота явно стал поболе, чем был… Зашевелились эти губы и ощерились… А во рту зубы, огромные, жёлтые, но почти человеческие!!! Как заорали все в голос – и «добры молодцы», и сам Михалыч – и к двери ломанулись! Да не тут-то было, дверь – бабах!.. и захлопнулась, как от внезапного порыва ветра! Начали добры молодцы в дверь эту биться, но дверь старинная, добротная, её плечом, как современную фанерку, не выбьешь! А «кот» тем временем начал надуваться словно шар, башку пригнул угрожающе, лапы вперёд вытянул, только они вовсе не кошачьи оказались – ручки маленькие, совсем как человечьи, токмо все в волосах... И такая тут страшная вонь пошла по дому, будто грузовик дохлой полуразложившейся рыбы в одно мгновение в комнате выгрузили… И как одолела всех рвота надрывная от этой вонищи, казалось, кишки сейчас горлом выйдут, катаются все они по полу в конвульсиях, кричат, стонут...
А тут зарычал «кот» страшным, утробным басом, раззявив свой похожий на человеческий рот с чёрным блестящим языком. И явственно все услышали в этом рыке хриплое утробное слово: «ИЗ-ВЕ-ДУ! ИЗВЕДУ!! ИЗВЕДУУУУУУ!!!» И начало чудище медленно приближаться с рычанием, с каждым шагом раздуваясь всё больше и больше… Тут дверь сама по себе раскрылась, и уползли на карачках злодеи прочь с такой скоростью, какой Михалыч никогда не видел… Только задницы, обтянутые модными джинсами, в свете полной луны сверкнули. И бумажки свои с подписями и нотариальными печатями о покупке дома побросали…
Лежит Михалыч на полу, крестится отчаянно, хотя никогда не веровал ни во что такое... А чудище нечистое подошло к нему, наклонилось своей вонючей пастью и прохрипело с подвыванием, заглядывая прямо в глаза: «Я тут сто лет живу-у-у… И ещё сто проживуу-у… И жильё своё снести никому не позволю и тебя в обиду не да-а-ам-м! А ты больше ПИТЬ НЕ СМЕЙ!!! А не то-о-о… – страшная пасть приблизилась к его, Михалычеву, лицу совсем близко, затряслась жутко и оглушающе взревела – ИЗВЕДУ-У-У-У!!!»
Двадцать лет уже прошло с тех пор, Михалыч и по сей день живёт в своей старой хате, и кладбище стоит на своём месте, и всё вокруг в их квартале по-прежнему, разве что нет уж бабульки с её козой, да курятники изничтожены... Согласование всяких разрешений по переносу могил в другое место, понятное дело, долгая песня, но уж слишком долгой она оказалась... Многие теряются в догадках, почему, а Михалыч точно знает. Да никому про то не распространяется…
Сегодня все шумно отмечают старый Говый год. На центральной городской площади запускают красочные фейерверки, ярко освещающие их квартальчик с заброшенным кладбищем, а также вплотную подступающие к нему новостройки торгово-развлекательных центров... Совершенно трезвый Михалыч спокойно рассматривает из окна родную улицу, удовлетворённо прислушивается к шумному гулянью соседской молодёжи за окнами – живут здесь наши сто лет и ещё сто лет жить будут! Потом радостно оглядывает свою старую, но отремонтированную и ухоженную хату, праздничный стол с подарками для внуков…
Вдруг ему показалось, что скрипнула половица. Насторожился Михалыч, встрепенулся, опасливо покосился в угол комнаты, где на полу только что поставил блюдо, щедро наполненное праздничными угощениями... А потом улыбнулся, прищурился и хмыкнул: «Знаю, знаю… Жить надо как должно, а не то… ИЗВЕДУ!»
Ольга НЕПОДОБА
Сведения об авторе
Ольга Вадимовна Неподоба является членом Союза российских писателей с 2004 года. Проза Ольги впервые была опубликована в 1988 году в молодёжном выпуске альманаха «Кубань» под псевдонимом Ольга Миклован.
Стихи и проза автора печатались в сборниках «Благослови», «Барды Кубани», в антологии краснодарской поэзии «Рубежники», в бумажных и интернет-журналах и альманахах «Глагол Кавказа», «Родная Кубань», «Молодая гвардия», «Камертон», «45-я параллель», «Новый Карфаген», «Литературная губерния» и некоторых других.
Первая повесть «Периметр зверя» издана в г. Краснодаре в 1998 г., затем были изданы небольшие сборники стихов «Перевал оставшихся дома», «Зимний марш», «Спящий поток», сборник рассказов «Душа января». После публикации сборника стихов «Зимний марш» в 2004 году стала лауреатом краевой молодёжной премии имени Николая Островского, учреждённой в связи с его столетием.
С 2015 по 2022 годы при финансовой поддержке Министерства культуры РФ изданы две повести «Баллада о горизонте», «День божьих коровок», а также сборник рассказов «В ночь, в пургу и без оглядки».
Основное направление творчества – описание пешеходных туристических путешествий по Северному Кавказу. Проживает в г. Краснодаре, поэтому не только туристы, но и жители этого южного города также являются персонажами её произведений. Много внимания автор уделяет связи человека, природы и животного мира, формированию силы духа и воли к жизни героев своих произведений.
В настоящее время автор работает над новыми рассказами из современной жизни.
«За здоровье наших замечательных детей!»
Новогодние байки. Быль (только для взрослых)

…Работал в одном замечательном театре кукол на Урале. Директор-сволочь умудрился заделать детскую ёлку 1 января в 8 утра! Молчу про артистов, – на родителей-то жалко было смотреть! В основном почему-то папы, зелёные все, к холодным мраморным стенкам в фойе затылками прижались и смотрят на детей, как на гестаповцев.
«Дед Мороз», мучаясь тошнотой, сидит под ёлкой возле уже умершего баяниста и старается не шевелиться. У Снегурочки лицо цвета костюма, оскал вместо улыбки нарисован помадой. За всех отдувается «Весёлый клоун», в которого переодета артистка Верочка, умудрившаяся в новогоднюю ночь часок прикорнуть, и поэтому злая и громкая. Говорит в радиомикрофон, и усиленный звук сильно резонирует в головах взрослых, вызывая фонирование микрофона.
Всем взрослым жалко Деда Мороза, которого всю ёлку достаёт выспавшийся «Весёлый клоун». После безуспешной попытки Верочки заставить Деда Мороза сыграть с детьми в «Заморожу», инквизитор сдался и предложил детям загадать Деду Морозу загадки (мол, пусть хоть сидя поработает, алкаш!).
Дети потянули вверх ручки. Верочка выбрала ребёнка поменьше и поднесла ему микрофон. Дитя испугалось, но загадку произнесло: «У какого молодца часто капает с конца?!». Родители ребёнка зарделись румянцем, но находчивый Дед Мороз сказал, что это, видимо, его посох, а совсем не самовар. Папы хором хмыкнули.
Следующий ребёнок, влекомый неизведанным ходом детской мысли, задаёт загадку: «Чтобы спереди погладить, надо сзади полизать». Дед Мороз испугался и задумался. Баянист вдруг ожил, громко хихикнул и выдал гармошкой семиоктавный аккордный выдох. Родители засморкались и закашлялись. Весёлый клоун злорадно заверещал над глупостью старика Деда Мороза. Тот выпутался дежурным ответом, что, видимо, «это ботинок!». Дети весело засмеялись над наивным Морозом и дружно сообщили, что это почтовая марка. Снегурочка неожиданно для зрителей вызывающе громко выдохнула скопившийся в лёгких спёртый воздух, невесть до чего додумавшись в процессе поиска ответа.
Следующую загадку насторожившаяся Верочка позволила загадывать уже самой маленькой крохе-снежинке. Та вышла чуть-чуть вперёд, встала в позу сосульки и громко, с выражением, чуть картавя, загадала: «Без рук, без ног, на бабу скок!»
Воцарившуюся тишину нарушила остолбеневшая Верочка, которая, забыв о микрофоне, тихо, на весь театр, предположила: «Инвалид, что ли?»
Баянист, выдав губами какой-то узбекский звук, умер и упал со стула под ёлку. Рядом, после трёхсекундной паузы пристроился Дед Мороз. Папы поползли по стенкам к прохладе цементного пола. Снегурочка как-то страшно, во всю мощь, захохотала и рванула за кулисы, где её истерический вой утонул в гулких коридорах. «Весёлый клоун», оглядев поле боя, усеянное валяющимися телами взрослых, наконец, сдалась, переломилась пополам, упала на корточки и мужественно поползла в сторону убежавшей Снегурочки.
Всех выручила какая-то захлёбывающаяся слезами и соплями мамаша, сумевшая построить недоумённых детей в паровозик и запустить его в зрительный зал. Спектакль начался после непредусмотренного сценарием перерыва. Разгадку нашли недели через две: коромысло.
За верность профессии!
Работал у нас в театре актёр с фамилией Небаба. Все почтительно называли его Палычем. Возраст ему был на подходе к пенсии. Коллеги помоложе уже ходили в «заслуженных», а ему всё как-то не получалось. Может потому, что все всё делали как надо, а он – как можно сделать лучше. Импровизировал прямо на спектакле, на репетициях доставал режиссёров своими предложениями, лез ко всем с советами. Ну и алкоголем к тому же профессионально злоупотреблял. Чаще всего он это делал в компании одного журналиста-ветерана Гриши. Своего ровесника. Получилось так, что какая-то политическая волна выплеснула ветерана прямо на крыльцо горкома, и Гриша вдруг стал пресс-секретарем нового 1-ого секретаря.
Всё это как раз случилось накануне Нового года. Гриша не забывал друга, и в один из вечеров в театральном буфете у Палыча появился шанс уйти со сцены с гордо поднятой головой. Журналист, отвечая в своей конторе за организацию корпоративной вечеринки, вспомнил о старом друге и предложил ему стать Дедом Морозом. «И чтобы так всё было, чтоб все лопнули от веселья и оригинальности! А я потом своему шефу нашепчу, мол, та-акой артист (!) и до сих пор без звания!» – стратегически наставил друга Гриша.
Небаба мучился обуревавшими его идеями даже во время спектаклей. Игры и конкурсы отработаны были уже не одним десятилетием практики, а вот «гвоздя» найти не удавалось долго. Наконец в гримерке кто-то из коллег сказал ему, что «запоминается только – как войдёшь! Остальное, в головах празднующих, пожирает алкоголь». Палыч сконцентрировался и вспомнил о школьном приятеле, перебивающемся сторожем в зоосаде. На переговорах с ним об аренде всеобщей любимицы местной детворы мартышке Киззи, в которой будущий Дед Мороз увидел потенциальную Снегурочку, Палыч получил решительный отказ. После третьей, наиболее убедительной, бутылки «Вермута» сторож согласился дать осла Мустафу, по выходным катающего на коляске детей по парку.
К администрации Небаба привёз ослика на грузовом УАЗике часа за три до начала празднования. Договорился с заведующей прилегающего ресторана и оставил ослика во внутреннем дворе точки общепита городского Белого дома.
Время приближалось к триумфу быстро, тем более что провёл его Дед Мороз в законспирированной компании охранников администрации. Закусывали хамсой.
За полчаса до выхода Палыч пошёл переодеваться. В ресторане уже вовсю звучала музыка, и бубнили микрофонные заздравные. Снегурочкой была назначена уже давно ещё не замужняя Люся из Отдела писем. Напряжённый Небаба с неудовольствием отметил, что Люся явно не трезва, и бородой это дело не прикроешь. Строго-настрого приказав Люсе «рта не раскрывать вообще и ходить только улыбаться, как дура», пошёл готовить ослика. Тот стоял покорно во дворике и дремал. Дед Мороз вплёл Мустафе в гриву и в хвост яркие ленты и шарики и повёл его к центральному ходу (заведующая через кухню не пустила).
На лестнице на второй этаж Палыч чуть сильно не испугался: ослик отказывался подниматься, а время поджимало. Выручила непутёвая снегурочка Люся – толкала Мустафу сзади так, что тот только передние ноги переставлял. Успели. Только Дед Мороз взгромоздился верхом на ослика, как ветеран журналистики Гриша заголосил в микрофон призывы явиться Деду Морозу. Гуляющие ответственные работники подхватили. Въехал Палыч в сверкающий ресторан с давно забытым чувством триумфа! Стоящие возле ёлки в хороводе отцы и матери города разразились овациями, не дожидаясь конца спектакля.
Небаба въехал в круг победителем ещё не начавшегося сражения! Одного только не мог знать Дед Мороз – сердобольные поварихи ресторана так умилились осликом, что все три часа по очереди кормили его лакомствами. После чего Мустафа уже без спросу приложился к бадье с помоями и съел всё без остатка. Это был самый счастливый день в его несытой жизни!
Ослик поскользнулся на лакированном паркете, но, удерживаемый наездником, не упал сразу же, а сделал немыслимый, в стиле танцоров брэйк-данса, круг. При этом невероятно мощной струей из-под хвоста опорожнился на участников хоровода. После чего облегчённо упал.
Исчезли синие и фиолетовые цвета мужских галстуков, исчез белый цвет женских блузок и мужских сорочек, исчезли даже разноцветные цвета намотанных на шеи и шейки конфетти. Всё превратилось в одинаковый цвет пустыни. Но особенно стал совершенно не заметен запах: дефицитных французских духов, парафина, салата оливье, копчёной колбасы. Запах тоже стал одинаковым. Как и выражение лиц ответственных работников.
Из шоковой паузы все вышли одновременно. Круг стремительно распался вытираться, оставив посередине зала одинокого Небабу и развалившегося Мустафу. Сияющий чистотой Дед Мороз напоминал бойца первой конной с убитым верным конём возле ног.
Наконец, Палыч очнулся, сорвал бороду и побежал вытирать ей лицо какой-то рыдающей бабе. Та неформально послала его уйти. Слово в слово просьбу повторили все, кому Палыч попытался помочь. Стерпел только один незнакомец. Но когда Небаба вытер лицо остолбеневшего пострадавшего, то узнал в нём журналиста Гришу, который разомкнул уста и тихо повторил слово в слово фразу, услышанную Палычем до этого.
«Понял!» – также тихо козырнул Небаба и попытался шмыгнуть в проход, но был пойман твёрдой рукой приятеля-журналиста. «Осла не забудь, козёл», – твёрдо подсказал Гриша.
Осёл вставать отказался категорически, и Дед Мороз-расстрига был вынужден потащить его по паркету за копыто. На лестнице слегка озверевший Палыч решил ослу отомстить и, не тормозя, спустить его до первого этажа. Лучше бы он этого не делал! Уже в самом начале лестницы Мустафа стал обгонять всадника и сбил его с ног. Получившаяся куча мала остановилась только на лестничной площадке. Потревоженный спуском желудок Мустафы сделал заключительный акт расставания с ресторанными угощениями. Ослеплённый ими Палыч попытался встать, но поскользнулся всё на том же самом и вместе с осликом заскользил на первый этаж. Так они и въехали к ногам охранников: невменяемо грязный Дед Мороз верхом на продолжающем облегчаться ослике.
Не стану рассказывать, как вёл Палыч Мустафу через весь город в зоосад. Пропущу даже то, что ему тоже пешком пришлось идти домой (из двух такси потрясённые запахом водители выгнали его через несколько секунд после посадки). Расскажу последнюю правду: звание «Заслуженного» Небаба всё же получил!
На его счастье случился в городе очередной политический переворот. Буквально через месяц после Нового года. Отчасти в этом сыграл свою роль и казус на новогоднем вечере, над которым умирал весь город и даже область. К горкому у населения приклеилась обидная кличка, и области пришлось городское начальство сменить. Пришедшие на смену вспомнили о Небабе. Заслуженного артиста ему дать постеснялись, а вот «ЗАСлуженного РАботника Культуры» – дали. В народе же стали звать ласково, сокращённо – «ЗАСРАК».
Сергей КАЩЕЕВ
«Размышления о прочитанном, услышанном с пользой для ума...»

Владимир Степанович Цокур – автор недавно вышедшей в краснодарском издательстве «Диапазон-В» книги «О русском слове». Сам автор определяет жанр своего творения как «заметки, размышления о прочитанном, услышанном с пользой для ума». Владимир Цокур – полковник в отставке, боевой офицер, участник урегулирования Карабахского конфликта, заместитель председателя краевой общественной организации Памяти Маршала Георгия Константиновича Жукова, признался, что новая книга – это пособие для проведения уроков патриотического воспитания школьников, ведь патриотизм начинается не только с любви к своей Родине, но и к русскому языку, который сегодня в буквальном смысле надо спасать от засилья иностранных и бранных слов. Язык – явление живое, переменчивое, и прививать языковую культуру нужно с детства.
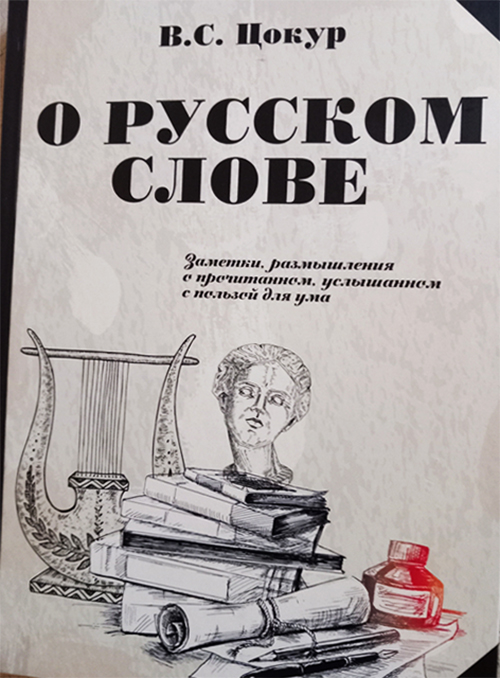
Любопытная эволюция смысла некоторых известных слов
Кретин
Если бы пять-шесть веков назад мы перенеслись в горный район французских Альп и обратились к тамошним жителям: «Привет, кретины», никто бы не обиделся. А чего обижаться – на местном диалекте слово «кретин» было вполне благопристойным и переводилось как «христианин». Так было до тех пор, пока среди альпийских кретинов не стали встречаться люди умственно отсталые, с характерным зобом на шее. Позже выяснилось, что в горной местности из-за недостатка йода в воде стала нарушаться деятельность щитовидной железы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Врачи, описывая это заболевание, решили не изобретать ничего нового и воспользовались диалектным словом «кретин», которое очень редко употреблялось. Так альпийские «христиане» стали «слабоумными».
Идиот
Греческое слово «идиот» первоначально не содержало даже намёка на психическую болезнь. В Древней Греции оно обозначало «частное лицо», «отдельный, обособленный человек». Тех, кто уклонялся от участия в общественной жизни, называли «идиотэс», т. е. занятыми своими личными узкими интересами. Естественно, сознательные граждане идиотов не уважали. Затем это слово обросло новыми пренебрежительными оттенками – «ограниченный, неразвитый, невежественный человек».
И уже у римлян латинское idiota значит только «неуч, невежда», откуда и значение «тупица».
Болван
Болванами на Руси называли каменных или деревянных языческих идолов, а также исходный материал или заготовку, будь то камень или дерево (чешское балван – «глыба» или сербохорватское «балван» – «бревно, брус»). Считается, что само слово пришло в славянские языки из тюркского.
Дурак
Очень долгое время слово «дурак» обидным не было. В документах ХV–ХVII веков оно встречается в качестве имени, и именуются так отнюдь не холопы, а люди вполне солидные, например: князь Фёдор Семёнович Дурак Кемский, московский дьяк Дурак Мишурин. А дело в том, что слово «дурак» часто использовалось в качестве второго нецерковного имени. В старые времена было принято давать ребёнку второе имя с целью обмануть злых духов.
Лох
Это весьма популярное ныне словечко «лох» два века назад было в ходу только у жителей русского Севера, и называли им не людей, а... рыбу. Многие знают, как упорно идёт к месту нереста знаменитый лосось, или сёмга. Поднимаясь против течения, она преодолевает даже крутые каменные пороги. Добравшись до места и отнерестившись, рыба теряет последние силы (как говорили, «облоховивается») и израненная сносится вниз по течению. А там её ждали рыбаки, чтобы поймать, как говорится, голыми руками.
Постепенно это слово перешло из народного языка в жаргон бродячих торговцев – офеней (отсюда и выражение «болтать по фене», то есть общаться на жаргоне). Лохом они прозвали мужика-крестьянина, приезжавшего из деревни в город, которого легко можно было обмануть.
Шваль
Русские крестьяне не всегда могли обеспечить мясом солдат французской армии, те нередко включали в свой рацион конину, в том числе и павшую. По-французски «лошадь» – cheval. Русские окрестили французских солдат словом «шваль», в смысле «отрепье».
Подлец
Это слово по происхождению польское и означало всего-навсего «простой, незнатный человек». Так, известная пьеса А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в польских театрах шла под названием «Записки подлеца». Со временем это слово стало нарицательным – «подлый человек», «подлец».
Мымра
Коми-пермяцкое слово, переводится оно как «угрюмый». В русской речи стало означать необщительного домоседа (в словаре Даля так и написано: «мымрить» – «безвылазно сидеть дома»). Постепенно мымрой стали называть просто нелюдимого, скучного, серого и угрюмого человека.
Сволочь
По-древнерусски «сволочати» то же самое, что и «сволакивать». Сволочью первоначально называли всяческий мусор, который сгребали в кучу. Это значение сохранено и у Даля: «Сволочь – всё, что сволочено или сволоклось в одно место: бурьян, трава, сор, сволочённый бороною с пашни». Со временем этим словом стали определять любую толпу, собравшуюся в одном месте. И уже потом так стали именовать всяческий презренный люд: бродяг, воришек, пьяниц и прочих асоциальных элементов.
Подонок
Слово, которое изначально существовало исключительно во множественном числе, так как подонками называли остатки жидкости, оставшейся на дне вместе с осадком.
По трактирам и кабакам частенько ходил всякий сброд, допивающий мутные остатки алкоголя за другими посетителями, и вскоре слово «подонки» перешло на них. Немалую роль сыграло и выражение «подонки общества», т. е. люди опустившиеся, находящиеся на дне.
Ублюдок
Слово «гибрид» нерусское и в народный язык вошло довольно поздно (гибриды – помеси разных видов животных). Для таких помесей придуманы были слова «ублюдок», «выродок». Со временем они стали использоваться в качестве унизительного наименования.
Наглец
Слова «наглость», «наглый» долго существовали в русском языке в значении «внезапный, стремительный, взрывчатый, запальчивый». Бытовало в Древней Руси и понятие «наглая смерть», т. е. смерть не медленная, естественная, а внезапная, насильственная.
В древних писаниях встречаются такие строки: «Реки потопят я нагло» (слово нагло означает «быстро»), «Мьчата кони нагло».
Владимир ЦОКУР
Чуткий тайновидец человеческого сердца

К 220-летию великого поэта Ф. И. Тютчева
Вчерашний вечер провела в обнимку с томиком стихов Фёдора Ивановича Тютчева. Небольшая книжечка, всего-то двести стихов, но какая же мощь, какая музыка стиха! «Тютчев – могучий поэт, – скажет о нём А. А.Фет. – Я… переписал бы все его стихотворения. Каждое из них – солнце, то есть самобытный, светящий мир...». Каждое достигло той утончённости, той «эфирной высоты», которая ранее была в мире неизвестна. Как точно сказано!
Вернувшись из Овстуга, имения, где родился поэт, надышавшись упоительным воздухом придеснейских рощ и лугов, посидев под тополем, ровесником гения, поехала в Петербург, в город, где воплощались в жизнь мечты Фёдора Ивановича. Весь день под впечатлением дивной музыки стихов.
В Питере хочется увидеть всё и сразу. Стою, слушаю лекцию под хвостом лошади памятника Фальконе, так лучше виден Зимний дворец. Любуюсь Исакиевским собором. Наконец, иду по Невскому проспекту. И угораздило же меня приехать в город Петра в такую погоду! Порывы ледяного ветра с Невы пронзают стрелами, стылые деревья безжизненны. А ведь уже конец апреля, и весна должна быть рядом, должна пробиваться сквозь сильнейший городской шум, сквозь непогоду. Должна, но… Плотнее завязываю шарф – продувает. Какое там пение птиц!? Одни вороны, нет, грачи сидят на гривах львов, каркают, возвещают всему Невскому проспекту о своём присутствии. Вглядываюсь в кричащую птицу. Чёрная, некрасивая. Ну, никакой радости. Неуютно. А грач подскочил, глядя на меня, захлопал крыльями, вытянулся вперед и ещё раз громко, осуждающе каркнул, будто обозвал или что-то сказал.
И вдруг меня осенило: это же гонцы Весны, это же мне кричат! А я не слышу. Как я могла забыть знаменитые тютчевские строки, в которых гонцы весны кричат во все концы: «Весна идёт!» Только он в такой непогоде мог услышать божественные шаги Весны.
Остановилась, прислушалась, затаила дыхание… Конечно, идёт! Несмотря ни на что, идёт, потрескивает, пощёлкивает, мощной поступью взламывает лёд на реке. Где-то на юге уж точно слышно, как «воды уж весной шумят», «бегут, и блещут, и гласят» о том, что «весна идёт!» Прочь хандру, прочь тоску!
Скоро всё оживёт, скоро будет тепло, раз грачи в городе раскричались. И бурлят, звенят, льются из души восторженные строки поэта, соединяясь с бушующей мелодией романса Рахманинова. И радостно дышится даже среди серых каменных сооружений Петербурга. Хочу ощутить «переизбыток» весенней жизни, услышать «мощную поступь весны». Хочу увидеть места, где когда-то жил великий поэт, философ и дипломат.
Иду, разглядываю фасады зданий, витрины магазинов. Шум, гул машин, людской поток… Все торопятся. Люди так заняты собой и делами, что забывают жить. Остановитесь, оглянитесь! Когда-то, почти 200 лет назад, по этой улице спешил на службу Достоевский, прогуливался А. С. Пушкин с Чаадаевым, шествовал, играя тростью, Карамзин. А там, вдали, видна группа офицеров. Неужели это члены тайного «Северного общества»?! Смелые, отважные рыцари свободы! Здесь гулял и Ф. И. Тютчев.
Подхожу к фасаду здания дома Лопатина. На стене – мемориальная доска поэту, где он жил с семьёй. Недолго. Снимал комнаты. Своего дома у статского советника, в наше время – генерала, не было, а свой красивый мундир он надевал по праздникам. Знаю: ему за шестьдесят, он часто болеет, прогулки обязательны, каждый день и в любую погоду. Так предписано врачом.
Вдруг вижу: открывается тяжёлая входная дверь и – вот он, сам поэт, худощавый, невысокого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно падающими на высокий красивый лоб. «На всём… его облике... печать изящного вкуса, многосторонней образованности, ума, ...игривой иронии... и при всём том что-то скромное, нежное, смиренно-человеческое, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жестокости, суетливости, щегольства: ничего напоказ, ничего для виду...»
Дыхание перехватило. Стою, двинуться не могу. Неужели сам Фёдор Иванович!?
Идёт, опираясь на трость, в накинутом на спину пледом. Отчего же этот несуразный вид, эти опущенные плечи?
Он мёрзнет в стылом Петербурге, страдает от одиночества, бессонницы или от того, что не может «восстановить цепь времён»?
Кажется, он несчастен. Сейчас вот обернётся и скажет мне: «Было бы глупым притворством ... скрывать моё глубокое, полное уныние. Может быть, и не всё потеряно, но всё изгажено, перепорчено, подорвано в своей силе надолго».
Отведёт печальный взгляд и добавит как бы про себя:
– Разум подавленный, как ты мстишь за себя!
Смотрю во все глаза и ничего не пойму! Почему подавленный? Кем? Трудно представить, что разум Тютчева кто-то в состоянии подавить. Это же оракул своего времени! Один из образованнейших людей не только в России, но и в Европе! У него гениальные задатки поэта, мыслителя, философа, умение предвидеть и предсказать событие. Он сам влиял на умы и мнения высшего света и царя, на политику своего государства. Один хотел уберечь целую страну от бед! Не получилось. Может, мешали эти «постоянные развлечения праздного человека, в которого Господь случайно закинул поэтическую искру», но без утоления жажды общения, без шороха бальных платьев жизнь теряла смысл. В одном из писем он признаётся: «И один быть тоже не могу! Это невыносимо не слышать около себя шумной жизни, не общаться с образованным кругом людей». Истинный представитель золотой дворянской молодёжи 10–30 годов 19 века. Он весь соткан из противоречий.
Эгоист до мозга костей, которому дороже всего его спокойствие, его удобства и привычки, но нет верней и преданней сына и защитника Родины, России, чем Тютчев. Он барин, не приученный к труду, ленив, когда надо что-либо менять или натягивать узкие чулки, а между тем, как скажет его дочь, Анна, «с большой лёгкостью и изяществом выражается на нескольких языках», великолепно знает европейскую культуру и историю мира, поцелованный Богом поэт, и не дорожит этим талантом, считает, что на дипломатической службе принесёт большую пользу. Равнодушен к поэтической славе и вместе с тем Тютчев – «отец» символизма, родоначальник целого литературного направления в поэзии, один из величайших мастеров русского стиха, «учитель поэзии для поэтов».
В его стихах ноющая тоска, скорбная ирония, но она не похожа на хандру пресыщенного удовольствиями ловеласа Евгения Онегина, он не отрицает идеалы, как Байрон, он не похож на человека, обманутого жизнью, как Баратынский, далёк от трагического разочарования Лермонтова. Тоска души у Тютчева от разлада его идеалов с окружающей его действительностью. Он иронизирует над сознанием собственного и общечеловеческого бессилия, несостоятельности горделивых попыток разума, но дорожит цельным строем верующей души, побеждающий внутреннее раздвоение.
Понимая всё несовершенство человека вообще и своё в частности, он впадал в тоску и уныние. Самоанализ, самобичевание, суд над собой, постоянное покаяние преследовали поэта так же, как и «жажда» любви. Он страдал от этой неуёмной «жажды» и ничего не мог изменить. Любовь – источник жизни, вдохновения. Но если Печорин быстро охладевал к возлюбленной, то Тютчев влюблялся и любил всю жизнь. Он просто не мог разлюбить даже ушедшую от него женщину. Любил и влюблялся в другую, мучился, понимая, что причиняет боль той, другой, страдал, казня себя. «О, Господи, дай жгучего страдания!» – кричало всё его существо. Но «внутренняя жизнь не напоказ», как сказал Л. Н. Толстой, «суд собственной совести может происходить лишь в молчании». Тютчев был человеком скрытным.
Он эгоист, но окружающие его любят, а жёны боготворят. Иначе, как «любимчик» и «мой боженька», его не называли. У него десять великолепно образованных и воспитанных детей! Две старшие дочери Анна и Дарья, – фрейлины в царской семье, Анна – воспитательница царевича.
Его рассуждения о вере были слишком научны, и в отношении веры он ходил по грани безверия, но страшно страдал от своего колебания.
Он не считал себя поэтом! А внутренний творческий процесс не прекращается ни на секунду. Ходит ли он по Невскому проспекту, беседует ли со встреченным знакомым, неважно.
У Тютчева нет черновиков, он их не пишет. Он вообще не любит писать. Мысли оттачиваются внутри и рождаются готовыми афоризмами, стихами. Удивительными, гениальными. Он рассыпает их экспромтом в беседе и забывает, поражая слушателей точностью и лёгкостью выражений.
Когда заходила речь о его стихах в кругу друзей, недовольно передёргивал плечами, менял тему разговора. Он считал себя политиком, дипломатом, разведчиком, наконец.
Тютчев был человеком скрытным. Печальный, одинокий, как и положено поэту, бродит он долгие часы, окидывая прохожих рассеянным взглядом. Кажется, он влачит тяжкое бремя собственных дарований, «страдает от нестерпимого блеска собственной неугомонной мысли».
Ему за шестьдесят. Теперь он не верит в силу своего слова, не верит, что может «восстановить цепь времён», а именно в этом, как он утверждал, «самая настоятельная потребность моего существа». Те пламенные упования, надежды, на высокое призвание России быть центром славянских государств остались химерой, мечтой. Олегов щит так и не вернулся к вратам Царьграда. Цепь времён не восстанавливалась. Он не смог «поднять на своих плечах весь мир», чтобы спасти Россию, свой народ. Знания будущего – тяжкий груз. Трудно не согнуться.
Вот вы, читатель, когда-нибудь зримо ощущали себя частицей своего народа, чувствовали связь его прошлого и своё будущее?! Знаете своё место в жизни страны?
А Тютчев знал. Знал: только вера может спасти и объединить народ перед нависшей угрозой войн и революций. Он чувствовал нерасторжимую связь со своим знаменитым предком, Захарием Тютьшовым, героем Куликовской битвы, подвиг которого записан Карамзиным в «Истории государства Российского».
Дмитрий Донской посылает его к Мамаю с посольской миссией и наказывает вести себя так, чтобы хан понял: русские уверены в победе. Не страшась ханского гнева, Захарий разрывает данную ханом грамоту с требованием покориться и уезжает. Тонкий дипломат и смелый разведчик, Захарий прознал о готовящемся союзе Мамая с Литвой и Рязанским княжеством и поспешил с этой важной новостью в Москву. Благодаря его разумным действиям живым остался не только он сам, но и его воины.
На примере жизни прапрадеда и был воспитан Фёдор Иванович, поэтому окончил университет – и на службу, как предок-толмач, служить России в дипломатическом корпусе. А стихи? Это не служба, это для души.
22 года жизни за границей. За это время глубочайшее погружение в европейскую культуру, историю и философию, овладение в совершенстве европейскими языками. Он с головой погружён в лекции, в книги. Учится.
Принимает у себя в гостях Гёте и переводит его стихи на русский язык; проводит время в беседах с властителем дум того времени, немецким философом Шеллингом. В спорах с ним оттачивается философский взгляд на природу вещей, на развитие мировой истории. Именно Тютчев уверил его и западных философов, что в России тоже есть свои философы, которых называют любомудрами. Через несколько лет Шеллинг напишет о русском дипломате: «Это превосходный человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь». Служить России – цель жизни Фёдора Ивановича. И, когда понял, что служба за границей не отвечает его цели, он возвращается на Родину. Ему 41 год. Здесь всё заново. С чистого листа.
Он видел постоянные неудачи и ошибки правительства во внешней и внутренней политике России, страшные внутренние неурядицы, всплывавшие на поверхность. Видел, пытался встать на пути мощного потока всеобщего бездумного благодушия и любви к Европе.
Его страшные предсказания сбывались одно за другим, а он ничего не мог изменить, не мог повлиять на ход событий, предотвратить. Общество, которому он объяснял суть злобного отношения европейцев к русскому государству, суть революции, беспечно считало, что Тютчев сгущает краски, что он излишне суров в своих предсказаниях. Высший свет «кипел в бездействии пустом», надеялся, авось пронесёт. А Фёдор Иванович предвидел катастрофу, знал причину бед, кричал о ней: «Не плоть, а дух растлился в наши дни», безверие погубит!
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Не слышат, не хотят услышать его предсказание.
Я сочувственно и растерянно смотрю на метра, на человека-легенду, и не знаю, что сказать. Ведь он счастливчик, «баловень судьбы», «лев» светского общества, которое «находилось под очарованием этого диковинного ума». «Его присутствием оживлялась любая беседа; неистощимо сыпались блёстки его чарующего остроумия; жадно подхватывались окружающими его меткие изречения». Его слова, фразы летели, как камешки в воду: бросал – а круги долго ещё расходились по Петербургу. Светское общество Петербурга гудит: «Вы слышали, что вчера сказал господин Тютчев? Нет? Ну, что Вы! Обязательно приходите на вечер к госпоже Зыбиной. Будет интересно. Приглашён сам господин Тютчев».
Он, наконец, любимец женщин, счастливый муж и отец большой семьи, и вдруг такое уныние, такая неприкрытая вселенская печаль! Не потому ли, что цель жизни – служение Родине, России – не достигнута в той степени, о которой мечталось. Он потерпел поражение, не удалось пробудить у высшего света ни уважение к России, ни к русской культуре.
Не удалось? Но большое видится на расстоянии. Величие Вашего духа в том, что Вы приняли «невидимую власть Времени и Пространства, которые требовали «приподнять на себе целый мир». Вы боролись, вы пытались разбудить сознание высшего общества, или хотя бы пробудить инстинкт самосохранения, а потом поняли:
Напрасный труд! Нет, их не вразумишь! –
Чем либеральней, тем они пошлее!
Цивилизация – для них фетиш,
Но не доступна им её идея.
Жёсткий приговор, но справедливый. А ведь это и о нас, сегодняшних, озабоченно спешащих по Невскому проспекту, говорит Фёдор Иванович из девятнадцатого века. Опять предупреждает, предостерегает.
***
Как же в истории всё повторяется! «Безверием палим и иссушён», скорбит наш «век с молитвой и слезой» «пред замкнутою дверью» и просит смиренно: «Боже мой! Приди на помощь моему безверью!» Повторяются ошибки и в жизни людей, и в политике государств.
И у нас опять великое противостояние Востока и Запада! Вероятно, это никогда не закончится в силу характеров людей, живших на разных полюсах морали и веры. Россия – вечно влюблённая в Запад, и Запад – хищно и вожделенно смотрящий на Россию. Любить Иуду опасно: продаст и предаст. Не верите?
Обращаю внимание на приближающуюся группу во главе с человеком, одетым в бордовый костюм то ли чебурашки, то ли обезьяны. Он шагает, подпрыгивая, жестикулируя, вертясь то в одну, то в другую сторону, что-то рассказывает группе людей. Экскурсия! Мне повезло, всегда приятно услышать что-либо новое, интересное. Правда, какой-то необычный наряд у этого экскурсовода.
Группа подошла к мемориальной доске, и я слышу, как этот чебурашка-экскурсовод говорит:
– И вот Феденька рос, рос и вырос… Помните, как нам преподавали биографии русских писателей в школе? Великий, гений и т. д. и т. п. А теперь я расскажу вам, как оно было на самом деле. Огромная разница.
Он многозначительно поднял руку, спрятанную в потёртой рыжей перчатке, и пообещал многозначительно:
– Я расскажу роман без соплей. То, что было на самом деле.
Феденька ненавидел деревню, рос этаким ленивым барчуком, а потом и вовсе отправляется за границу, якобы служить, а сам через два года женился. У него ведь все женщины – немки, – тут он остановился, поправил или почесал круглое торчащее ухо, ухмыльнулся, будто вспомнив что-то своё, личное, и продолжил, – а немки – они же красивые в жизни. Амалия, Элеонора, Эрнестина, ну и так далее. Ну, там «я встретил вас, и всё былое...» Ну, вот. И тут у него пошли дети!
Его лицо стало серьёзным. Он громко шмыгнул, вытер посиневший нос шерстяной варежкой, потопал на месте и, всплеснув руками, будто воспрял от тяжёлой ноши, и стал рассказывать об интимной жизни поэта, домысливая и смакуя подробности. Он, походя, разбрызгивал лепёшки грязи, указывая на мемориальную доску, выгребал из шкафов поэта всё грязное бельё, полоскал личную жизнь, жуя мельчайшие подробности.
Чебурашка полностью владел аудиторией, покорял её блеском знаний. Слушатели млели и ахали, услышав очередную преподнесённую интимную подробность из биографии такого идеального, знакомого с детства поэта. Смотрели восхищённо на просветителя, а одна восторженная девица даже захлопала в ладоши и не в силах сдержать эмоции, схватила лапу чебурашки и принялась её энергично трясти. Чебурашка сначала стушевался, но, видя одобрение окружающих, удовлетворённый, счастливый, жестикулируя, пританцовывая и кланяясь, вынимал из загажника своей памяти всё новые и новые подробности. Порывы ветра трепали меховые огромные уши, прятали счастливый радостный взгляд. Он блистал.
Я стояла поодаль и молча возмущалась. Так хотелось воскликнуть:
– Без амикошонства, сударь! Без амикошонства! Что за панибратство, что за высокомерное отношение к великим людям?!
Но я сдерживаюсь. Почему? «Напрасный труд! Нет, их не вразумишь! Чем либеральней, тем они пошлее!» Ну, не горят звёзды для тех, кому это не нужно. Как же велико желание этого бесполого существа стать на одну ступеньку развития с Великими! Учить взрослого мальчика воспитанности – зря тратить силы. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». А ведь пора бы русскому образованному человеку, наконец-то, полюбить Россию. Слушаю, чувствуя физическое отвращение. Я, конечно, понимаю, что на морозе может течь из носа, но почему бы это не вытереть носовым платком?
– Ну, вот. А теперь о политике. Вот послушайте.
Читал, листая карманный томик стихов Тютчева со смешком, прерывая стих своими язвительными, не всегда компетентными комментариями.
– Защитить болгар, чехов, всех славян, да, пожалуйста. Защитили! И что?! Мы все знаем теперь, чем они нам ответили.
Опять вытер нос рукавом, шмыгнул громко, без стеснения, потом отвернулся от доски и прочитал быстро, скороговоркою, хвастаясь своей отличной памятью:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать:
В Россию можно только верить.
И добавил, размышляя, но как бы про себя и разводя руками: «И чего здесь не понять?»
От возмущения и брезгливости перехватило дыхание. Что это? Откуда взялось это существо, так ненавидевшее русскую литературу и русских поэтов? Не выдерживаю и кричу, перекрикивая громкие аплодисменты:
– Вы же сами говорили, что при жизни на Фёдора Ивановича не упала даже тень осуждения. Само высшее общество России его не осудило.
Аплодисменты прекратились, и все, недоумевая, посмотрели в мою сторону.
Чебурашка перестал шмыгать носом, бросил недовольный, жёсткий взгляд:
– Вы не из группы?
Поймал утвердительный ответ, радостно подпрыгнул, распахнул лапы в варежках и, неожиданно рассмеявшись, сделал полуоборот, как в танце, на носочках, и тут же, улыбаясь, фамильярно подхватил под руку ближайшую даму и на ходу повелительно бросил через плечо:
– Пройдёмте, товарищи, дальше.
Облитая осуждающими взглядами, я стояла под мемориальной доской гениальному русскому поэту. Обидно. Это же Невский проспект! Колыбель русской культуры! Не у всех такое фонтанирующее чувство юмора, как у меня. Бросаю вслед:
– Странно, что вы ещё прыгаете козликом, и ни один истинно любящий русскую литературу человек не вызвал вас на дуэль. Ваша лекция со шмыганием и недостойной лексикой унижает. Разве о литературе вы говорите?
И тут меня озарило. Он сказал «товарищи»? Конечно, товарищи! Какая же я сегодня недогадливая! Да, вам, товарищи, действительно, есть, за что так тихо, исподтишка, ненавидеть Тютчева. Образование-то вы получили, а вот любить Россию так и не научились.
***
Именно Фёдор Иванович, обладая широким историческим кругозором, первым дал характеристику революции, как всякому историческому явлению. Он писал в статье «Россия и революция», что утрата религиозной веры ведёт к распаду личности, а революция изгоняет из государства религии и заменяет их безверием. Революция – это возможность разнуздать личную волю, чувствовать себя вершителем судеб, воспринимать самоё себя как истину. Революция несёт в себе разрушительный дух отрицания, насилия, деспотизма, освобождение от нравственных идеалов.
Это было сенсационным открытием. Ещё не сложилось революционное учение, ещё Ф. М. Достоевский только входит в литературу со своим романом «Бедные люди» о «маленьком человеке» и ещё не чувствует страшную силу революционной вседозволенности. Ещё Белинский и Некрасов только встретились, подружились, объединившись в отрицании государственных устоев, не понимая сути того, к чему может привести оголтелое революционное отрицание, а Тютчев уже описал революцию, показал её суть, разоблачил внутреннюю логику её процесса, безошибочно предсказал её дальнейшие превращения и последствия.
Вы написали всего три публицистические статьи, из девяти запланированных. Но зато какие! Они и сейчас актуальны, и сейчас кричат, ещё раз объясняя нам, что такое Запад и западная цивилизация.
Статья под названием «Россия и революция», опубликованная в мае 1849 года в Париже в виде брошюры, произвела потрясающее действие на умы не только в Европе, но и в русском обществе. Написана на великолепном французском языке и обращена к европейским властям, по обыкновению тугим на ухо, когда дело касается русской речи. К этому времени Вы восстановлены на службе в министерстве иностранных дел, Вам возвращено звание камергера, получено назначение на должность чиновника особых поручений при государственном канцлере.
Окрылённый успехом и всеобщим вниманием к высказываемым идеям, в этом же 1849 году Вы задумали философский трактат «Россия и Запад». План из девяти статей! Грандиозный. Куда делась меланхолия и уныние?! Стихи? Стихи надо писать, как утверждал Платон в «ФЕДРЕ», в исступлении, без священного безумия нет поэзии. А Вы сейчас поклонник мудрости! А, может, именно сейчас в Вашей судьбе переплелись и мудрость, и экстаз? Может, эта статья была написана так блестяще, потому что ваш творческий тандем с мудрой, образованной женой, как никогда был великолепен?! Вы как раз переехали в дом Лопатина на Невском проспекте у Аничкова моста... (Сейчас на этом доме висит мемориальная доска). Нести, как Вы называли свою жену, читала приходившую из Европы прессу на трёх языках, переводила, если надо, на французский, выделяла главное, что-то просто пересказывала, иногда спорила, давала ценные советы, обсуждая с вами планы будущих статей, но главное – у Вас был самый верный союзник и помощник.
Вот Вы идёте по Невскому проспекту, помахивая тростью, размышляя о католической церкви, о папстве. Только что в кабинете нетерпеливо записали что-то. Это нечто вроде перечня идей, а теперь стоите, облокотившись о перила Аничкова моста, думаете, думаете… Сколько времени проходит? Неважно. Резкий холодный осенний ветер пронизывает насквозь, но Вы не ощущаете холода. Вы пишете. Пишете в уме строки трактата. Удивительно, сегодня нет дождя, только низкое серое небо висит над свинцовой водой Невы. Вокруг городской шум, бурлящая жизнь, и Вы в центре этой жизни. Только так можно жить, только здесь можно творить. Мысли, идеи толпятся так же, как люди, что проходят мимо. Вот вдали приподнимает шляпу Вяземский, друг и поэт. Вы садитесь в сквере на лавочку, и течёт беседа двух друзей.
***
– Нести, Нести, – громко звал жену Фёдор Иванович, рывком открывая дверь в квартиру.
Бросил зонт в прихожей, переминаясь с ноги на ногу и порываясь идти в мокрой одежде, но верный Щука, камердинер, придержал его, раздевая, неторопливо, осторожно, чтобы капли не попали на камзол.
Барин нетерпеливо поворачивался и кричал:
– Котёнок, записывай, быстрее.
Возбуждённо и призывно махая руками, он привычно подставлял ноги для тёплых, мягких тапочек ползающему внизу медлительному длинноногому Щуке.
Февральский мятеж 1848 года настолько сильно возбудил в нём мыслителя, постоянно созерцавшего в своих думах будущие судьбы России, он так ясно увидел в этом восстании причину всех европейских революций, их внутренний сокровенный мировой смысл, что опять нетерпеливо крикнул:
– Понял! Я всё понял, Ненси! Понял! Быстрее.
Завязывая на ходу халат и зная, что жена уже сидит, за столом, он диктовал:
– Уже с давних пор в Европе только две действительные силы, две истинные державы: Россия и революция. Они сошлись лицом к лицу, а завтра, может быть, схватятся. Между той и другою не может быть ни договоров, ни сделок. Что для одной – жизнь, для другой – смерть. От исхода борьбы, когда-либо виданной миром, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества. Современное поколение ещё не осознало ни значения этого противостояния, ни его причин. Оно не в политических соображениях, ни в чисто человеческих. Нет. Противоборство революции с Россией происходит по причинам более глубоким: « Россия, прежде всего, держава христианская; русский народ – христианин. Он христианин по той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же, прежде всего, враг христианства. Антихристианский дух – вот её характер. Антихристианское начало вдохновило на притязание… овладеть человеческим обществом. Эта-то новизна и назвалась в 1789 году Французской революцией.
Его французский был так же великолепен, как и русский. Он говорил быстро, чётко и ясно. Эрнестина Фёдоровна сосредоточенно записывала эти отточенные гениальные фразы, ясные мысли. Их надо немедленно записывать или они безжалостно будут уничтожены ленью этого гениального человека, который так легкомысленно относится к своим талантам. Тютчев не любит писать. Однажды сказал: «Мысль изречённая есть ложь», поэтому ронял драгоценные слова и выражения без сожаления.
– С тех пор, – продолжал он, – революция, несмотря ни на какие метаморфозы, осталась верна своей природе и пышно расцвела, почувствовала себя собою, когда присвоила лозунг христиан: братство. Она прямо приписывает себе вместо духа смирения и самоотречения – в чём самая сущность христианства – дух гордости и преобладания, на место любви, свободной, добровольной – любовь вынужденную, взамен братства. Революция – это политический авантюризм. Она разнообразна до бесконечности в своих степенях и проявлениях, едина и тождественна в своём принципе ...из этого-то принципа и вышла вся настоящая цивилизация Запада...»
Это было открытием, сенсационным открытием. Эрнестина Фёдоровна еле успевает записывать. Глаза и руки устали от напряжения. Немецким она владеет лучше, чем французским. Выжатая, как лимон, она дописывала последние предложения. Статья получается объёмной, а Фёдор Иванович, стоя у окна, ничего не замечает. Ему надо выплеснуть, выговорить как можно скорее то, что он понял, открыл. Иначе забудется, уйдёт. Глядя на голый, неопрятный внутренний двор гостиницы, он диктует статью, которую Эрнестина Федоровна назовёт «Россия и Революция».
« … Я не устаю удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, – кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки – это поток, который течёт легко и свободно...», – делится Эрнестина Фёдоровна с братом в письме:
После открытия Тютчевым сущности Революции смешны притязания усмирить революцию конституционными заклинаниями, обуздать её страшную энергию законами. Революция – это нравственный фактор общественной совести, обличающий внутреннее состояние человеческого духа и оскудение веры. Философ пророчески предостерегал общество от модной западной вседозволенности. Это гибельный путь.
Так вот почему этот чебурашка так рьяно рылся в грязном белье! Товарищу надо самоутвердиться. Произошла революция – нравственный фактор общественной совести, поэтому это бесполое существо прыгает по Невскому, как результат состояние человеческого духа и оскудение веры.
Поэтому изучение творчества Фёдора Ивановича по школьной программе сводилось только к знакомству с лирикой. Его публицистические статьи – под спудом!
Копию статьи Эрнестина Фёдоровна перешлёт в Мюнхен брату, барону Пфеффелю, публицисту и дипломату, который незамедлительно распространит её в мюнхенском дипломатическом кругу.
В следующем году, 1849 году, она будет напечатана в Париже особой брошюрой бароном Бургуаном, бывшим французским посланником при мюнхенском дворе, хорошо знавшим поэта. Эту брошюру он пришлёт в Петербург, правда, под другим названием «Записка, представленная императору Николаю1».
Но это будет позже, а сейчас они вдвоём, в холодном Петербурге.
Довольный и безмятежный, Фёдор Иванович одёрнул полы фрака, улыбнулся, снял очки и протёр глаза.
– Ну, вот, кажется, получилось сказать хорошо. На сегодня – всё. Благодарю тебя, кисонька. Если посчитаешь нужным, поправь. Хорошо?
– Хорошо.
Она подняла голову, но взгляд красивых карих глаз, всегда таких тёплых, ласковых, был почему-то холоден, даже надменен. Фёдор Иванович вздрогнул и спрятал внезапно озябшие руки в карман халата:
– Знает! – мелькнуло в голове. – Конечно, всё знает. Но какая женщина! Ни упрёков, ни сцен!
Он подошёл к жене, встал на колено, нежно взял её руку в свои и, целуя каждый пальчик, приговаривал:
– Ты мой ангел! Спасибо, кисонька, спасибо. Не сердись! Ты же меня знаешь! Я люблю только тебя!
А Нести смотрела на седые уже редевшие невесомые волосы, на самый красивый в мире широкий лоб и приказывала себе:
– Ну, посмотри на него приветливее, улыбнись, как раньше, поцелуй эти упрямые губы, скажи, как он талантлив. Нет, скажи, что он гениален. Ну, что тебе стоит! Ведь ты говорила ему это тысячу раз. Скажи!
Но губы сжимались, взгляд каменел, а голова надменно поднималась выше. Уж очень большой груз обид накопился в сердце за последний год. Как тяжело ей привыкать к чужой стране. Здесь она похожа на увядший пересаженный цветок. Посадили, а поливать и ухаживать некому. Из тёплых солнечных двориков и улиц, украшенных цветами в Германии, её выбросили в грязные гостиничные номера с чужой мебелью. Она задыхалась в этих затхлых тёмных комнатах, как цветок, привезённый ею из Мюнхена. А он ничего не замечал, и для него совершенно неважно: распустится или увянет её неприхотливая герань на подоконнике.
Она опустила голову, касаясь его лба. Нести знала, какого человека она полюбила, но даже в страшном сне ей не снилось, как это тяжко жить с гением.
Заплакал Ванечка. Нести поднялась и спокойно, даже отчуждённо сказала:
– Я думаю, это лишнее. Ты, как всегда, безупречен.
– Господи, какое это ты слово выбрала колючее! – воскликнул отчаянно муж, поднимаясь с колена, обречённо вздыхая, – будто кусок льда с острыми краями!
Рванулся обнять, крепко прижать родного человека, но натолкнулся на ледяной взгляд, опустил виновато глаза:
– Кисонька! Не сердись! Всё будет хорошо! Потерпи немного.
***
Остановить несущееся вихрем в революцию русское общество, объятое всеобщим преклонением, слепой любовью к Западу, он не смог. Это какая-то безрассудная, всепрощающая любовь. Даже инстинкт самосохранения не действует.
Как же Вы нужны нам сейчас, Фёдор Иванович Тютчев! Философ, мыслитель, дипломат, поэт. Нам просто необходим Ваш острый, ироничный ум, Ваше умение видеть в отдельном явлении, в незначительном внешнем событии внутренний, сокровенный, мировой смысл! Уж Вы не молчали бы, слыша, как оскорбляют лучших сынов России или саму Россию!
Что же случилось с европейскими нациями, казнящими своих королей, ломающими привычный уклад жизни своих стран? Только Вы, с Вашим прозорливым философским умом мыслителя могли дать ответ.
Тридцать лет мира и согласия, даже можно сказать влюблённости России в Европу, расслабили страну, которая жила с закрытыми глазами, ничего плохого не желая слышать.
За это время по Европе прокатились революции. Уничтожив свои правительства и внутренних врагов, европейцы искали внешних. Бешеные нападки западных публицистов на Россию вызывали у читателей взрывы восторгов. Ненависть к России усиленно разжигалась. Немецкие публицисты кипели злобой, утверждая, что русское, скифское влияние мешает развитию страны, её конституционному образу правления. Ничто Вас так не раздражало, как угрозы и напрасные обвинения в адрес России со стороны иностранцев. Молчать было невозможно. Вы ринулись в бой. Ваша статья «Россия и Германия» наделала много шума на Западе.
Вы, великолепно зная историю романно-германских народов, их нравы и обычаи, прекрасно владея европейскими языками, доказывали, что «враждебное к России расположение... представляет опасность не для России, конечно, а для самой Германии». Что если Германия лишится поддержки России, то утратит своё единство и политическую независимость.
Впервые раздался твёрдый, мужественный голос русского общественного мнения. Такого европейцы не ожидали от скифов! Вы, с достоинством образованного человека, вежливо и твёрдо написали редактору «Всеобщей аугсбургской газеты» в ответ на брань в немецкой прессе: «Я русский… русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле...»
Вы не промолчали. Как лихо вы поставили на место мнимого защитника России господина Кюстина и его сторонников, сравнив их попытки с зонтиком от дневного зноя над вершиной Монблана!
Нет, господа, Россия вам не по плечу! Такая защита – «новое доказательство умственного бесстыдства и духовного растления». А это отличительная черта сороковых годов Западных стран!
Вы нашли великолепный аргумент в споре: показали Западу его сущность, его лицо. Вы, философ, мыслитель, твёрдо, последовательно осудили в европейцах жажду к разрушению, их безбожие, которое скрыто в них под маскою приличия.
«Умейте же уважать и нашу национальность, – подводите Вы итог, – уважать её в её единстве и силе, и при всех наших недостатках, которыми мы не богаче других».
Статья «Россия и Германия» вышла в Германии в 1844 году, и только потом – в России, в 1873 году. На русское общественное мнение эта статья не произвела никакого впечатления, ничто не поколебало русской влюблённости в Запад, никак не повлияло на умы и отношения. Первая статья прошла незаметной, а круги от второй «Россия и Революция» уже взволновали русскую публику, а третья политическая статья « Римский вопрос и папство» вообще не была напечатана в России ни в подлиннике, ни в переводе, хотя, по мнению читавших её людей на Западе, она самая замечательная и самая блестящая по изложению.
После бури, поднятой в европейской прессе, и русское общество обратило на статьи внимание, заволновалось, откликнулось статьёй Хомякова: она лучшее и единственно дельное, сказанное о Западе. «Статья Тютчева, – пишет, поэт, – заграничной публике не по плечу». Не сможет, мол, Запад стать к самому себе объективнее, но ведь и русское общество обратило внимание на предостережение поэта, и – удивленно зевнуло и махнуло рукой. Статьи «слишком исполнены крайностей, мало любимой «умеренности». Все так привыкли беспрекословно верить в могущество, в силу и непобедимость России, что не обращали внимания на просчёты и ошибки внешней политики. Обаяние Запада пересилило.
И опять всё повторяется! Тогда Вы прекрасно понимали, что Запад не собирался в открытую сражаться с Россией. Для этого есть османская Турция, жаждущая битв. Пусть воюют, а Запад, сохраняя нейтралитет, будет неустанно следить, чтобы война длилась, как можно дольше. Как же всё повторяется, даже в мелочах!
С 1832 года Вы жили с ощущением беды, надвигающейся на Россию. Ваш проницательный ум давно разглядел ненависть и злобу европейской дипломатии к России. В письме к жене Вы пишете: «Россия, по всей вероятности, скоро схватится со всею Европою. … И причиною этого столкновения – не скаредный эгоизм Англии, не гнусная низость Франции, предавшейся авантюристу, – даже и не немцы, а нечто более общее и роковое. Это вечное противоборство друг с другом того, что … приходится называть Западом и Востоком».
Вы с гениальной прозорливостью, даже пророчески, почувствовали неизбежность новой схватки с Западом и встали на защиту Отечества. В письме к жене Эрнестине Фёдоровне Вы писали (23 ноября 1854 года): « Я был, кажется, одним из первых, предвидевших настоящий кризис… В сущности, для России опять начинается 1812 год…».
Да, любовь к России, вера в её будущее, убеждение в её верховном историческом призвании владели Тютчевым могущественно и упорно. Вы первый, и, пожалуй, единственный из русских, живших за границей, не только увидели, предсказали последовательный неминуемый для Европы каскад революций, приближение к России и рост этой страшной революционной эры, но и поняли суть его. Вы были единственным ясновидцем в среде русского светского общества, боготворившего Европу, и защищали Россию своим оружием – словом. Но какая же это неравная схватка: один дипломат, поэт, философ и всё мыслящее общество и России, и Запада! Однажды Вы признались: «...я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения».
Служить под началом лицемерного графа Нессельроде больше не представлялось возможным. Это предчувствие катастрофы отнимало силы, сделало характер ещё более унылым, угрюмым. Когда служба становится бессмысленной, она теряет всякое значение. Изнывая от бесполезности и скуки на службе в Турине, не задумываясь, закрываете на ключ двери посольства, едете в Берн на свидание с баронессой Эрнестиной фон Дёрнберг, урождённой баронессой Пфеффель, венчаетесь и блаженствуете. Июль, нега тепла разлита на всём: на цветах возле каждого домика, на аккуратно подстриженных деревьях вдоль дорог, на неспешно прогуливающихся прохожих и, конечно же, на молодой жене. Счастье бесконечное.
Закрытое на замок русское посольство нисколько не волнует итальянцев. В такие жаркие летние месяцы общество ищет прохлады среди природы, а не на городских улицах. Конечно, служба есть служба, за это ждёт наказание, но это так ничтожно, как укус комара, ведь решение принято давно, и жалеть не о чем. 1 октября 1839 года подписан приказ об освобождении от должности первого секретаря в Турине, а ещё через два года – увольнение из министерства иностранных дел и лишение звания камергера. И только, когда ещё одна попытка быть полезным Родине (повлиять на мировоззрение одного из известнейших тогдашних публицистов и историков Германии Якоба Фальмерайера (1700–1861) была завершена, стало возможным полное возвращение на Родину.
Якоб Фальмерайер, как враг России, был нужен и важен как «союзник». Он постоянно публиковал статьи о проблемах истории и политики Востока. В своих статьях призывал к победоносному проникновению германского, а можно и европейского, духа на Восток.
Конечно, Вы не собирались его перевоспитывать, но вот, выявив его позиции перед лицом правящих кругов России, пробудить в этих кругах сознание той грозной опасности, которая уже давно вызывала в Вас глубочайшую тревогу, было необходимо. К тому же его талантливые исследования содержали не только открытые враждебные выводы, но представляли Россию как могучий самостоятельный мир, имеющий свои собственные интересы и цели. Вы полагали, что на идею о великой и самостоятельной России в трудах иностранца русские правители быстрее обратят внимание. Не получилось.
Вы вернулись в Россию начинать всё заново. Уже через несколько лет Вы вернёте себе должность, звание, но в зените славы. Вашу размеренную семейную жизнь вдруг неожиданно пикой пронзит поздняя страстная любовь к Елене Александровне Денисьевой. Родятся нежные, печальные строки:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Но в этой последней любви Вы просияете и погасните, оставив миру незакатное солнце поэзии.
***
Всего три статьи, всего двести стихотворений, но какие! Гордился ли он своими достижениями в творчестве? Тютчев был равнодушен и к своим открытиям, и к своим стихам. Он пришёл, чтобы сказать, предупредить, а дальше… Имеющий уши – услышит. Считал ли он, статский советник, главный цензор России, себя поэтом? Наверное, да. Ведь он с удовольствием общался с А. А. Фетом, Л. Н. Толстым, И. С. Тургеневым. Нет, скорее, это они искали общения с мудрецом, философом, поэтом. Когда по Петербургу разнеслась весть о болезни Тютчева (с ним случился удар), сам Александр 2, никогда не бывавший у Тютчевых, пожелал навестить поэта, заранее послав к нему человека. Фёдор Иванович, смутившись, тут же ответил посыльному:
– Это приводит в жуткое смущение: будет крайне неделикатно, если я не умру на другой же день после царского посещения.
Такой ответ привёл уже царя в замешательство. Визит был отложен.
Гением его считали ещё при жизни. И кто! – Тургенев, Некрасов, Толстой, Фет.
В России великое множество талантливых людей, «и тем больше славы поколению, породившему таких поэтов, как Пушкин, Тютчев, Фет, и тем больше чести народу, к которому поэт обращается с такими высокими требованиями».
Я с гордостью иду по Невскому проспекту, где почти на каждом фасаде дома висит мемориальная доска, каждое здание – памятник. Где ещё в мире есть такой знаменитый проспект?! Двести лет назад здесь гулял с тросточкой господин Фёдор Иванович Тютчев, здесь рождались гениальные статьи и вирши, достояние России. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды и соответствовать его высоким требованиям.
Эльвира САПФИРОВА, июнь – ноябрь 2023 г.
г. Краснодар
Высокая жёлтая нота

Через три дня после смерти жены Олег Степанович, мощный красивый старик с генеральской выправкой, пришёл к Инне Николаевне с предложением руки и сердца.
Инна Николаевна ожидала от него всего, чего угодно, но это было слишком!
– Как? – всплеснула она руками. – Как это умерла? Я же её видела на прошлой неделе при полном параде, завитой и подкрашенной...
– В одночасье… – употребил Олег Степанович забытое выражение и старомодно приложил руку к груди в районе сердца. Жест показался убедительным, но сбитая с толку Инна Николаевна требовала подробностей и объяснений.
– Как-то я рассказывал вам про экстрасенса... – неохотно и загадочно начал старик.
– Помню...
– Так вот, он сказал, что внуков у неё нет, потому что она не освобождает для них места на земле...
– Какая чушь! Ну и что, она после этого вот так просто решила умереть и умерла?
– Если вы помните, Елена Сергеевна была дамой мужественной...
Проговаривая этот странный текст, Олег Степанович стоял, высоко подняв голову и сложив на груди руки. Глаза его горели вдохновением. Или в них блестели слёзы? Инна Николаевна, за годы знакомства привыкшая к самым сумасбродным розыгрышам, с облегчением схватилась за трубку задребезжавшего телефона и долго кричала в него, стараясь не смотреть на живое изваяние посреди кабинета.
...В прошлой жизни старик был актёром. «Жан-премьер, известный по провинциям», – говорил он об этом как о случайном эпизоде в своей пёстрой и безалаберной жизни. Но, судя по количеству пожелтевших театральных афишек, выпадающих из рассохшегося шкафа в его «нехорошей» квартире, роман со сценой тянулся лет сорок. Только проходил он далеко от здешних мест. Что не мешало дамам особо приближённым, из тех, кого Олег Степанович называл «тургеневскими девушками бальзаковского возраста», воображать его живым персонажем Островского – обаятельным и беспутным Григорием Несчастливцевым.
Официально же, если это слово хоть как-то лепится к этой необузданной натуре, он считался в южном, засаженном акациями, когда-то тишайшем, а ныне ревущим моторами и кадящим дымами южном городе художником. Не чета, конечно, местным знаменитостям, на все лады переписывающим пейзажи с казачьими хуторами или натюрморты с кринками и жбанами кваса, но числящимся в свои восемьдесят с чем-то лет подающим большие надежды.
Смирнов терпеть не мог грунтовать холст, да и пенсии ему на холсты не хватало. Поэтому писал он то на оборотной стороне лозунга «Вперёд, к победе коммунизма!», то на станине от старой швейной машинки, то на сиденье сломанного стула.
Вот с таким стулом он однажды и предстал перед Инной Николаевной – хозяйкой небольшой картинной галереи, точнее салона, которая хоть и слышала о художниках-передвижниках, а также французских импрессионистах, образование имела самое прозаическое – финансовое. Поэтому на стул воззрилась с большим недоумением и уже подумывала позвать секретаршу на помощь. Но… прошло пять минут, лёд был растоплен, рука, протянутая для пожатия, расцелована, а из соседней комнаты всё-таки вынесен дымящийся кофейник – знак гостеприимства.
– Вы знаете, как обходиться в квартире без ремонта? – продолжал ораторствовать Смирнов, в душе уже праздновавший свою победу. – Вешать на стены картины, много картин! А снам верите? Знаете, что Паганини сочинил свою лучшую сюиту «Дьявольские трели» во сне? Я, кстати, вынашиваю замысел романа «Сны мудрецов», со своими иллюстрациями... – балагурил Олег Степанович, и строгая Инна Николаевна не смогла устоять перед обаянием старика – заулыбалась.
Даже устроила в центральной городской галерее его персональную выставку с кокетливым названием «Мы с Ван Гогом нигде не учились». Кособокие, без рам, картины смотрелись на белых глянцевых стенах диковато, как и сам виновник торжества, не снявший в гардеробе ни старой шинели, ни казачьей фуражки с красным околышем. После жиденькой церемонии открытия, на которой обозначился всего один букет – жене и музе, Смирнов тут же покинул выставку, прошагав через зал широко и стремительно, как царь Пётр на известной картине. Сыграл роль гения, не дождавшись подтверждения и не услышав оваций.
...Серьёзные клиенты, конечно, работами не заинтересовались – мыслимо ли повесить в офисе солидного банка рамку из обуглившихся головёшек или колючей проволоки?
Знатоки же, местная богема, поохала, позвенела мелочью в карманах и разошлась восвояси. К тому же картинами Смирнова был снабжён весь ближний круг – художник имел привычку раздаривать их ещё непросохшими.
В галерее после выставки остались удачный автопортрет, выполненный на ржавом противне от старой духовки и триптих «Адам и Ева» – на обороте устаревшего призыва «Пятилетку – в четыре года!». Несмотря на застойную изнанку, работы светились такими живыми и свежими красками, что заезжие эксперты оценили их как юношеские. «Согласитесь, ну не может старый человек так ярко видеть мир!»
– А как же Ван Гог? – осмеливалась возразить столичным критикам Инна Николаевна.
– Ван Гог умер тридцати семи лет от роду. А вашему Смирнову, вы говорите, сколько?
Она не решалась его спросить, но, учитывая то, как ловко и без тени сомнения в своём обаянии обходился он с дамами, это было не суть неважно. Да и при чём тут возраст, когда налицо редчайший по нынешним временам мужской талант? Он, как всякий божий дар, с годами не убывает, а только растёт. Одним дамам Смирнов читал стихи, других норовил как-то ненароком, но очень выразительно обнять, третьим раскрывал секреты красоты: «Запомните: если пудра, то с блеском! Лицо – не маска, оно должно, как в молодости, переливаться и сиять! Свежесть, только первая свежесть! И хороши ещё румяна на мочках ушей…»
…Инна Николаевна невольно взглянула на себя в зеркало – в порядке ли она? У него ведь глаз острый.
– Так как вы смотрите на моё предложение? – Олег Степанович по-прежнему стоял у стола. Он никогда не садился без приглашения.
– Да сядьте же, наконец! – прикрикнула на него Инна Николаевна. Кричала она на всех, но на Смирнова всегда чуть громче и чуть кокетливее. А что? Разве точная копия Франчески Гааль, как утверждал старик, не может эту вольность себе позволить? Кстати, эту Франческу Инна Николаевна в глаза не видела – та снялась в кино ещё до нашей эры, но к чему же отрицать такое лестное сходство?
– Конечно, вы человек творческий, вам многое прощается, – издалека начала она, когда гость присел на краешек стула. Но надолго её дипломатии не хватило:
– Ну, нельзя же так!
– Как? – казалось, искренне удивился старик.
– Нет, ну вы смеётесь... – даже покраснела от гнева Инна Николаевна. – Допустим, Елена Сергеевна умерла. Хотя странно... Но от вас двоих можно всего ожидать. Допустим, умерла... – повторила она, прислушиваясь к странной мелодике этого слова. – Так что же? Не то, что пары башмаков не сносить, но ещё и помянуть, как следует, и уже бежать к другой женщине. Да это просто... неприлично!
– Почему? – невинно, как ребёнок, спросил Олег Степанович. – Человек рождается одиноким и умирает в одиночестве. Это только неразвитые люди серьёзно считают, что им кто-то принадлежит. Жена мужу, муж жене. Впрочем, извините.
Он встал, отвесил поклон и направился к двери.
– Эх вы, рабы условностей! – добавил он, взявшись за дверную ручку, и только Инна Николаевна начала страдать и раскаиваться, сделал такую потешную мину, что она расхохоталась, потом спохватилась, сделала строгое лицо и, в конце концов, замахала руками:
– Идите уже, шут гороховый!
...Инна Николаевна никогда не была замужем и никогда не была одинокой. Раздвоение личности между финансами и романсами всегда приводило её к печальной развязке. Один возлюбленный был гений со всеми вытекающими отсюда последствиями, другой женат, третий – пьяница. Кстати, Олег Степанович тоже употреблял, и зло. Жена его, Елена Сергеевна, терпеть не могла в доме гостей с бутылками. А к художникам ведь только такие и захаживают. Но она им воли не давала. Жаль только, недолго. Пять лет они вместе прожили, кажется. Жена смогла занять место в доме только после смерти древней, похожей на пиковую даму, старухи, матери Смирнова. Или это случилось чуть раньше? Инна Николаевна потёрла лоб, пытаясь вспомнить отголоски каких-то скандалов…
И тут же увидела запущенную, заваленную картинами, бумагами и пустыми тюбиками берлогу двух стариков, – молодящейся Елены Сергеевны, которая увлекалась то спиритизмом, то астрологией, а то, вот, на свою голову, экстрасенсами, и величественного, по-купечески щедрого Олега Степановича, награждающего каждого гостя эскизом, наброском, а то и целой картиной.
Елене Сергеевне не нравилась такая расточительность: то ли она надеялась выгодно распорядиться творческим наследием, то ли просто ревновала мужа. Олег Степанович знал эту её слабость, время от времени становился в позу и басом (Мефистофель! Люди гибнут за металл!) гудел:
– И обогатишься ты, раба божья, только после моей смерти. Знай, что художников ценят не современники, но потомки!
Елена Сергеевна после этой проповеди по-девичьи краснела, по-старушечьи, невзирая на полезные советы мужа, пудрила носик белой, как алебастр, пудрой, и убегала по астрологическим делам – она составляла гороскопы, и у неё была своя клиентура. «Лучше бы в квартире порядок навела, глядишь, меньше бы всяких бомжей и шарлатанов в неё попадало… – вслед ей, словно живой, мысленно послала упрёк Инна Николаевна и спохватилась:
– Ох, Господи, что ж я!
...В смирновской квартире царило ещё большее запустение, чем помнилось Инне Николаевне. В этом она убедилась через неделю, когда, терзаемая сомнениями, решилась навестить вдовца. Да и вдовца ли? Выдумывал же Смирнов сюжеты рассказов, которые обещал издать толстой книжкой или пьес – их были готовы поставить все театры страны – от местной оперетты до МХАТа. Жил он в бывшей коммуналке, которую соседи перекроили всяк на свою сторону и, как смогли, благоустроили. У Смирновых ванна, по какому-то странному раскладу, стояла в передней. Рядом ютилась газовая плита, на которой в данный момент кипело варево с тошнотворным запахом. Сам хозяин, одетый в жёсткую от грязи шинель, возлежал в кресле в живописной куче тряпья и являл собой последний кадр старого польского фильма «Пепел и алмаз», герой которого принимал мученическую смерть на свалке.
Тишину нарушал лишь мерный звук капели. Инна Николаевна подняла глаза к потолку – точно посередине, возле люстры, расплылось мокрое грязное пятно.
– О господи! – почти всхлипнула гостья. Таким зелёным и несчастным она Смирнова никогда не видела. Хотя бедная жена иногда расплывчато отвечала, что Олег Степанович не может подойти к телефону по причине лёгкого недомогания... А теперь вот... полюбуйтесь. Инна Николаевна попыталась сгрести веником бумажки, чтобы проложить тропинку в мусорных завалах, но старик, как Вий, поднял тяжёлые веки и мрачно приказал:
– Ничего не выбрасывайте, это мои записи. Интересно – полистайте.
«Мой последний дневник, – стала она в растерянности, не зная, как себя вести в такой ситуации, разбирать косые крупные буквы. – Сенека писал, что цель жизни каждого человека – самоусовершенствование. Можно идти к нему путём размышлений – самым достойным, подражаний – самым лёгким, и опыта – самым тяжёлым. Я, конечно, как и большинство людей, выбрал последнее. А вдруг, сам того не сознавая, иду путём подражания? Не дай Бог!»
На обороте шёл совсем другой текст: «Странная переписка у меня с сыном. Я ему пишу, но письма не отправляю. По телефону разговаривать не умею и не люблю. Сам никогда не звоню, а если он (вдруг!) позвонит, то у меня остаётся неприятный осадок от куцего разговора. Досада на себя: не так и не то говорю».
– У вас есть сын? – удивилась Инна Николаевна. – Где же он?
– В столице. Мы с ним не виделись лет двадцать. Он меня не очень жалует, и правильно делает. Плохой я отец...
– Конечно, плохой, если сын хоть раз имел счастье наблюдать вас в таком виде.
– Обычный для художника вид. Ищу высокую жёлтую ноту...
– Что?
Олег Степанович пожал плечами:
– Бизнесменам этого знать необязательно.
Говорил он с видимым усилием, и Инна Николаевна засуетилась насчёт чая, но старик только отмахнулся.
– Если хотите быть моим добрым ангелом, принесите любого спиртного. Слышите, любого!
Что-то в этой не просительной, но повелительной интонации заставило Инну Николаевну покорно побежать в соседний магазин и купить бутылку красного вина. Смирнов без удовольствия взглянул на этикетку, потом яростно ввинтил в пробку откуда-то возникший в этом хаосе штопор. Пил он прямо из горла, жадно, но не проливая ни капли.
Брезгливо отвернувшись, Инна Николаевна постояла минуту, а потом, не прощаясь, выскочила на свежий осенний воздух. Уже в своём кабинете она нащупала в кармане скомканные листочки, подобранные с пола, разгладила их и стала читать. Не из интереса, а просто чтобы успокоиться:
«На соседней улице два дня назад погибла старушка. Старушка уже не в первый раз сидела на тротуаре возле вековой акации, торговала семечками.
Автомобиль размазал старушку по стволу дерева. Это судьба или что?» Дальше, опять невпопад, совсем про другое: «Полина Виардо была знаменитой певицей, и потому её не знают, как композитора, значит, талант проглядели. Только Лист и Тургенев безуспешно пропагандировали музыку Виардо. И Михаил Врубель был сначала скульптор, а потом уж живописец. Леонид Андреев известен как писатель и совершенно неизвестен как художник. Все его полотна погибли в революцию. Бухарин и царь Николай тоже писали картины».
«В этом он весь, – уже с нежностью думала Инна Николаевна. – Делает вид, что ему не нужно признание, а сам страдает. Не уверен в себе, как мальчишка. А кто уверен? Я, что ли? А ведь ни на что не претендую, кроме как на заурядное бабье счастье. Которого тоже нет, как нет. Может быть, потому, что иду самым тяжёлым путём – своих ошибок?»
Она дотемна засиделась на работе. Домой не спешила, к Смирнову возвратиться не могла – из предательской брезгливости. Возможно, у неё не было вкуса, как иногда в пылу спора утверждал художник, но нюх, к сожалению, был. Вернее, обоняние, прямо-таки собачье, мешающее спокойно жить. Однажды Смирнов, заметив её непроизвольно сморщившийся при виде его несвежей шинели нос, заявил, что порога её салона больше не переступит.
Инна Николаевна тогда фальшиво рассмеялась и за рукав втащила гостя в свой кабинет, но это не решило её проблемы: она слышала, как даже самые ухоженные старички и старушки источают специфический аромат – запах старости, неизбежный и неотвратимый. И грустила потому, что прозревала тут и своё неизбежное будущее.
Следующий визит в нехорошую квартиру она нанесла через месяц, заинтригованная воркующим женским голосом в трубке: «Олега Степановича? Одну минутку, я позову его к телефону...»
В доме было прибрано. Страшный призрак коммуналки затаился в тёмных углах, а в лепных карнизах высоких стен, кованых узорах старинного балкона проступило нечто аристократически-величественное, под стать хозяину.
Расставленные по комнате картины, раньше скрытые марлей паутины, светились. Как и сам художник, выступивший в тесную переднюю вальяжно, словно барин на крыльцо дворянской усадьбы.
– Познакомьтесь: мой добрый ангел Лидия Ивановна, – церемонно поклонился Смирнов в сторону юркой черноглазой женщины, суетливо протянувшей руку гостье. Инна Николаевна поджала губы. «Неужели я ревную?» – спохватилась она.
Но посидела недолго – в присутствии чужих, как сразу определила она новую жену, говорить было не о чем. Быстро распрощалась, сухо пригласив Олега Степановича в галерею оценить новое поступление.
Он явился прямо на следующее утро, одухотворённый и сияющий.
Инна Николаевна, не церемонясь, напустилась на него, как старая ревнивая жена:
– Кто эта женщина?
Смирнов, казалось, очень обрадовался этому, почти семейному, скандальчику, хитро сощурился и даже откашлялся, приготовившись к длинному и красочному рассказу. Но как только Инна Николаевна узнала, что новый «ангел» – подруга той самой прорицательницы, которая свела Елену Сергеевну в могилу, мизансцена развалилась.
– А если они её отравили?! – ужаснулась Инна Николаевна. – Чтобы вашу квартиру забрать?! А вы уши развесили: ангел, ангел… Что-то много ангелов на квадратный метр вашей площади… Вы же умный человек, неужели всерьёз верите в смерть от предсказаний?
– Да нет, официально Леночка умерла от сердечного приступа... – оправдывался растерявшийся Смирнов.
– Ах, от приступа! Так что же вы мне голову морочили?!
…Инне Николаевне вдруг стало стыдно. «Какое право я имею распоряжаться? Кто я ему, в конце концов? Жалеешь старика – не кричи, а возьми над ним шефство. Как тимуровец...» Вот этот «тимуровец» показался ей таким смешным, что она успокоилась, напоила Смирнова кофе и попросила быть бдительным. Мало ли что...
А он положил ей на стол очередной кусок дневника, на который она накинулась, как на лакомство, едва за гостем закрылась дверь.
«Я пытаюсь навязывать людям свои советы, свои идеи, а людям это совсем не интересно. У них хватает своих идей и не хватает времени. Время – это единственное, чем мы располагаем. Пустые разговоры – типично старческая черта. «Дело надо делать, господа!» Каждый представляет собой то, что он успел сделать со своим временем».
Инна Николаевна перечитала последнюю фразу и подумала, что для большинства людей вопрос стоит совсем иначе: что время успело сделать с ними? А оно успело самое вероломное: превратить их в стариков. Вечно раздражённых, сердитых на весь свет из-за невозможности перелицевать жизнь, начать её с чистого листа, без промахов и проигрышей. И лишь уникумы, такие как Смирнов, до ста лет беззаботно, словно воробьи в весенней луже, чирикают и строят планы на будущее. Оттого и яркие краски на холстах, и новые, скороспелые жены…
...Наступила зима, но ни визитов, ни звонков от Олега Степановича не было. Инна Николаевна закрутилась в своих делах, съездила в командировку в Москву, потом вырвалась на неделю в Египет – к верблюдам и Красному морю. Уже на второй день бесцельного лежания на пляже она заскучала и припомнила давний разговор со Смирновым о разного рода удовольствиях.
– Что такое отдых, радости жизни, наслаждение, в конце концов? – вопрошал старик, глотая обжигающе-горячий, как он любил, кофе. – Это же вещь сугубо интимная! Кто сказал, что замок в Испании или прогулочная яхта – предел всех мечтаний? А если я боюсь привидений или у меня морская болезнь? А? Для вас вот какие минуты в жизни самые счастливые, покойные, радостные?
– Ну... не знаю, – задумалась собеседница. – Может быть, сидеть в уютном кресле, читать хорошую книжку, и чтобы за окном шёл дождь… Такой, знаете, нудный, мелкий, осенний. И чтобы абажур на лампе светился жёлтым светом, и тишину нарушал только шорох капель по стеклу…
Похоже, в тот день Инна Николаевна, «мадам Суматоха», как метко окрестил её Смирнов, находилась в хорошем расположении духа и никуда не спешила, поэтому позволила себе капельку романтики... «А ведь прав старик, тысячу раз прав! – рассматривала она сейчас соседей по пляжу, лениво перелистывающих детективы или вяло переговаривающихся о морских ежах и ценах на золото в местных магазинах. – Большинство сюда ездят, потому что модно. Вот и я туда же, куда все. Старик бы меня осудил…»
Она вернулась домой накануне Нового года и, укладывая в пакет восточные сладости, с тайным злорадством представляла разочарование старика. «Ну не бутылку же ему нести, он ведь теперь остепенился. Женился…», – усмехалась она про себя.
Но Смирнов, сидевший посередине обычной квартирной свалки нахохлившись, как больная птица, гостинец встретил благосклонно.
Сквозь распахнутый настежь балкон в комнату летел снег, и мягкие сугробы укрыли пожухлые листья герани, пустые тюбики из-под красок, грязно-зелёную казачью фуражку, надвинутую на самые уши хозяина.
– А где же ваш ангел? – ахнула Инна Николаевна.
– Улетел, – ответил старик.
– Через открытый балкон?
– Вы же не любите дурных запахов, вот я и проветриваю комнату, – вяло, без выражения, парировал он.
– Олег Степанович, я хочу вам помочь, - умоляюще сложила руки Инна Николаевна. – Давайте я позвоню сыну в Москву.
– У меня внук ближе, в Ростове. Уже взрослый. Не появляется с тех пор, как я ему эту квартиру подарил...
Инна Николаевна онемела. Так вот отчего улетают ангелы!
«А сама ты? – тут же одёрнула она себя. – Святая? Признайся, ведь было, было, искушение... Квартира-то в центре, в старинном особняке… Но я бы за ним на самом деле ухаживала, не бросила... – тут же оправдалась она. – Я бы исполняла супружеский долг!» И усмехнулась, вспомнив, как при очередном, уже шутливом разговоре на тему женитьбы, спросила Смирнова о том, что она должна будет делать в качестве его жены, и как тот без запинки ответил: «Всё!»
При этом так подбоченился и сверкнул глазами, что пришлось, сконфузившись, срочно призвать Леночку с кофе.
…После Нового года Смирнов явился в галерею трезвый и даже не очень помятый.
– Опять ангел залетел? – съязвила Инна Николаевна.
– У меня единственный ангел – вы! – не принимая ироничного тона, ответил он.
– А вам, я знаю, нужна духовная пища. Поэтому пришёл записать в ваш блокнот стих, рождённый в новогоднюю ночь. Хотите?
Обычно Смирнов декламировал свои и чужие строчки громко, с выражением, входя в роль и собирая зрителей. Сейчас же, молча и сосредоточенно исписав страницу, и, не дожидаясь оценки, убежал, как будто куда-то опаздывал. Написал он много, но Инна Николаевна смогла разобрать только первые шесть строк:
Мы тишину уже не замечаем.
Грохочут выстрелы, сверкают блицы.
Под Новый год на радостях стреляют,
Как будто все – и террористы, и убийцы.
Хочу понять – не понимаю,
Ну почему я не стреляю?
…А ближе к весне пошли странные времена. Смирнов не только не заходил, но и упорно не отвечал на звонки. Ни телефонные, ни в дверь. Инна Николаевна даже пошла на поклон к его соседям, которые, понятно, ненавидели богему, а художника считали сумасшедшим и мечтали вытурить его из своего благополучного дома.
– Живут у него какие-то подозрительные типы, – обозначилась через цепочку острая лисья мордочка. – Пьют или ещё что, нам неизвестно.
– Да он сам жив ли? – не отставала Инна Николаевна.
– А кто его знает. На той неделе вроде шёл мимо окон в шинелишке своей...
Инна Николаевна позвонила участковому милиционеру, который намедни очень настойчиво предлагал свои услуги и даже раздавал визитные карточки на квартале – видимо, по команде начальства. Но страж порядка только потоптался у закрытых дверей, покашлял для солидности и удалился восвояси, как ни держала его за рукав Инна Николаевна. Похоже, такие клиенты ему не интересны.
...В один из тёплых мартовских дней она всё-таки высмотрела, как колыхнулась грязная шторка в окне нехорошей квартиры.
– Олег Степанович! – закричала она на всю улицу, вспугнув не только прохожих, но и окрестных ворон, поддержавших её дружным карканьем.
– Он болеет … – ответствовала с балкона какая-то подозрительная личность.
– Мне нужно с ним поговорить, откройте, это важно! – настаивала Инна Николаевна.
Личность молча уползла за занавеску. Потом появилась вновь:
– Он сейчас спустится...
...Ожидая старика, Инна Николаевна чувствовала, как закипает в ней злость и уходит страх. Сильнее бандитов она боялась подвоха.
Жан-премьер – большой любитель разыгрывать спектакли, в том числе детективные, и не исключено, что все эти тёмные постояльцы – актёры для его постановки… Внутренний монолог прервал спустившийся со ступенек, как со сцены, старик.
– Послушайте меня, – Олег Степанович был бледен, худ и космат, говорил быстро, тихо и невнятно. – Я связался со страшными людьми. Беженцы. Наркоманы. Ведут себя странно, спят в одной постели, курят траву. Свезли ко мне какие-то узлы и лишают меня возможности подходить к телефону...
Инна Николаевна даже зарумянилась от испуга и волнения, но вдруг заметила испытующе-хитрый взгляд из-под кустистых бровей. «Да он всё-таки играет, что ли... – растерялась она, – ну, что за манера! Ни слова в простоте! А я опять верю ему, как дура!» Но браниться на всякий случай не стала, чтобы потом не раскаиваться. Сказала только, что сообщит о постояльцах в милицию.
– Да-да, в милицию. Непременно в милицию! – с какой-то фальшивой и поспешной готовностью подтвердил Смирнов. – А теперь о главном: вы роскошно выглядите, Франческа Гааль!
И он легко, очень ласково провёл рукой у неё над головой, не коснувшись волос. Как будто прочерчивал нимб…
Прошла ещё неделя, и раздался звонок:
– Если не желаете моей смерти, принесите любого спиртного!
Инну Николаевну неприятно кольнуло ощущение дежавю, но она опять бросила дела и рванула в ненавистный уже старинный особняк. Свита Воланда испарилась, оставив после себя свежие кучи мусора, посреди которых привычно восседал старик. Он обвёл гостью мутным взором, трясущимися руками схватил маленькую бутылку коньяка, опустошил её и облегчённо выдохнул:
– Вы мне принесете ещё, а? – и, поймав гневный взгляд, умоляюще сложил руки.
– Берите картины, берите, сколько унесёте!
– Да не нужны мне ваши картины! – уже благим матом заорала испуганная гостья. Ей показалось, что Смирнов вот-вот испустит дух. – Мне нужны вы! Вы! Дайте мне адрес и телефон ваших родственников, есть же какие-то сватья-братья в этом городе! Дайте!
Старик упрямо покачал головой. Потом протянул очередной мятый листок:
– Ну, хоть это сохраните, вдруг после смерти знаменитым стану. В его голосе прозвучала такая горечь, что Инна Николаевна присела на краешек дивана и стиснула его руку.
– Конечно, станете. И даже при жизни.
Но тут пришла очередь возразить Смирнову.
– Знаете, как Ван Гог говорил о творчестве? Это всё равно, что пробиваться сквозь железную стену, отделяющую то, что ты чувствуешь, от того, что способен передать. Я так и не передал миру того, что я чувствовал. Впрочем, – он слабо усмехнулся. – Ван Гог тоже в этом был уверен.
Инна Николаевна едва сдержала слёзы. Она знала, что только в молодости смерть кажется чем-то из ряда вон выходящим. Нужно непременно разбиться на самолёте, потерпеть кораблекрушение, быть сражённым вражеской пулей... А чтобы вот так просто, легко, взять и умереть – это кажется невероятным! Первый опыт такого рода она пережила, ухаживая за отцом, который после инсульта прожил всего несколько коротких дней. Он то приходил в себя, гладил её по голове и спрашивал, почему она плачет, то куда-то рвался, с кем-то горячо спорил, но в целом был, казалось, и умён, и силён, и полон жизненных сил, как вдруг страшно захрипел и закрыл глаза... Она никого не позвала, сидела рядом, запоминая, как бледнеют его щеки, становятся восковыми пальцы. Трогала лоб, который начинал сковывать лёд... и вот это потрясение от осознания простоты и ординарности смерти запомнилось ей навсегда.
Так что когда на пороге её галереи появился незнакомый человек и обвёл оценивающим взглядом коллекцию картин на стенах, она поняла, что всё свершилось...
– А у вас тоже есть работы Смирнова? – притворно удивился он. – Да, щедрый был человек, раздаривал налево и направо.
Инна Николаевна побагровела от гнева и стыда, а потом сухо ответила:
- Картины все с дарственными надписями. Можете проверить.
- Ну что вы! Старик, я наслышан, был очень к вам расположен. Так что я не в претензиях, – человек приложил руку к груди. Очень знакомый жест.
...Уже в одиночестве Инна Николаевна наплакалась всласть. На этот раз в уход Смирнова она поверила сразу и безоговорочно, и слёзы, как ни странно, принесли ей облегчение. Она будто успокоилась оттого, что сброшен, наконец, груз ответственности за этого неуправляемого человека!
…Тоска же опрокинулась на неё через неделю, причём такая концентрированная, как будто кто-то с небес вылил на неё целое ведро чернил. Инна Николаевна прислушивалась к шагам на лестнице, вздрагивала от мелькнувшего в окне пятна цвета хаки, без конца разглаживала и складывала записочки на мохнатых листках бумаги – его «завещание», но чернота не отступала.
«Крохи… Мне достались от него лишь крохи. И даже этого хватало, чтобы утолять голод и насыщаться! А сколько всего он рассыпал по жизни? Ведь был молод, умел, остёр, смел… Воодушевлён ролями, женщинами, идеями, иллюзиями… Я-то застала даже не осень, а зиму патриарха и то успела погреться!» – думала она, и ей показалось, что и её персональный хронометр стал спешить.
Как вагончики через полустанок по рельсам: тук-тук – один день, другой, третий... И вот уже виден хвост поезда, горят в полутьме сигнальные огни... Умом она понимала, что ещё рано задумываться о вечном, но душа сама выбирала другой ритм. Она полюбила подолгу стоять у картин, особенно «несчастненьких», обречённых на коммерческий провал, много и разбросанно читала, нашла, наконец, толкование не дающей ей покоя фразы о высокой жёлтой ноте. Оказывается, ещё три тысячи лет назад китайцы считали жёлтый цвет главным в палитре красок и называли его «нотой земли». А Ван Гог, с которым «Смирнов нигде не учился», всю жизнь искал особый, «высокий», оттенок жёлтого, и делал это, как заведено у всех этих неуправляемых, гениев, с помощью абсента...
Инна Николаевна даже поехала в Амстердам, в музей Ван Гога и убедилась, что да, старик определённо подражал ему: вот так же обводил предметы чёрным контуром, предпочитая чистые, ясные тона…
Инна Николаевна всматривалась в «Красные виноградники», «Жатву», «Натюрморт с сосновой веткой», пыталась разглядеть за картиной создателя…, но не могла уловить в своём сердце никакого отзвука.
«Так что же остаётся от человека? – спрашивала она себя. – И что, в конце концов, важнее – мы сами или плоды наши? «Подсолнухи», оценённые в миллионы долларов, нисколько меня не трогают, а вот от этой печальной дворняги с разноцветными глазами, которую принёс мне старик в один унылый осенний вечер, мурашки бегут по коже. Может быть, оттого столько подделок в коллекциях по всему миру, что по-настоящему чувствовать художника могут только знающие, любящие его люди? Выходит, важнее всё-таки человек?
Вот ведь нет Смирнова, и пустоту эту никто никогда не заполнит...
Ухожу из жизни с удовольствием,
Не кляня эпоху, не хваля.
Может, и по части продовольствия
Людям будет легче без меня...
Инна Николаевна любовно разгладила смятый лохматый листок («Это к моему завещанию!» – выпятил грудь старик и потешно поднял очи горе), представила, как бы он потешался сейчас над её философскими потугами, и подошла к зеркалу. На неё смотрела немолодая, сердитая дама с потухшим взглядом и глубокой складкой между бровей – морщиной гнева.
– Франческа Гааль… – доложила она своему отражению в зеркале и усмехнулась. – Портрет незнакомки кисти неизвестного художника конца ХХ века...
И вдруг скорее почувствовала, чем увидела, как засветился у неё над головой нимб, прочерченный в воздухе его невидимой рукой…
Лариса НОВОСЕЛЬСКАЯ
Как я не стал членом Союза писателей

На Сахалине в самом начале восьмидесятых со связью было совсем туго. Домашние телефоны были редкостью. А служебного я ещё толком не заслужил. Впрочем, у меня всё же возможность звонить по Сахалинской области была. Раз в три дня, согласно вахтенному расписанию, до меня можно было дозвониться на работу из Южно-Сахалинска. В смысле, даже если не только по работе. На телевизионную вышку на высокой горе над городом Невельском, что на юго-западном берегу острова. Я там работал радиотехником обеспечения ретрансляций «ТББ» – Телевидения Брежневского Благополучия.
Вот туда-то, в наш вагончик с аппаратурой, где я отрабатывал свои 24 часа смены, куда никто до того не заглядывал никогда в жизни, вдруг ближе к вечеру, зимой, вваливается бригада подмороженных мужиков и одна девушка. Причём снизу они шли вверх по сугробам пешком! В гору с уклоном 30 градусов и с километр подъёма по снегу – нет таких машин в природе. А эти герои притащили на себе ещё и киноаппаратуру. Были ещё упёртые журналисты в те времена!
Это была съёмочная группа Сахалинского ВГТРК. Мужики пёрли тяжелейшие камеры, свет, аппаратуру для звука и редакторшу. Имя её не вспомню, но – молодая, самоуверенная, красивая, наглая, стройная. Тут ещё нужно уточнить, для тех, кто не совсем в курсе. «Камера» в начале восьмидесятых, это не сегодняшняя японская фигня в кулачке, а такая, что вместе со штативом и аккумуляторами весит кг …тридцать. А «Свет», это не современные неонки «1 кг – осветишь Кремль», а железные фонари, только с линзами по полкило каждое. Их конструкцию киношники и телевидение, запросто и естественно, слизали у театральных подсветок. Поэтому там ещё и были «софиты», белые зонтики, зеркала и т. д. Про звук я вообще молчу! Там они притащили ПУЛЬТ! Редактор-журналист была непреклонна! Мне был до этого какой-то странный звонок. – Вы на работе?
– А где бы мне ещё быть?
И эта, молодая и креативно «вся из себя журналистская», леди, попёрла всю съёмочную группу в гору.
Мне было их жаль. Я, конечно, тут же напоил их горячим чаем. И не только чаем. Было в вагончике в закромах. Для протирки важных клемм. Пару килограммов. На самый пожарный случай. Ребята стали с каждой рюмочкой отогреваться и сразу заворчали, как мотор, которому под капот засунули обогреватель. Журналистка-монстр не дала им слова. Я, правда, не понимал совершенно, что они тут делают. К тому же вышки ТВ – это в те времена были объекты из разряда особо охраняемых. Инструкциями. В наш вагончик я даже не имел права никого впускать. Но молодая мегера, замершими пальчиками с фиолетовыми ногтями протянула мне разрешение на съёмку. Подписано моим начальством в области.
Я оторопел. Там, в этом «Разрешении», была написана моя фамилия. Мол, «для съёмок на рабочем месте». «А я-то тут причём?» – совершенно искренно даже не удивился…а поразился я?
Разговаривая со мной, как с дебилом из профилактория имени Фёдора Достоевского, она, закусывая моей, на остальной день до утра рассчитанной едой, сказала: «Вы что, Сергей Геннадьевич, ничо не понЯли? (Ей рюмки хватило). Вы победили в конкурсе рассказа в нашем, (икнула), этом областном конкурсе писателей, поэтов, композиторов. А это проводится раз в четыре года! Вы ПОБЕДИТЕЛЬ! У вас теперь (Ик!) – все двери открыты!»
Я …охренел! Я там что-то отсылал года полтора назад, но не на конкурс, а приятельнице из молодёжной газеты. Но забыл об этом уже начисто.
– Давайте уже снимать! Ты… Вы… Ты что-то тут делай, …паяй, например, Сергей Геннадьевич. А мы снимем!
– Меня можно просто Сергей. Вы бы всё же проверили. Может, ошиблись, – с опаской попросил я, кивая на телефон.
– Никакой ошибки нет! Мы о тебе говорили в редакции. Эти наши старые хрычи вынуждены были тебе Первую Премию дать! Хотели, естественно, Самигуллину всучить. Как всегда. Но он уже сдал по возрасту. Ему уже за семьдесят. Написал за эти четыре последних года два рассказа. Бред! Старческий маразм! Но так глубокомысленно! И повесть. Сейчас вспомню… А! «Камушки Татарского пролива». Я тебе скажу – у Солоухина идею слизал! «Камушки на ладонях» читал? Нет, конечно! Я сама почитать у одного москвича-корреспондента выпросила на ночь. А тут ты со своим авторским свежим ручьём. Самого Самигуллина завалил! Так что – «Татарам – Татарский пролив»! А не первая премия! А ты, пацан, не расплескать! Ты пишешь, как слышишь. Правду. Не «Ура-ура, в ж..е дыра!» Не стесняешься. И не боишься. Работяга. От сохи. И к тому же… тебе ведь…
– …Двадцать два, – подсказал я. Почему-то вспомнил бабушкины «Два гуся» в лото на этой цифре на бочонке. И застеснялся.
– О! Тем более! Свежая кровь! – просто объяснила она мне литературный сахалинский политес и обратилась к своим рабам:
– Давайте уже снимем его под закадровый текст. Звук не надо!
– А что я тогда тащил в эту гору всю эту хрень? – обиделся уже засыпающий, но бодрящийся звукооператор.
– Утром меня с видом на океан с этого «Казбека» снимем. Стенд-ап.
Вот такого малолетнего они меня и сняли, как положено. Я припаивал к какой-то плате с тогда ещё современным ламповым оборудованием огромный фаянсовый резистор. Даже помню, что на 50 Ом. Он свой уличный блок аппаратуры согревал. Буквально. Где это надо. Я припаивал его туда, куда не надо. Для аппаратуры. А для «картинки» работающего писателя-энтузиаста – прямо в точку. Паяльник пускал в потолок дымок от канифоли. Я делал лицо задумчивого интеллектуала. Стараясь не замечать, как наша журналистка ещё сама себе пару раз наливала. И стала подрёмывать.
– Я тебе так скажу, – возбудилась вдруг проснувшаяся от масштабов моего будущего, уже было засыпающая теледива. – Мне это про тебя моя родная педагог, очень хорошая, вчера… позавчера… сказала: «Вот соблазни такого идиота талантливого, как Кащеев! Замуж за него выйди. И горя не будешь знать…, он работяга. И пишет хорошо. Не напишет, так заработает на основной работе. Не как твои писулькашки. Коллеги. Только языком молоть. А как из редакции выкинут, так только и пьют. Богема, мол, бляха муха! Завтра же напросись про него репортаж снять! На работе, дома… я вот и… поехала…, блин. Уехала…» Тут она окончательно уснула. Причём с храпом.
Мы уложил её на мою постель. Ребята помогли перенести из кресла. И возрадовались. Достала она их, конечно, по-чёрному. И мы так классно с ними ещё посидели…
Вся съёмочная группа решила в ночь не спускаться в гостиницу. Не нашла сил. Заночевала у меня на матрасах на полу. Я натопил печку, расстелил, всё что возможно.
Утром, отсняв стэнд-ап с неожиданно бодрой в кадре журналисткой, мы пошли с этой горы ко мне домой. Все усталые, снежным настом выскобленные, чуть-чуть с похмелья. Эта тележурналистка меня по дороге домой соблазняла потихонечку. Но я был уже женат. Когда она это (!) узнала уже в моей квартире, где ещё и Женя была. Дочь. Она примолкла. Меня снимали эти пацаны, телевизионщики, с особой благодарностью. Снимали на кухне. В тесноте. Так что наливание и выпивание не были видны ни жене, ни журналистке.
Женщины скучали в комнате.
Этого репортажа о победителях конкурса я так и не увидел. Промохал как-то. А с Южно-Сахалинска никто не позвонил. Не предупредил.
Я приехал в Южный уже по приглашению «Союза писателей СССР». В письме заказном прислали. Поехал в чётко названное в приглашении число, месяц и время. Меня никто на вокзале не встретил, само собой. Я двинулся по адресу, указанному на пригласительном. Оказался вовремя в зале какого-то Высокого Собрания, где вручали награды. Оказалось, что такую премию вручают раз в четыре года. Прямо, как чемпионат мира по футболу.
Сижу в зале. Потолки рассматриваю. А там идёт на сцене всё своим чередом. Награждают поэтов, композиторов. Отдельно поэтов-песенников. Даже хоры поют. Исполняют песни-победителей.
Тут хор поёт какое-то попурри на стихи к песням популярного официального сахалинского поэта. Я замираю. Ничего понять не могу! Все нормально всё воспринимают. Но я в одной из песен хора слышу потрясающий ляп! Город Оха на севере Сахалина, теперь известен, как районный центр с бывшим городом Нефтегорском. Его позже полностью разрушило во время землетрясения. Просто сровняло с землёй. Тогда только про Оху в стране узнали. Но это всё было ПОСЛЕ. А тут я сижу и недоумеваю над песней про город Оха. Чуть позже объясню.
Тут вызывают на сцену меня. Вручают премию в конверте. Цветы. Какой-то маститый писатель объявляет, что мой рассказ включён в литературный альманах «Сахалин», который скоро выйдет из печати. А мне шепчет, чтоб я сегодня не уезжал. Банкет, мол, будет. И за премию расписаться нужно.
Нас везут на ВГТРК. Там прямой эфир «Литературного вечера». С лауреатами. По прозе, стихам, музыке. Напомню – 81-ый год. Там «рогатульки-камеры» стоят. Свет накрывающий. Тогда в записи было делать дорого. Всё, что не в студии, на плёнку тогда снимали. И тут! Во время прямого эфира, вдруг, мне, для поддержания разговора между лауреатами, поэт и автор песни про Оху, говорит:
– Знаете, Сергей Геннадьевич, а мне понравилась ваша проза! Но меня несколько насторожило, что, я уже что-то такое читал?! Похожее. Где-то в журнале «Юность». Там также печатают всяких мечтателей… рабочих специальностей. Это, конечно, так и надо. Но нужно, всё же, молодым писателям чи-та-ть, что до них и для них было написано!
Типа я чукча конопатая. Только что из туалета, и руки не помыл.
Вот так вот назидательно «уколол». Потом мне рассказали, что этот «фектовальщик» – председатель Союза писателей Сахалина, и отстаивал в победители конкурса своего друга. Того самого Самигуллина. Но за меня стояли горой на комиссии молодые литераторы. Меня его «укол» несколько завёл. И я в прямом эфире ему ответил, что меня тоже насторожила его необычная строчка в его песне. И процитировал: «Оха – красивый город. Оху ли не любить!» А именно такая строчка прозвучала в песне. Как уж этот ляп прошёл без поправок – ума не приложу! Моя цитата стала криком мальчишки из сказки – «А король-то голый»! Все вдруг разобрали словосочетание.
Я это сказал и замолчал. Всё же прямой эфир. Лучше помалкивать в тряпочку. А тут начали падать из-за камер операторы. Потом посыпались редакторы, гримёры, осветители. Смех в голос все сдерживали. Но общую реакцию председатель Союза писателей видел. Покраснел так, что даже волосы заалели. Гости за столом, остальные лауреаты, прикрылись от камер кулаками и ладошками и незаметно тряслись.
Ведущая всё же взяла себя в руки, глубоко задышала и стала ситуацию разруливать. Мне больше слова не давали. И на банкет забыли пригласить. Пошёл в гостиницу. Благо, премию-то я всё же получил. Наличными.
На следующий день я забежал в редакцию местной молодёжной газеты «Молодая гвардия», где работала моя приятельница, когда-то уговорившая меня прислать ей мои рассказы. Она, как оказалось, и двинула один из них на конкурс. Меня не спросив. Увидев меня, вдруг тут же выскочила из кабинета и через пару секунд ввалилась вместе со всей молодёжной редакцией. Меня поздравляли, и все ржали, как лошади. Оказывается ВСЕ эту «литературную беседу» накануне смотрели. И это моё замечание про песню стало бомбой и анекдотом не только в окололитературных кругах Сахалина, но уже и в Москве. (В Южном с телефонизацией было всё нормально). Именно с этим меня, похоже, и поздравляли.
Правда уже за импровизированным столом, (закусывали папоротником, пен-сё, морской капустой, гребешками и чим-чёй) мне честно и с долей грусти посоветовали с Сахалина уезжать. Мол, «теперь тебе тут писательской карьеры не сделать». Посоветовали начинать всё сначала где-нибудь на материке. «Наши деды-динозавры тебя скушают и мослы бросят в море с крутого бережка, далёкого пролива Лаперуза».
Через несколько месяцев узнал, что мой рассказ даже и из литературного альманаха «Сахалин» умудрились вычеркнуть. Места не хватило. Напечатали Самигуллина. А вот молодёжная газета мой рассказ «Кросс» напечатала! На целый разворот. Молодцы, конечно! Я вот вчера нечаянно свой архив разбирал. Наткнулся на пожелтевшую газету. Вот и вспомнил…
Сергей КАЩЕЕВ
Другой конец света

Слово об авторе
Новосельская Лариса Ивановна родилась в 1952 году в станице Динской. Окончила Кубанский государственный университет. Начинала свой журналистский путь в республиканской газете «Марийская правда». Работала собкором газеты «Советская культура» в Марийской ССР.
Сейчас живёт и работает в Краснодаре. Была обозревателем газеты «Советская Кубань», стояла у истоков газет «Краснодарские известия» и «Кубанские новости», была главным редактором газет «Вечерний Краснодар», «Тема», «Улица Красная», молодёжного журнала «Здравствуйте!», директором книжного издательства.
Все годы, несмотря на большую журналистскую нагрузку, Лариса Ивановна писала рассказы, эссе, повести, много путешествовала по миру, и Европа, Африка, Китай, стали не только декорациями для художественных или публицистических произведений, но и возможностью посмотреть на свою страну со стороны, разглядеть самобытность, неповторимость судеб соотечественников.
Сегодня лауреат премии «Золотое перо Кубани», звания «Заслуженный журналист Кубани», член Союза российских писателей Л. И. Новосельская возглавляет Представительство Союза российских писателей в Краснодарском крае, работает с начинающими поэтами и прозаиками.
«Л. И. Новосельская – журналист и прозаик. Как журналист она работает с реалиями и настроениями сегодняшнего дня, изучая и отражая жизнь современной Кубани.
Как прозаик она работает с эмоцией сострадания, горько думая о том, почему мы такие? Такие же, собственно, как увиделось Александру Блоку сто с лишним лет назад: «Что бы ни сделал человек в России, его, прежде всего, жалко. Баба, кому кричишь, всё равно ветра не перекричишь. Мужик, зачем лезешь во второй класс, всё равно не пустят!», – анализирует рассказы и повести Новосельской московский литературный критик Е. Н. Иваницкая.
– Баба Таня в рассказе «Баба Таня» страдает, не смея признаться себе, что страдает.
Подкаблучник-сын её не замечает, невестка ею помыкает¸ внучка-подросток только огрызается. Ещё и завели щенка на бабину голову – мало ей в доме работы. Но баба Таня привязывается к щенку, хотя чувство вспыхнувшей любви постоянно подавляет.
И вспоминает баба Таня, что к маленьким сыновьям своим она относилась так же. «Когда они выбегали за калитку встречать её с работы, она и тогда зажимала это пьяное безоглядное чувство любви. Знала, что не поймут её ни муж, ни свекровь. Словно захлопывала в душе потайную дверцу и вешала на неё тяжёлый замок. Но и поплатилась за это: сыновья выросли неласковыми, чужими».
Почему мы любим, а любить не умеем? Вопрос без ответа, – пишет критик. – Когда баба Таня умирает, невестка голосит на похоронах, внучка с удивлением смотрит на мать и ночью плачет. Сын слышит её всхлипывания, но молча смотрит в потолок, «словно надеясь прочесть там что-то очень важное, чего за всю жизнь так и не понял».
Этот чеховский мотив и это безответные вопросы старика Якова Бронзы из рассказа «Скрипка Ротшильда»: «Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену? Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу!»
Своеобразие, оригинальность и в то же время узнаваемость, типичность отличает героев повестей и рассказов «Артист погорелого театра», «Последний шанс», «Пани Валевская» и других. Все они выписаны объёмно, ярко и, что самое главное, с теплотой, пониманием и безграничной любовью. Эти герои, по русской литературной традиции, «вышли из гоголевской «Шинели». Они – «маленькие люди» большой страны, которая не знает в своей истории ни затишья, ни покоя, ни любви к населяющим её людям.
«А вот это действительно повести в том классическом варианте, который описал Белинский.
«Листки из жизни», в которых отражается вся жизнь, – экономные в средствах, построенные на типическом сюжете с типовыми героями, но… прочитал одну – ещё хочется. Потому что заставляют думать и грустить», – такую рецензию книге Л. И. Новосельской «Высокая жёлтая нота», представленную на литературную премию имени Белкина, дал российский литературный журнал «Знамя».
Последняя книга Л. И. Новосельской «Бедные мы, бедные» вошла в шот-листы российских литературных премий имени В. Распутина и Н. В. Гоголя.
Редакция «Новой газеты Кубани» желает своему автору дальнейших творческих успехов и широкого читательского признания и представляет рассказ «Другой конец света».
Когда к перрону подкатила яркая, сияющая огнями двухэтажная электричка, Павел только выдохнул:
– У-у-ух какая!
– Красивая? – с нескрываемой гордостью спросила Аня-тян, его персональный гид по Китаю.
– Ужасно красивая! – как мальчишка воскликнул он.
Аня прыснула в кулак:
– Русские – такие смешные! Сначала говорят «ужасно», а потом «красиво».
Они вошли в новенький, ещё пахнувший свежей краской вагон, сели в кресла с высокими, покрытыми белыми кружевными салфетками подголовниками, и Павел с нетерпеливым любопытством стал разглядывать пассажиров.
В чужой стране его интересовали не «колизеи», как он называл достопримечательности из туристических справочников, а люди.
Сначала вглубь вагона его взгляд так и не проник, задержавшись на соседях напротив: улыбчивом молодом человеке, который по восточной традиции «любезность и церемонность» кивал ему всякий раз, когда Павел встречался с ним глазами, и такого же доброжелательного старика с удивительно моложавым, без морщин, лицом.
«Надо же! Другой конец света! А как похож!» – ахнул про себя Павел, и сердце его тут же зашлось от привычной боли.
«Тоска из фазы ремиссии переходит в стадию обострения», – попытался он справиться с собой, в то же время понимая, насколько это бесполезно.
…В облике его отца всегда сквозило что-то восточное. Узкий разрез карих, ярких глаз, свежая кожа, натянутая на скулах, крупные и крепкие зубы.
В последние годы он тихо сидел в дальней комнате на диване, положив на лоб сухой носовой платок, якобы спасающий от головной боли. Когда его просили прилечь, отдохнуть, вот с такой же китайской улыбкой отвечал:
– На кладбище отдохну.
Павел до сих пор не понимает, как он мог равнодушно проходить мимо этой величественной и беспомощной фигуры, усмехаться про себя, вспоминая книжные определения типа «осень патриарха», и не подсесть к отцу, не взять его за руку. Да хотя бы смочить холодной водой этот несчастный платок, который будет теперь укором сопровождать его до конца жизни, как булгаковскую Фриду…
Аня-тян, заметив интерес туриста к соседям, добросовестно принялась рассказывать, что это сын сопровождает отца в поездке к родственникам. Что одних стариков отпускать в Китае не принято, даже бодрых и здоровых.
Её высокий голос звучал заученно ровно, она очень старалась правильно строить длинные фразы на чужом языке. Но Павел уже не слушал, охваченный знакомой тоской, которая накатывала, как прилив, и с которой, он знал, тягаться напрасно. Проще погрузиться в неё и ждать, когда она, как вода, омоет все расщелины памяти. Лишь тогда станет легче.
А пока он задавал себе привычный, как «что делать – кто виноват» вопрос: почему предательски бросил отца в то утро? Ведь старик, как ребёнок, надеялся на него и ждал.
– Сынок, когда же мы поедем на рыбалку? – голос прозвучал так рядом и громко, что Павел даже вздрогнул и с надеждой посмотрел на китайца. Тот, конечно, закивал головой и заулыбался.
Павел тоже растянул в улыбке губы, чувствуя, как к глазам неудержимо подступают слёзы.
…В тёмном пыльном сарае, куда Павел после похорон старался не заходить, в самом углу, запутавшись лесками, стояли удочки, штук десять, не меньше. В былые времена отец, наводя порядок среди стамесок, отвёрток, рубанков и других орудий домашнего производства, выволакивал удочки на солнышко и долго мудрил над ними, прилаживая блесну или крючок, полируя удилища и латая суровыми нитками садки.
А потом наступало особое, воскресное утро… Ровно в пять часов сильные ласковые руки сгребали Павла вместе с одеялом и укладывали на заднее сиденье «Москвича».
Пока они ехали к речке, в село Красносельское, за окном светало, и тополя, бегущие вдоль дороги стройными рядами, из зловеще-чёрных превращались в нежно-зелёные, а потом, пронизанные первыми лучами солнца, светились изумрудами.
Павел и спал, и не спал, и грезил, и бессвязно о чём-то думал, купаясь в рассеянно-туманном свете, уюте и зародышевом покое.
Через годы, когда он, раздавленный взрослыми проблемами, ворочался в кровати без сна, усилием воли заставлял память, как объектив фотоаппарата, сфокусироваться на этой дороге и широкой спине отца, заслоняющей от огромного тревожного мира. И Павел тут же чудесным образом успокаивался и, защищённый прочной крепостной стеной, засыпал, видя во сне розовое утро и рыжего мальчишку, стоявшего на обочине. Отец всегда останавливался и сажал его в машину, смешно называя «хлопчиком».
Потом тут же, во сне, наступала ночь, и уже сам Павел яркими фарами своего «Форда» высвечивал на обочине одинокую фигурку с поднятой рукой и, не снижая скорости, пролетал мимо. Сразу накатывала тоска, и, как ни убеждал он себя, что время сейчас другое, в глубине души твёрдо знал, что отец бы так никогда не поступил, не оставил одинокого человека на пустынной дороге.
И Павел опять просыпался, и долго лежал, глядя в сереющее окно, и тянулся мыслями в прошлое.
…Улов, как правило, был невелик – пять-шесть солидных карасиков. Прочую мелюзгу, по совету отца, он возвращал речке: пусть плывут, растут, живут!
О чём, кроме крючков и наживок, разговаривали они в те зыбкие утра? Да и говорил, и слушал ли Павел тогда или думал о своём, о важном? К счастью, у отца, человека компанейского, даже в неурочный час на пустынном берегу находился собеседник. Из тумана, как правило, выныривал мужичок рыбачок, приветливо здоровался и почтительно интересовался:
– Как жизнь, Иван Семёнович?
– Прошла! – радостно сообщал отец и, легко входя в роль закадычного друга, начинал балагурить:
– Ну что, Петрович, машинка работает?
Мужичок притворно возмущался:
– Да ты что, парторг, какая машинка? Да и Васильевич я, а не Петрович!
– А, ну да, Васильич, – нисколько не смущался отец. И гнул свою линию:
– Ну так как, на семейном фронте, воюешь?
– Отвоевался, скоро шестьдесят стукнет!
– Так ты же хлопчик, по сравнению со мной!
И начинался разговор «за жизнь», который Павлу в ту пору был непонятен и неинтересен.
Это сейчас бы он, балбес, расспросил отца, из каких они вышли казаков, за что закололи штыком деда, что случилось с сестрой отца, угнанной в Германию. Но пока отец был жив, у него как будто и прошлого не было, одни только семейные анекдоты.
– Воевал на Малой земле? Так может и с Брежневым виделся?
Отец хитро прищуривался и вяло подтверждал, что да, встречал в окопах дорогого Леонида Ильича.
А поскольку такие разговоры велись в момент застолья на День Победы, дипломатично прекращал мемуары, затягивая любимую «Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета…», и гости с домочадцами не без удовольствия подхватывали: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою»!
Вот и все подвиги.
Но ведь откуда-то взялись ордена и медали, доверху заполнившие жестяную коробку от печенья? А глубокий шрам от осколка, на который Павел наткнулся, снаряжая отца в последний путь?
Он, конечно, видел орденские планки на выходном бостоновом пиджаке, как и друзей-однополчан с иконостасами» на всю грудь… Но это было всё равно, как смотреть кино или читать книжку: поучительно, местами интересно, но к тебе не имеет ни малейшего отношения.
Что ещё он знал о прошлом отца? Про то, как неделю в кутузке отсидел, тот не распространялся, только отшучивался. А ведь дело было в сорок шестом, мог и в лагерь загреметь. Был бы человек, а дело на него найдётся...
Семейная легенда гласит, что якобы в одной компании, изрядно подвыпив, отец подобрал к слову «констититуция» саму собой напрашивающуюся рифму. Вот за эту немудрёную поэзию его и взяли той же ночью. Благо, стукачей у нас всегда хватало.
Не зря же тот давний случай научил добродушного, весёлого, словоохотливого человека частенько повторять уже взрослому сыну: «Не болтай!»
И прикладывать палец к губам, как на старом плакате.
Нет, отец, конечно, не был диссидентом. И в коммунизм верил, как в бога. Кому сейчас расскажи, покрутят пальцем у виска и назовут блаженным. А ведь он всерьёз уступил свою очередь на квартиру семье многодетного слесаря. Павел помнит, как мать долго ворчала, что так и помрёт без удобств и центрального отопления. Ворчать ворчала, а сама тревожилась, что люди скажут, и пресекала всяческие попытки подвести её до работы на служебной машине. Топала пешком три километра, упрямая!
Но это их выбор, их история. А история предательства Павла начинается вот с чего:
Отцу было под восемьдесят, когда его настиг страшный удар – лишение водительских прав. Это его-то, который после рюмки за руль никогда не садился! А тут «Москвич» вообще стоял на дороге у дома, а какой-то ухарь въехал ему в багажник. Отец на свою голову вспомнил, что накануне гостил у друзей и… побежал домой прополоскать рот «Шипром»!
Лишившись «прав», отец сдулся, как проколотый воздушный шарик. Он сдал до такой степени, что Павел испугался и пообещал выхлопотать в ГАИ возврат документов. Отец и верил, и не верил.
Конечно, не верил. Потому что, когда сын соорудил ему искусную подделку, он повертел её в руках, вздохнул и положил в старую папку с пожелтевшими документами. А верного «Москвича» загнал в гараж. На вечную стоянку.
Лишившись независимого передвижения, отец как будто лишился и добродушия, и энергии, и чувства юмора. Стал «невыездным», как горько шутил Павел, не понимая всей глубины отцовского отчаяния и грядущей тяжести своей вины.
– Сынок, ты не собираешься на рыбалку? – делал отец заход накануне выходных.
– У меня заказ горит, какая рыбалка!? – отмахивался Павел.
Проходила ещё пара недель, отец терпеливо ждал, но смотрел умоляюще...
– Понимаешь, мы тут с ребятами в Домбай собрались смотаться. Так что ты подожди с рыбалкой, выберемся как-нибудь, я обещаю, – врал Павел и густо краснел.
– Хорошо, хорошо, – послушно соглашался отец. – Я подожду, куда мне спешить.
«Да мне, мне, дураку, надо было спешить! – казнился Павел, покачиваясь в мягкой электричке. Преданный китайский сын читал газету и время от времени что-то записывал в аккуратный блокнотик. Старик, сложив руки на толстой трости, дремал, и даже во сне уголки его сочных губ тянулись вверх, начиная улыбку.
...Став невыездным, отец вот так же сидел на лавочке под вишней и улыбался всем прохожим – знакомым и незнакомым.
Видит Бог, Павел не думал его огорчать. Взболтнула жена. Отец позвонил, она и ляпнула, что Паша с ребятами поехал на рыбалку.
И всё в тот день было хорошо; клёв, уха, шашлыки, местные сговорчивые барышни, разбавившие холостую компанию. Если бы не возвращение…
Он подъехал к родительскому дому в сумерках – сытый, довольный, в прекрасном настроении. И наткнулся на сидящего у калитки дремлющего отца. В соломенной шляпе, сдвинутой на лоб, в резиновых сапогах, в старой брезентовой куртке – в полной экипировке для рыбалки. Надеялся, вдруг сын вспомнит о старике, вдруг заедет? Вместо трости он сжимал в руках связку удочек. Даже во сне держал их так крепко, что побелели костяшки пальцев.
Павел круто развернулся и, не оглядываясь, побежал к машине, поливая себя последними словами и утешаясь обещаниями.
В следующее же воскресенье он свозит отца на речку, возьмёт у соседа лодку. Найдёт самых толстых опарышей! Купит новую, дорогую удочку!
Но через неделю отцу уже не нужны были ни удочка, ни лодка, ни даже разговор с сыном…
…Электричка подкатила к перрону «маленького», всего на пять миллионов жителей, как сказала Аня-тян, городу Суджоу.
Молодой попутчик аккуратно сложил газету и спрятал её в дипломат, старик открыл глаза и таким радостным взором оглядел мир, как будто видел его впервые.
– Подъём! – скомандовала Аня и, довольная своей лингвистической находкой, гордо посмотрела на своего туриста.
– Подъём, – вяло отозвался он.
Их попутчики уже раскланялись и направились к выходу. Как вдруг Павел, как будто помимо своей воли, неожиданно громко крикнул:
– Отец!
Взоры всех без исключения пассажиров обратились к нему.
Аня-тян встревожилась: она никогда не видела своего подопечного таким взволнованным.
А Павел, прорываясь сквозь толпу, уже летел к старику-китайцу, уже обнимал его и, что-то горячо и бессвязно бормоча, прижимал к себе. Тот, не сопротивляясь, предоставлял своё крепко сбитое тело для объятий. Его сын, замерев, с удивлением наблюдал эту сцену, на всякий случай улыбаясь.
Наконец Павел пришёл в себя и отпустил старика. Рядом уже стояла надёжная Аня-тян.
– Слово отец, – гордо продекламировала она, – символизирует человеческую мудрость и опыт. Вы поприветствовали этого немолодого человека, как представителя всех старейшин на планете!
– Хорошо сформулировала, девочка, – похвалил Павел. – Именно как представителя. Лучше не скажешь.
А отец по перрону уходил от него всё дальше и дальше. Вот его небольшую плотную фигурку поглотила вокзальная толпа, вот он растворился в Поднебесной, вот он уже где-то на небесах…
– Прости, отец!
Краснодар – Шанхай
Лариса НОВОСЕЛЬСКАЯ
Последние четыре капли терпения

Вообще-то это не должна была быть чья-то режиссёрская работа. Это считался как общий спектакль. Выпускной спектакль на пятом курсе по пьесе Розова «Четыре капли». Поставили ту каплю, где задействовать можно было максимальное число актёров. Ту, где была всеобщая пьянка. По итогам спектакля каждому участвующему выводили оценку за «Мастерство актёра». Достаточно было просто посидеть за праздничным столом, чуть подыгрывать реакцией на реплики актёров с текстом.
Неформально режиссёром был Толик Васильев. Взялся за это дело профессионально и ответственно. Так и должно было быть. Он ведь учился в нашем институте двадцать лет! Каждый год обучения прерывался годами академических отпусков. Его однокурсники и приятели у него уже преподавали! Так уже с нами и доковылял до диплома.
Когда он пришёл в группу, кажется, на третьем курсе, мы с Гончаровым решили его проверить на вшивость. Наш очень художественный руководитель курса решила поставить с нами спектакль по пьесе местного драматурга-кудесника «Софокл, сойди с ума». Там все ходили в тогах из простыней. И говорили высоким слогом. Мы с Гончаровым выполняли роль песенников-бардов, прямо в зрительном зале заполняли паузы между картинами песнями-зонгами. Местный драматург позволил себе сомнительную фразу в концовке спектакля, она натурально звучала так: «Я всё сказал! Я кончил!» Так прямо и было написано в пьесе. Эту фразу говорил персонаж, которого играл Васильев. На одной из последних репетиций Толик выдал индейское: «…Хау! Я всё сказал!...» Режиссёрша попросила его не импровизировать. И посоветовала, предчувствуя недоброе, изменить текст: «Давайте вы скажете тут не «я кончил», а «я закончил!» Очень тактичный Толик развёл руками, что означало, что одно слово нашей великой преподавательницы, и она будет просто купаться в толиковых заканчиваниях.
Мы не могли с Гончаровым терпеть, когда без разрешения классика меняют его текст! Подошли к Васильеву и попросили его этого не делать. Он согласился с нашими убедительными аргументами. На премьере он во время этой фразы смотрел прямо на нас. А когда произносил «Я кончил!», даже от переполнявшего его трепета перед текстом классика, немного на сантиметр присел ногами. Это было бесконечно смешно. Зрительный зал уже весь знал о проверке, мы не смогли не разболтать, и ждал этого момента. Дожидаясь, когда зал проржётся, наша педагог выразительно обернулась на нас с Гончаровым. Мы стояли с гитарами и твёрдо сжатыми губами, собранными в фигуру «куриная попа». Но из наших глаз на зрителей летели искры. С этого дня Толик Васильев стал нашим другом.
Во время выпускных экзаменов я каждую пятницу улетал на гастроли. Работал в Москве у Сан Саныча Калягина, того самого «Донна Роза», в группе со своим спектаклем театра «Барабан». В понедельник прямо с аэропорта ехал в институт. В пятницу улетал в Москву. Поэтому активного участия в спектакле принимать не мог.
– Посидишь за столом, четыре балла поставят, – успокоил меня Толик. – А, кстати, ты ведь на пианино играешь?
– Ну, да, – согласился я несколько неуверенно. Вдруг он мне какого-нибудь Баха или Моцарта попросит сбацать.
– Я тебе кивну, там будет пианино, ты сядешь, что-нибудь заголосишь, мы тебя вместе со стулом с Орловым вынесем. Там дальше сцены без гостей.
– Запросто! А что спеть?
– Разницы нет! Что-нибудь бравурное. Всё равно мы тебя почти сразу же унесём.
Всё же на одной репетиции я умудрился побывать и смекнул, что к чему. Спектакль был задуман в чём-то даже авангардно. Действие происходило в центре зала, зрители сидели вокруг по всему периметру. Одну свою однокурсницу я попросил быть моей «женой». Чтоб одёргивала меня и подкладывала салаты. Алкоголь на столе в бутылках был компотом, подкрашенной водичкой, соком. А вот всякие нарезки и салаты были не бутафорскими, а настоящими.
На премьере я сумел пронести за стол бутылку настоящего вина. Первые двадцать минут действия я на пустяки не разменивался. Пил, не дожидаясь тостов. И очень сосредоточенно жрал. Такие персонажи я в жизни встречал за праздничными ужинами. Поэтому не особенно придумывал. Я подчистил всё, что было героически накрыто. Очень актёрски безупречно просил передавать еду с дальних от меня районов стола. Актёры с текстами меня ненавидели. «Жена» пыталась одёргивать, но я был очень занят. Зрители толкали друг друга в бока и советовали присмотреться к моему персонажу. Лёгкий гул смешков слышал не только я. Васильев стал нервничать и смотреть на меня прокурорскими глазами.
Я добил бутылку вина и доел последнюю нарезку колбасы. Откинулся на сиденье стула и стал сыто дирижировать какой-то своей внутриутробной музыке. Наконец Толик мне кивнул, и я подсел к пианино. «Широка страна моя родная… – заголосил я. – Много в не-е-е – го-вне-говне-говне-е-е….»
Васильев и Орлов просто рванули ко мне со скоростью спринтеров и вынесли из зала под оглушительные аплодисменты зрителей.
Вообще-то так нельзя. Я, конечно, переборщил. Перетащил всё внимание на себя, а актёрам свои тексты пришлось выдавать в космос и недооценёнными. Толик так потом мне и сказал, правда, улыбаясь: «Тут мы старались, старались. Пришёл Кащеев, отхватил свой гром оваций и ушёл, всех обосрав».
«Все в «го-вне-говне-говне-говне-е-е…!» – уже спел он.
Я всё равно получил трояк. Единственный на курсе человек, работающий в это время профессиональным артистом и режиссёром. А поступал бетонщиком третьего разряда. И этот трояк был вторым в дипломе. Ещё так же плохо я сдал «Историю КПСС».
Сергей КАЩЕЕВ
«Вместа спасиба»

Я так никогда и не узнаю, что такое «нитробензол» только потому, что наша «химичка» имела обыкновение курить во время урока, выходя, правда, для этого в «лаборантскую». Как воспитанник семьи с очень суровыми традициями, я воспринимал это как постыдную слабость. После того, как у меня на одном из уроков взорвалась какая-то пробирка, ненависть наша друг к другу стала обоюдной. Во мне умер Менделеев.
Английский я возненавидел только потому, что на уроках мне было невыносимо скучно. Наша англичанка в молодости побывала в Англии и остальные тридцать лет так тосковала по не своей родине, что глядеть на её грустное лицо, не отрывающее глаз от унылого пейзажа за окном, предложенного дымным уральским городом, – было невыносимо. С тех пор я ни разу не пытался прочитать Шекспира в подлиннике.
Алгебру я невзлюбил сразу же, за дурацкую привычку нашей «математички» проверять каждый день выполнение домашних заданий. Моё абсолютное гуманитарное непонимание необходимости использовать в жизни знания формулы «квадратов косинуса гипотенузы тангенса» убило во мне Лобачевского. Появление же калькуляторов вызвало у меня, уже взрослого человека, запоздавшее злорадство.
«Биологиня», человек глубокой урбанизации, вызывала во мне чувство глубочайшего сочувствия. Из чувства протеста я не хотел знать число тычинок в «семяпочечке с листочками». Не только потому, что к тому времени облазил вдоль и поперёк все уральские горы, а потому, что меня обучал биологии человек, который в своей жизни, кроме учебника и чахлых цветов на школьной клумбе, видел только кактус на окне, от остатков чайной заварки, которой она его регулярно поливала, отбросил последние иголки.
Я терпеть не мог «Военное дело», потому что военрук заставлял подстригаться. Физику – за привычки «физички» бесконечно долго и глубокомысленно молчать, дожидаясь тишины в классе. Литературу – за особую требовательность ко мне молодой учительницы. Физкультуру – за то, что на этом уроке невозможно было читать литературу.
Как я люблю всех вас, мои тогдашние мучители! Как я скучаю о ваших простительных человеческих недостатках, которые учили нас, быть может, самому главному в жизни – толерантности. Ведь вы уже умели терпеть меня! Как я благодарен вам за то, что не стал тем, кем и не должен был бы стать. И это предопределение – тоже часть задачи, которую выполняет человек, название профессии которого уже само по себе звание – Учитель.
Сергей КАЩЕЕВ
«Витька»

Колесников Алексей Иванович проживает в настоящее время в станице Старотитаровской Темрюкского района Краснодарского края. «Желание писать возникло в армии в 1971 году. Писал небольшие статьи, очерки (рассказы для себя в стол). Вначале писал ради интереса, потом по привычке, а сейчас писать стало для меня необходимостью», – так определяет свой творческий путь автор. Рассказы Алексея Колесникова в разное время были опубликованы в газетах: «Апшеронский рабочий», «Тамань», «Полуостров» и др.
С Витькой познакомился я на рыбалке. Утро выдалось тихое и тёплое. Приехал я на своём стареньком «Восходе». С трудом пробрался через ветки лозняка и камыша, вышел к воде Казачьего Ерика. Проставил снасти, закурил и стал ждать. Надо мной с оглушительным стрёкотом пролетала сорока. В ту же минуту на валу услышал скрип старенького давно несмазанного велосипеда. Скрип невдалеке от меня прекратился. В это время леска на дальнем спиннинге резко дёрнулась и провисла до самой воды. Я подошёл, подмотал леску на катушку. Рывок повторился. Я сделал подсечку, начал выбирать леску. Через две минуты у моих ног лежал сом около трёх килограммов.
– Хороший сом.
Я повернулся на голос. Передо мной стоял мальчишка лет одиннадцати и улыбался. На нём были синие обрезанные брюки и жёлтая без рукавов рубашка с накладными карманами. В руке малыш держал кирзовую сумку, которая была старше его лет на 15–20 и телескопическую удочку.
– Конечно, хороший! – сказал я, – давай располагайся по соседству.
Мальчуган шмыгнул носом и пошёл выбирать себе место. Ниже меня по течению, на упавшей в воду вербе, я увидел жёлтое пятно. Мы занимались каждый своим делом. К обеду клёв прекратился, у меня в садке было около семи–восьми килограммов рыбы. Решил посмотреть, как идут дела у моего юного соседа. Подошёл к вербе, вижу: сидит мой сосед держит в руках леску и плачет.
– Что случилось?
– Да вот, дяденька, щука крючок откусила, а запасных у меня нет.
– Ну, брат, это ерунда. Не стоит плакать. Покажи свой улов, а крючок я тебе дам. Мальчик вытащил из воды садок на одну четверть наполненный разной мелочью. Рыба прыгала, сверкала на солнце.
– Бери удочку, пойдём, я тебе крючок дам.
Я повернулся и пошёл к своим снастям, а минут через пять пришёл мальчишка. Глянул я на него поближе и рассмеялся. Лицо и руки грязные, брюки на коленях мокрые.
– Вот что, парень, умывайся, и мы с тобой перекусим.
Я присел, развязал свой рюкзак, достал коробочку с крючками и пакет с продуктами. Еду аккуратно выложил на рюкзак. Мальчик привёл себя в порядок и подошёл ко мне.
– Садись, не стесняйся.
Я разрезал помидор, посолил его, начал чистить картошку. Мальчишка взял помидор, надкусил его и сунул в спичечный коробок, где была соль. Поднял руку и широко открытыми глазами уставился на него. Коробок до краёв был наполнен помидорной мякотью. Я рассмеялся и мальчишка тоже. Содержимое коробочки я выложил на пакет, и дальнейший обед продолжался без конфузов.
– Звать тебя как?
– Витька, а по фамилии Пелипнев.
– А живёшь ты где?
– Да тут недалеко, станичный я.
Мальчишка ел и разговаривал со мной. Вымыл я руки и закурил, а Витька ел и ел, в ход шло всё, что было: яйца, сало, колбаса, помидоры, лук. Кусал он большими кусками, быстро жевал и глотал. О многом говорил мне вид мальчика: худые и острые лопатки, старые поношенные брюки, мужская рубаха без рукавов, чёрные галоши большого размера на босую ногу.
– Вить, а семья у вас большая?
– Нет, дяденька, я, дед и бабушка.
– А мать, отец у тебя есть?
– Да как сказать? Есть, но с нами не живут.
– А почему?
Витька встал, вытер руки о траву и ещё раз обтёр о штаны. Присел на примятую траву и камыш, заговорил тихо, не спеша, как взрослый человек. Он обдумывал каждое предложение, повторяя слово «дяденька». Я слушал. Курил сигарету за сигаретой и слушал. Я не мог отвести глаз и на секунду от этого мальчика. До глубины души меня потрясло всё услышанное мной.
– Сначала, дяденька, мы жили хорошо. Папа работал трактористом, мама телятницей на ферме. А потом всё чаще и чаще мама стала приходить домой и кричать на папу, что он не мужчина, раз не может денег принести домой, в семью. Папа хмурился и больше молчал. Только иногда он что-то пробовал маме объяснить, мама хлопала дверью и уходила к бабушке ночевать. Папа готовил ужин, мы ели и ложились спать. Утром я уходил к папиным родителям, к бабушке и дедушке. Впоследствии мать домой не приходила по несколько дней, а если и приходила, то пьяная. А один раз пришла, собрала какие-то вещи и ушла, а я всё видел, дома был. Вечером, когда папа пришёл, я ему всё рассказал. Он собрался и ушёл. Я сидел дома и долго ждал. Пришёл отец и привёл за руку мать, она была пьяная, кричала и ругалась. На папе рубашка была порвана и в крови, он её снял и пошёл обмываться. А мамка прошла мимо меня в спальню, даже не глянула, там и закрылась. Когда папа вернулся, я всё понял, он подрался с кем-то. Папа подошёл ко мне, взял на руки.
– Пойдём, сынок, спать. Завтра у меня выходной, сходим на рыбалку. Папа говорил, а голос у него дрожал. Когда я, дяденька, заснул, раздался сильный стук в двери, кто-то сильно кричал, звал папу и требовал открыть двери. Папа надел брюки и пошёл. Что там произошло, я не знаю. Я сидел на кровати, закутавшись в одеяло, не понимая, что происходит. А за стеной бегали, кричали. А когда, дяденька, под навесом разбили лампочку, мне стало страшно, и я заплакал. Шум неожиданно прекратился, стало тихо-тихо. В комнату зашёл папа и зажёг свет, взял меня и так в одеяле и понёс к деду. По дороге у папы на руках я и заснул. Утром бабушка меня накормила, и я пошел играть. На улице меня обступили и взрослые, и дети из ближайших домов. И тут только я узнал, что же ночью произошло.
Оказывается, мамка в спальне открыла окно и убежала к «своим алкашам», как говорит папа. А уже поздно ночью мать их привела бить папу. Вот тогда-то папа кого-то ударил, что тот упал и головой ударился о «чистилку», знаете, чтоб ноги от грязи обчищать, делают из железа.
Я кивнул головой и продолжал внимательно слушать Витьку.
– Так вот, дяденька, папа меня отнёс к деду, а сам пошёл в милицию. И потом я его видел только на суде. Мамка на суд не пришла. Там были только дед, бабушка, я и ещё несколько человек с папкиной работы. А уже после, мамка всё из дома вывезла: что продала, что на вино променяла. Дедушка дом замкнул почти пустой. И после этого мамка куда-то пропала, ко мне не приходила и ничего не приносила. К школе мне всё бабушка с дедушкой купили. Учительница у нас хорошая, и я учусь хорошо. Папа пишет, чтобы я учился и слушал бабушку. Я пойду в четвёртый класс. «Папка скоро домой придёт», – так говорит дедушка.
– Витя, а мать ты так и не видел за эти почти четыре года?
– Почему не видел? Видел. Она нашла себе «хахаля», так говорит бабушка. Он городской был, с машиной. Они часто пили, почти каждый день собирались у тётки Верки, в хате. Напьются и ездят, мотаются на большой скорости то на море, то ещё куда. Вот так и получилось: перевернулись и разбились. Тётка Верка и дядька насмерть, а мамке спину и ноги поломало. Долго в больнице лежала, потом её скорая домой привезла. Ходить не может, в «каталке» сидит. Мы на экскурсию всем классом ходили, шли мимо, я её видел. Она меня узнала, как закричит: «Витя! Сынок! Или сюда! Я хочу на тебя посмотреть». Но я, дяденька, не пошёл. Какая она мне мамка? Если хотела, чтобы отца моего убили! Витька замолк на несколько секунд.
– И никогда я к ней не пойду, мне с бабушкой и дедушкой хорошо. Они пенсию получают хоть и с задержкой. Папа вот-вот придёт и найдёт мне хорошую маму, такую ласковую и добрую, как наша учительница. И никогда, дяденька, в нашем доме больше не будет ни вина, ни скандала.
Я привязал крючок к удочке. Витька молча смотрел на жирную гусеницу, думая о чём-то своём.
– Вить, а Вить? Давай мою рыбу с тобой по-братски поделим, придёшь домой угостишь своих стариков, а то мне этого одному много.
Я вытащил свой садок, оставил себе трёх карасей, остальная рыба перекочевала к Витьке. С усилием, двумя руками мальчик поднял садок, потряс им и засмеялся. Глаза Витки светились счастьем, он не знал, что сказать.
– Спасибо, дяденька! Через силу выдавил из себя и чуть не заплакал.
– Ну! Брат, не надо. Давай я тебе помогу привязать рыбу на багажник.
Витьку я проводил до дороги, расстались мы друзьями. Я стоял на дороге и долго смотрел на худенькую фигурку, медленно удалявшуюся на скрипучем велосипеде от меня. Я смотрел, а по моим щекам текли слёзы. Сколько же таких «Витек» сейчас живёт в тяжелейших условиях, недоедают. Лишенные не материнской, так отцовской ласки, а то и обоих родителей. Я смотрел вслед, а по моим щекам катились горячие слёзы, Витькины слёзы.
Алексей КОЛЕСНИКОВ
Материнство

Мальчик родился ночью, так что только днём я заметил отсутствие Марты и полез в сарай. Щенят было штук шесть. Через неделю остался один. Уже повзрослев, я понял, что дед пятерых утопил, а не «раздал в деревне», как он мне тогда сказал. Кличка «Мальчик» появилось непринуждённо. Как констатация факта. Марта с исчезновением остальных детей как-то облегчённо согласилась. Она уже была стара. И все остатки материнской любви отдала своему щенку. Нужно было видеть, как она улыбалась и блаженно щурилась сидя на солнце, когда Мальчик ползал по ней, цепляясь за её уши.
Однажды пришёл «отец». Это можно было легко догадаться по окрасу. Марта зарычала и оскалилась. Кобель с досадой посмотрел на щенка и убежал по своим кобелиным делам. Дед работал лесником, и наш кордон находился километрах в двадцати от ближайшей деревни. Так что «отца» Мальчика бабушка, посмотрев ему вслед, наградила званием «мастер высшего кобеляжа».
У Марты очень редко были праздники. Куриц бабушка резала редко, а другой живности, кроме лошади, у нас не было. Так что Марта недоедала. Да и редкие куриные косточки она подсовывала своему малышу с выражением на морде, обозначающим отвращение к деревенской пище после регулярных обедов в лучших ресторанах Европы. Но как-то я увидел Мальчика в обнимку с мозговой костью, размером явно от крупного рогатого скота. Потом подобные кости стали попадаться регулярно. Разгадка скоро нашлась. Поехав как-то раз на лошади в деревню на почту, я встретил на дороге бегущую навстречу Марту с костью в пасти. Мы потом проследили. Оказывается, она почти каждую ночь бегала за двадцать километров на помойку возле столовой турбазы, недалеко от деревни. Судя по иногда появляющимся у неё ранам, на помойке ей ещё и приходилось сражаться за кости с местными собаками.
Я стал все дни проводить на рыбалке, так как Марта ела варёную рыбу. Мальчик рос и радовался жизни. Все дни играл. Марта улыбалась, но худела. Я уехал в город в конце августа. Мне нужно было идти в первый класс.
А в городе я наконец-то стал жить с родителями. Кончились их многолетние командировки. В отношении моей мамы ко мне я узнавал отношение Марты и Мальчика.
Живи, пожалуйста, долго, мама…
Сергей КАЩЕЕВ
Сага о дружбе
О моём друге – генерале Галустьяне Оскиане Аршаковиче

Все мы, дети той поры, опалены пламенем войны. Это обстоятельство самым непосредственным образом сказалось на формировании нашего характера, взаимоотношений и особой ответственности за свои поступки.
Росли мы в обстановке острой нужды и выживали исключительно благодаря суровому опыту жизни и осознанному коллективизму. Наша благодатная местность была покрыта множеством небольших городков, посёлков, станиц и хуторов. Их население было связано либо родственными, либо крепкими куначескими отношениями, и все постоянно находились в контакте. Для нас, детей, это обстоятельство было особенно благоприятно и всегда гарантировало самое горячее участие родни в наших делах. Мы знали почти всех родственников друг друга, где бы они ни жили: в предгорьях, в горах или даже на берегу моря. Например, у моего друга Виктора Никитенко бабушка жила в станице Самурской, в дюжине километров от нашего городка. Это не мешало ему с ранней весны до поздней осени навещать её после школы и к восьми утра следующего дня как ни в чём не бывало успевать к началу занятий. Походы в гости к бабушке порой сопрягались с серьёзными испытаниями. Самыми обычными из них были встречи с волками. Привыкшие за годы войны к дармовой добыче в виде падали, эти звери совсем не боялись людей, а порой даже охотились на них. Однажды в начале марта, как раз в пору волчьей свадьбы, Виктор привычно направился в гости. Прошёл он уже большую часть пути, как вдруг на открытом пространстве лесосеки в полукилометре от себя увидел волчью кичку, не менее десятка особей… Спасение было только в ногах, и он налёг… Потом рассказывал, что ощущал удары своих пяток по собственному затылку… Мне похожее испытание довелось пережить в двенадцать лет, когда на мою долю выпало перегнать нашу корову через горы в Сочи для продажи на мясо. Путь не превышал восьмидесяти километров и был рассчитан максимум на неделю. Однако в пути наш караван из тридцати голов животных и трёх погонщиков столкнулся с невероятными трудностями в виде обложного дождя и непросыхающей одежды. Нашим главным был местный житель, заядлый охотник и знаток всех потайных партизанских троп Рубен Петрович Хартьян. Но в условиях проливных дождей все водные преграды, даже ручьи и речушки, стали абсолютно непреодолимы и даже смертельно опасны как для животных, так и для людей. И, потеряв при попытке переправы одного годовалого бычка, мы отказались от дальнейших попыток испытывать судьбу. И вот тут-то и выручила солидарность местных жителей, которые помогли пристроить измученных животных и приютили выбившихся из сил людей.
* * *
В ту далёкую пору мы, школьники, находились в состоянии постоянной подготовки к нормам БГТО («Будь готов к труду и обороне»). Это не было формальностью. Наша физическая подготовка на самом деле отвечала поставленной задаче. Это являлось жизненной нормой и очень помогало нам в последующей жизни, начиная с ранней юности, когда в восьмом классе мы проходили приписку по линии военкомата. В то время этот этап жизни молодого человека считался жизнеутверждающим, мы проходили аттестацию на максимальную пригодность Родине. С этого момента мы постоянно находились в поле зрения военных властей: успеваемость, дисциплина, поведение, коммуникабельность, отношение к воинской службе в целом и предпочтение рода войск в частности. До самого призыва шла эта работа с нами. Мы постоянно участвовали в различных спартакиадах, сборах и соревнованиях на всех уровнях: школьных, районных, зональных и региональных. Конечно, во время этих мероприятий мы знакомились, завязывалась переписка, и даже создавались неформальные клубы по интересам. К заключительному этапу подготовки к службе в армии мы уже были знакомы с большинством ребят нашего года призыва не только у себя в районе, но и во всей ближайшей округе.
По завершении учёбы в школе мы выкраивали возможность потусоваться со сверстниками в неформальной обстановке на берегу моря. Наиболее подходящим местом считался город Сочи, главный курорт страны, где можно было и на людей посмотреть, и себя показать. Кроме того, мы могли туда добраться совершенно бесплатно: или по местной узкоколейке, или пешим строем в виде дневного перехода по просёлочной дороге, но с посещением знакомых и гостеприимных посёлков и хуторов. Мы предпочитали второй вариант, на место мы прибывали вечером и ночь проводили на пляже. От совершенно белых москвичей и других обитателей «Большой земли» мы отличались чёрным загаром и абсолютной неприхотливостью. Никаких тебе лежаков, зонтов, мазей и кремов! Мы не ставили перед собой никаких задач, кроме знакомств. Делалось это незамысловато и в полном соответствии с особенностями местности. Нам ничего не стоило пройти по пляжу всё побережье одним заходом, общаясь со старыми знакомыми и обзаводясь новыми. И при этом никогда не возникало никаких проблем с чьей бы то ни было стороны. Мы вникали во всё происходящее вокруг нас. И вот до нашего слуха дошла молва, что местные ребята занимаются не просто физкультурой, как все мы, а новым и очень престижным видом спорта – самбо. Тогда же я впервые услышал имя местной знаменитости в этой сфере – Оскиан Галустьян. Это был рослый, спортивно сложенный и красивый юноша.
Когда ему пришло время служить в армии, Оскиан попал во флот и проявил себя с самой лучшей стороны, за что получил рекомендацию командования в училище правоохранительной системы. По завершении учёбы молодой лейтенант Галустьян был направлен на самую знаменитую стройку того времени – БАМ. Прибыл он туда с молодой женой Надей, и, по всеобщему мнению, были они самой красивой четой всесоюзной молодёжной стройки. Надя представляла собой лучший образец женской добродетели и красоты. Ну, а сам Оскиан – воплощение рыцарского благородства! И такими они запомнились своим друзьям и коллегам по нелёгкой работе. Не случайно этот человек был удостоен не только высокого воинского звания, ему доверили подбор, расстановку и воспитание кадров.
А после событий августа 1991 года, когда страна переживала трудную пору распада и перемещения с насиженных мест огромной массы людей, генерал Оскиан Галустьян доказал, что ему присущи и гражданская позиция, и профессиональная ответственность.
В ту пору я как активный участник движения за возрождение казачества с полномочиями представителя Кубанской казачьей Рады в Москве нашёл в его лице сторонника. Мне тогда представлялось самым рациональным создание при главе администрации Краснодарского края специальной общественной структуры по работе с вынужденными переселенцами для их организованного и управляемого обустройства и адаптации под эгидой земляческих общин. Кадровый сотрудник службы внутренних дел Оскиан Галустьян был искренне озабочен этой проблемой и всячески поддерживал казачьи инициативы. Но одного желания решить проблему было недостаточно. И тогда появилась идея выдвинуть генерала в депутаты Думы, и уже оттуда решать актуальную для региона проблему. Я, как представитель кубанского казачества, вошёл в группу поддержки кандидата. Наш путь лежал в посёлок Горячий Ключ, где и предстояло объявить о начале избирательной кампании. Есть в Горячем Ключе одно примечательное место – развилка и заправка, место всяческих нужных и ненужных встреч. Подъезжаем мы к ней, и я вижу группу местных казаков в форме и при холодном оружии во главе с сотником Седокуром. Выхожу из машины и – к ним… После ритуальных приветствий и объятий спрашиваю, куда это они направляются в боевой экипировке. Отвечают, что едут на перевал армян рубать. Это, конечно, была просто неуклюжая бравада. Так, для красного словца. И я решил преподнести им урок учтивости. Спрашиваю казаков, зачем, мол, таскаться на какой-то перевал, когда у меня в машине сидит армянин… И жестом приглашаю его выйти из машины. Дверцы автомобиля распахнулись, и перед обалдевшими казаками во весь свой гренадёрский рост и во всём блеске возник настоящий генерал. Немая сцена и протяжное: «Да-а-а-а…». И после секундной паузы – бодрый, как и положено военным людям, рапорт выступившего вперёд сотника: «Товарищ генерал, группа казаков города Горячий Ключ на дежурстве по обеспечению общественного порядка. Старший наряда – сотник Седокур». Потом последовали взаимные рукопожатия и задушевная беседа о делах и проблемах. А несколько позже и моё выступление по местному радио с призывом поддержать на предстоящих выборах в Думу заслуженного и достойного земляка.

Далее наш путь пролегал в Сочи, где на телевидении мы должны были представить нашего кандидата в Государственную думу. Атмосфера была дружественная и доброжелательная. Генералу не требовались дополнительные рекомендации, поскольку его прекрасно знал потенциальный электорат. Проблема состояла в необходимости преодоления административного ресурса местного конкурента. У нашего кандидата уязвимым местом была его этническая принадлежность. И на фоне входившего тогда в моду горлопанства на этот счёт от меня, как доверенного лица, требовался какой-то ход. Я начал с довода о профессионализме и бойцовских качествах нашего кандидата и только потом перешёл к фамилии своего выдвиженца. Сразу объяснил, что речь идёт о русском генерале. Напомнил о Багратионе, Лорис-Меликове, Кантемире и Врангеле. О том, что речь идёт о заслуженном и высокопоставленном офицере, облечённом высоким доверием государства. И должен сказать, что до сих пор считаю роковой ошибкой избирателей, отдавших предпочтение конкуренту. Уверен, будь генерал Оскиан Галустьян тогда избран, нам бы удалось избежать многих неприятностей, включая и кущёвскую трагедию на Кубани. Ибо мы тогда упустили реальный шанс вручить свою судьбу в руки высококлассного, самоотверженного, опытного, отличавшегося бойцовскими качествами и личным мужеством человека. С тех пор прошло более четверти века, и теперь со всей определённостью видно, что в ту избирательную кампанию в первую очередь проиграл не наш кандидат, а все мы, не утруждавшие себя заботой об интересах Отечества. А лично я благодарен судьбе за удачу, за то, что встретил на своём жизненном пути таких людей, как генерал Галустьян, пример искреннего служения и неустанного подвижничества.
Олег БЕЗРОДНЫЙ,
ветеран военной службы
Розовые деньги

Новость о том, что японские селекционеры вывели сорт квадратных арбузов, с белой мякотью, без семечек вызвала во мне протест. Да кому, собственно, нужны эти извращения, и неужели учёным больше нечем заняться?! Не отрицая необходимости научных открытий, я за то, чтобы роза оставалась розовой, а сирень – сиреневой. Ведь у каждого из нас есть особо охраняемый памятью заповедный уголок души, которому необдуманное соперничество с природой, грозит разорением. Вот уж исчезли в нашем Предгорье плантации роз, ставшие для моих внуков «преданьями старины глубокой». А ведь именно розовые плантации были для меня первым «ожогом » от встречи с красотой и величием природы.
Прекрасное и обыденное всегда ходят рядом. Розы, воспетые поэтами разных эпох, для нас были ещё и способом заработать деньги, осуществить свою детскую мечту. Единственным крупным предприятием в предгорном посёлке Нефтегорске, в шестидесятые годы, был эфиромасличный совхоз. Из мяты, шалфея, азалии, розы производили на заводе в «Новом городке» эфирные масла, которые пользовались спросом в Прибалтике для производства косметики и лечебных препаратов. Посёлок окружали плантации роз, принадлежавшие совхозу. С середины мая гребни холмов покрывались нежно-розовой дымкой, воздух наполнялся благоуханием цветущих роз, и у поселковой ребятни начиналась розовая лихорадка, сродни золотой, о которой мы читали в книжках Джека Лондона.
Представляете, каково это жить в центре гигантской розовой клумбы?! Считанные деньки отделяли нас от летних каникул, и об учёбе, конечно, никто уже не думал. На переменах мы обсуждали детали ежегодного общешкольного «Звёздного похода», которым заканчивался каждый учебный год, и ломали голову над тем, как заработать побольше денег на походы летом. Это теперь родители определяют, куда повезут летом своих чад. Мы же были самостоятельны в своём выборе, потому что рассчитывали на собственные средства. Благо, возможность заработать деньги на сборе роз была реальной даже для младших школьников.
Готовились к началу сезона основательно. Запасались резиновыми сапогами, мешками, фартуком, в который складывали сорванное сырьё. Собирать розы начинали с рассветом до того, как начнет припекать солнце. Поутру розовые кусты и трава между ними были обильно покрыты росой, в считанные минуты до самого пояса одежда пропитывалась утренней влагой. Но мы не обращали на это внимания и даже радовались тому, что влажные цветы потянут при сдаче на весах больше.
Когда мешок наполнялся розами на треть, таскать его за собой по вспаханной земле междурядий становилось неудобно. Нужно было спрятать его между кустами так, чтобы легко найти, и при этом, чтобы он не стал лёгкой добычей других сборщиков. Случалось, что мешки терялись или их воровали. Но больше огорчения было не от его утраты, а от испорченного настроения. Возможно, я смотрю теперь на прошлое через розовые очки, но мне кажется, что уже в том возрасте я интуитивно чувствовала, что в этой утренней цветочной гармонии суета и раздражение не уместны. Сбор «розочек» был для нас некой мистерией нарождающегося дня и предвосхищением летних открытий. В те годы мы поголовно бредили туризмом, знали наизусть все пешие туристические маршруты, которые проходили рядом с нашим посёлком. При всей скромности туристического снаряжения тех лет, деньги для участия в походах всё же были необходимы.
Для ручного сбора роз требовался навык. Прижимаешь двумя пальцами, сверху и снизу, розетку распустившегося цветка и резким движением поворачиваешь её вправо. Характерный щелчок, и цветок отправляется в потемневший от росы фартук. На «розочки» надевали самую старую одежду, которая быстро превращалась в лохмотья. Издалека люди на плантациях своей обтрёпанностью напоминали пленных немцев. Но никто из нас на это не обращал ни малейшего внимания. По мере того, как в жестяной банке из-под леденцов прибавлялось денег, азарт нарастал. Но это не было скопидомством, поскольку была у каждого высокая цель. Восприимчивая детская душа раз за разом замирала перед «облитым» цветом розовым кустом, к которому не успели прикоснуться руки сборщиков. Запах розовых кустов с плантаций ни в какое сравнение нельзя поставить с «длинноногими» розами из Эквадора или Голландии. Этим глянцевым клонам генной инженерии далеко до наших пейзанок! Восторг и сожаление от того, что всё это великолепие нужно сорвать и сложить в мешок, это борение между прекрасным и прозой жизни невольно накладывали отпечаток на характер.
Независимо от того, как сложилась жизнь моих сверстников, все мы до самозабвения остались влюблены в природу, а воспоминание о том, как зарабатывали «на розочках» деньги для походов, сделало нас во взрослой жизни почти роднёй.
Дотащив мешок до приёмного пункта в отделении совхоза на Сулеймановке, мы ревностно следили за взвешиванием. Получив клочок бумажки с весом и подписью весовщика, отправлялись в кассу. В самые удачные дни случалось заработать копеек семьдесят. За килограмм роз платили 3 копейки. Приёмщик выгружал розы из мешков в прицеп трактора «Беларусь». Иногда детей просили залезть в кузов, чтобы равномерно распределить цветы. Тут уж мы давали волю воображению! Кувыркались, лежали на мягкой цветочной перине, раскинув руки до тех пор, пока голова не начинала кружиться от густого дурманящего запаха, или приёмщик окриком не возвращал нас в реальность. Мы словно чувствовали, что подобная королевская роскошь больше никогда в нашей жизни не повторится…
А потом долго сидели в тени под навесом, прислушивались к разговорам взрослых, в надежде узнать, на какой из плантаций самое буйное цветение, чтобы завтра отправиться: на Хопры, 512-й участок, на хутор Червяков или Папортный или ещё куда-то. Розовых плантаций в округе было десятка полтора. В сущности, когда начиналось цветение, большой разницы между ними не было, но азарт брал своё. Нам казалось, что именно на дальних плантациях нас поджидает настоящая удача. А то, что путь туда длиннее и до отделения совхоза придётся нести полный мешок, никто из нас не думал. Дух авантюризма заглушал здравый смысл.
Что и говорить, для подростков это была нелёгкая работа. Недосыпание за полтора месяца превращалось в хроническое, лица покрывались царапинами, руки – саднящими занозами. Но близость к заветной мечте, и тяжелеющая с каждым днём жестянка с монетами придавала мне сил.
Старшие копили деньги на многодневный пеший поход на Красную поляну. Каждое лето вместе с учителем физкультуры Василием Михайловичем старшеклассники школы-восьмилетки на Победе отправлялись в многодневный поход через горные перевалы к Чёрному морю. Спускались с гор в районе посёлка Дагомыса. Несколько дней ребята жили в палатках на берегу моря, купались, ездили в Сочи на экскурсии, а обратно возвращались домой поездом. Для такого похода требовалось 25–30 рублей. Брать деньги на поход у родителей, было не принято. В том, чтобы заработать их на «розочках», был особый шик. Это была ещё и проверка на выносливость, ведь поход, который длился дней десять, требовал от его участников особой физической закалки. Зато те, кто попадал в число участников похода, переходили в глазах учителей, одноклассников и родителей в новое качество – людей проверенных и надёжных.
Возвращения из летних походов ждали всей улицей. Разговоров и воспоминаний его участникам хватало на всё лето. Вечером, усевшись на сваленные под калиткой нашего дома брёвна, походники пели новые песни, вспоминали забавные случаи и розыгрыши. Малышню держали на расстоянии, но, пользуясь ночной темнотой, мы всё равно подползали к тесной компании, с завистью слушали разговоры и песни, напитываясь романтикой дорог.
Горы, реки и леса нам Аллахом даны,
Чтоб смотрели небеса, как туристы смешны,
Перешли мы перевал, языки на плечо,
Горный дух хохотал, хохотал горячо.
Под неумелые аккорды гитариста Евгения Куликова взмывали в ночное небо молодые голоса. Слова самодеятельной песни, положенные на мотив популярной в те годы песни «Двое замуж берут: Мухамед и Абдула», которую исполняла тогдашняя икона стиля Эдита Пьеха, казались нам верхом поэзии. За каждым куплетом следовал припев: «А-ла-ла-ла-лай-ла, о-хо-хо-хо-хо!» Тут уж «мелкие» дружно подхватывали припев, рискуя быть изгнанными с поляны. Друзья моего детства на всю жизнь так и остались неисправимыми романтиками. Вспоминая в ближнем кругу детство, «розочки» и походы я всегда рассказываю об этом случае.
После 4 класса учитель физкультуры пообещал взять меня летом в поход на Красную поляну, учитывая мою отличную спортивную подготовку, и то, что в поход пойдёт моя старшая сестра Женя – человек ответственный и серьёзный не по годам. В этот сезон я собирала розы с особым рвением и уже была близка к необходимой сумме. Как-то мама послала меня за хлебом в магазин. Весь товар в нашем общем магазине мы знали наперечёт. На прилавке оплывали от жары прямоугольные глыбы конфет-подушечек, фиников и маргарина. На полке стояли брикеты с киселём и кофе с молоком, которые мы с удовольствием ели сухими. В отделе «обувь и одежда» висели несколько примелькавшихся ситцевых халатов и байковые женские рейтузы с начёсом розового цвета, да ещё рулон с клеёнкой. Магазин всегда был увешан липкой лентой от мух, которую продавщицы почему-то забывали убирать зимой. В этот раз в магазин привезли обувь.
Рядом с коричневыми бесполыми кожаными сандалиями фабрики «Скороход», в которых летом ходили поголовно все мальчики и девочки, кстати, невероятно носкими, стояли ярко-жёлтые блестящие клеёнчатые босоножки 36 размера. Они поразили моё воображение своим изяществом и тем, что продавец назвала их новым для меня словом «танкетки». Стоили они 6 рублей, что по тем временам было недёшево. Неделю меня мучило искушение. Купить босоножки означало отказаться от похода, который стал для меня заветной мечтой. Но женское начало взяло верх, как под гипнозом, переполовинив деньги из «походной» банки, к концу недели я отправилась в магазин и купила босоножки, не меряя. Продавщица решила, что я покупаю их для сестры.
Как я не затягивала сзади хлястик на босоножках, они были мне безнадёжно велики, размера на два, а то и три. Нога соскальзывала с непривычно приподнятой подошвы, походка моя напоминала ковыляние. Вопреки ожиданию никто из сверстниц не выразил по поводу моей покупки ни восторга, ни зависти. Мой старший брат Толик со смехом пародировал мою походку: « Семенишь, как утка!» Кончилось тем, что подошва у босоножек отклеилась через неделю, я вывихнула голеностопный сустав, и моё страстное желание – попасть в многодневный поход в это лето – оказалось несбыточным. Поход я профукала. Это был урок, который научил меня не предавать мечты. И я благодарна судьбе за эту науку.
Ряды одноклассников с каждым годом редеют, теперь мы уже встречаемся с земляками не по принципу классов и школ. Нас объединяет наш посёлок. Неизменно встречи проходят в августе на природе в излюбленных местах нашего детства: на Аваковом озере, которое построили наши родители методом народной стройки, или в Лаго-Наках на базе у заядлого туриста Володи Криночкина до сих пор бредящего горами, на фонтане, либо на нарзане на Третьем отводе. С гордостью подмечаю, что после встреч мы никогда не оставляем после себя следов. Выросшие на природе, мы уверены в том, что природу нет нужды улучшать, её надо беречь.
Галина ВИНОГРАДОВА
Тот самый...
1 мая исполнилось ровно 298 лет и 172 дня барону Карлу Фридриху Иерониму фон МЮНХГАУЗЕНУ

– «Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы? – Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать». (Здесь и далее цитаты из х/ф "Тот самый Мюнхгаузен").
Настоящий, а не литературный герой, потомок древнего нижнесаксонского рода, родился в Германии в городе Боденвердер 1 февраля 1720 года. В 1737 году приезжает служить в Россию. В 1738 участвует в турецкой компании. За мужество и преданность в 1741 получает чин поручика и командование элитной ротой лейб-гвардии. В этом качестве в 1744 году командует почётным караулом, встречающим в Риге принцессу Софию Ангальт-Цербскую (будущую императрицу Екатерину II-ю).
Подав в отставку, вернулся на родину и остаток жизни провёл в бесконечных рассказах своим друзьям о своей службе в России. Умел такой успех среди земляков, что прослыл великолепным рассказчиком и отъявленным вруном. Его самые яркие истории расходились по окрестностям, как анекдоты и, наконец, были замечены литераторами.
Ещё при жизни барона несколько книг о его приключениях вышли в Германии и в Англии. Сам барон этому был совсем не рад и даже пытался судиться с авторами. Потому что в жизни и в быту слыл среди своих знакомых и земляков, как совершенно честный и правдивый человек! Чего совершенно лишался во время своих устных фантазий. Въезд в Петербург на волке, запряжённом в сани, конь, разрезанный пополам в Очакове, взбесившиеся шубы, вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя, полёт на луну на пушечном ядре и т. д. – все эти истории были услышаны и записаны не одним слушателем. Что подтверждает талант барона-фантазёра, как рассказчика.
Даже в России его истории были напечатаны ещё при жизни барона. В 1791 году под авторством Н. Осипова вышел вольный перевод рассказов Мюнхгаузена под очень удачным и точно характеризующим творчество барона заголовком "Не любо – не слушай, а врать не мешай".
Трудно пройти мимо юбилея такого замечательного человека. И не только потому, что мы все врать горазды. Кто-то только делает это ради красного словца, как юбиляр, а кто-то ради зелёных бумажек. Ну как не поговорить о наследниках барона в дни его юбилейных торжеств? Это было бы даже неприлично, право! Хотя эта тема ...сомнительная. Даже в известном и всеми любимом фильме барону (Олегу Янковскому) его законная жена (Инна Чурикова) об этом намекает:"...Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?"
Только давайте сразу договоримся, а что же такое – "враньё". Предположим, что это "заведомо ложная информация, выдаваемая за правду, имеющая определённые цели, приносящие лгуну разного рода выгоду". Поищем родственные варианты. Например, художественная литература. Почти полное попадание. Все писатели и поэты – отъявленные лгуны. Не будете же вы спорить, что никаких таких Анн Каренин, Раскольниковых, Остапов Бендеров, Евгениев Онегиных, Печориных, Василиев Тёркиных не было! Соврали нам уважаемые классики. Придумали всё до последней строчки. И, заметьте, не бескорыстно! Деньги, слава, привилегии, уважение, самоутверждение – каждый выбирает для себя. Достоевский так даже чаще всего из-за карточных долгов и брался за перо. Твардовский получил Сталинскую премию, дачу в Переделкино, почёт и уважение. Пушкин тоже всё время в долг жил и торговался с издателями за каждую строчку. При этом не отказывал себе в мирских искушениях. И уезжал в своё Михайловское от греха подальше, чтоб денег заработать.
А Мюнхгаузен зачем врал? Уважение у земляков заработать? Так они ж над ним потешались! При жизни барона доставали толпы приезжих зевак – посмотреть на барона-вруна! А деньги от издания его фантазий получали всякие Распе, Бюргеры, Линары, записавшие и издавшие его рассказы. Сомнительная выгода. Так что выходит: не был барон лгуном. Не попадает он под наше определение. И можем ли мы назвать вруном писателя Шаламова, писавшего свои "Колымские рассказы", заведомо зная, что за них он не только денег не получит, а только новый срок. И можем ли мы назвать ложью ответ булгаковского Га-Ноцри Понтию Пилату на его вопрос: "Ведь не было этого всего? Ведь не было?!" "Конечно, не было. Это всё тебе приснилось!" – ответил сжалившийся над стариком философ. И врём ли мы с выгодой, если успокаиваем безнадёжно больного, рассказываем сказки детям, пишем родителям, что "у меня всё хорошо", хотя застрелиться хочется. «Но я же сказал правду! – Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!»
Да, мы уже настолько привыкли ко лжи, что даже не обращаем на это никакого внимания. Даже наоборот. Мы слушали и понимали, что это сигнал: раз врут – значит это кому-нибудь нужно. Нам лгали про "Продовольственную программу" – мы засучивали рукава и копали огороды и дачные грядки. Нам врали: "Всем квартиры к 2000 году". Мы понимали это так, что теперь уже точно медлить нельзя и всячески старались купить участок для строительства себе своего дома самостоятельно. И, вспомните, именно самый лгущий журнальчик "Агитатор" все поголовно использовали не по назначению, в дачных клозетах.
Мы уже настолько привыкли ко лжи, что именно чужое враньё помогает принимать правильное решение. Ложь, нас окружающая, стала элементом естественного отбора. Те, кто поверил словам из репродукторов о том, что взрыв в Чернобыле – рядовая и неопасная авария – вымерли. А те, кто тут же собрался и уехал, а не остался загорать на пляжах реки Припять – выжили.
Столько мы с вами слышали о надёжности и безопасности тех или иных технических сооружений, что именно поэтому с особым подозрением теперь относимся к этому монстру в Швейцарии – коллайдеру?! А кто ж не станет бояться, если тонут "непотопляемые" Титаники, падают самые надёжные самолёты, тонут самые современные подлодки, взрывается самая надёжная в России шахта "Распадская", в Мексиканский залив хлещет нефть из скважины самой авторитетной английской нефтяной компании? И ведь врали нам совсем не глупые люди! "Мне сказали – умный человек. – Ну, мало ли что про человека болтают!"
А что уж говорить про враньё по телевизору? Особенно в рекламе. Это тема для особого разговора, но если посмотреть нашу рекламу и сделать некий срез, то впечатление об интересах соотечественников создастся довольно пошлое. Женщины думают только о гладкости собственной шкурки, о похудении и шоколаде. Мужчины – о бритье, мужской потенции, "Дошираке" и "Роллтоне". И все без исключения – о тарифах на сотовую связь. При этом все телезрители отлично понимают, что "отправьте SMS на этот короткий номер и вы..." – это просто прямое надувательство, но вот узнаю, что таким образом в России сотовые мошенники заработали только в этом году 40 миллионов долларов! Значит, кто-то верит?
«Ваше Высочество, ну не идите против своей совести. Я знаю, вы благородный человек и в душе тоже против Англии. – Да, в душе против. Да, она мне не нравится. Но я сижу и помалкиваю!»
А вот другая цифра. 78% россиян считают, что в декларациях высших чиновников представлена ничтожная часть их доходов, и только 2% оптимистов полагают, что они не врут ("Аргументы и факты" N 19. 2017). О чём мы говорим! Жили, живём и жить будем. Как-нибудь сами. Мы уже привыкли. Мы уже, наверное, без этого как-то не можем. Поэтому и любимый герой у нас тот самый Мюнхгаузен. И совсем не важно, летал он на Луну, или нет. Главное, что он никогда не врёт.
P. S. "Ну, вот и славно! И не надо так трагично, дорогой мой. Смотрите на это с присущим вам юмором... С юмором!... В конце концов, Галилей-то у нас тоже отрекался. – Поэтому я всегда больше любил Джордано Бруно..."
Сергей КАЩЕЕВ
Песни вычерпывающих людей

Когда заря собой озаряет полмира,
И стелется гарь от игр этих взрослых детей,
Ты скажешь друзьям: "Чу! Я слышу звуки чудной лиры".
Милый, это лишь я пою песнь вычерпывающих людей...
(Борис Гребенщиков)
«...Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеёшься над ними, считаешь пустяками, и всё же идёшь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клёны, берёзы, и всё смотрит на меня с любопытством и ждёт. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!
Надо идти, уже пора... Вот дерево засохло, но всё же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то всё же буду участвовать в жизни так или иначе...»
(А. Чехов «Три сестры»)
«Ах, не вините меня в том, что опоздал чуть-чуть...», – поёт в своей песне Александр Розенбаум, извиняясь перед Окуджавой и Высоцким. А Окуджава, в свою очередь, в своей песне извинялся перед Пушкиным: «А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем...». «Засохшие деревья» классиков участвуют в нашей жизни «так или иначе». Они своими вечными строками упрекают за нашу лень, безмятежность, жизненную бытовуху. Они напоминают о бренности. И всё же так хочется поговорить с ними! Так много хочется спросить!
Антон Павлович Чехов – писатель, совершенно не похожий на привычных нам русских классиков. В драматургии он вообще... неправильный. Он всё делал не так. И делал это не революционно, и не по-декадентски протестуя против устоев государства или общепринятых тогда норм театрального искусства, а, наоборот, – в высшей степени интеллигентно. При этом очень стесняясь своей «неполноценности». За него об этом говорит Тригорин в «Чайке»:
«...Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно. Но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... (Смеясь.) А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски всё будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева»...
Сколько же людей, пытающихся складывать слова в предложения, претендуя быть читаемыми, после чтения Чехова произносили с досадой про себя: «Да! У меня мило и талантливо. И так до гробовой доски будет мило и талантливо. Но пишу я хуже Чехова»!
И всё же так хотелось бы встретиться! Так было бы интересно узнать не из умозаключений критиков и литературоведов, а именно от него: почему же всё-таки он настаивал, что «Вишнёвый сад» – это «комедия»?! И почему собственноручно так же определил этим жанром свою «Чайку»? Ну, какие же это к лешему комедии?!! И, кстати, почему тогда пьеса «Дядя Ваня», созданная из рассказа «Леший», комедией не названа?
А почему, Антон Павлович, вы отдали свою ещё свежую «Чайку» в петербургский Александрийский театр, где она с треском провалилась, а не сразу в Московский Художественный, где «Чайка» взлетела даже на эмблему театра?!
А как вам вообще удавалось работать со Станиславским и Немировичем-Данченко, если вы от своей жены, актрисы Книппер-Чеховой, наверняка знали, что два мэтра-создателя так «любили» друг друга, что несколько лет общались через закулисный коридор только записочками?
А какие свои ранние рассказы вы выбрали бы для школьной программы, кроме «Хамелеона» и «Лошадиной фамилии», которые мы и так изучаем в школе?
А был ли у вас в жизни момент, когда после перечитки вами же написанного, вы, как Пушкин про себя когда-то, вскрикнули: «Ай да Чехов! Ай да сукин сын!»?
И, возвращаясь к первым вопросам, каково вам было после провала «Чайки»?
Где же вы силы-то взяли и веры, чтоб не послать подальше этот весь театр с его вешалками, интригами и лицедейством?
А знаете ли вы, Антон Павлович, что ваши пьесы, не имеющие по сути интриги, не имеющие захватывающего сюжета, мистики, драйва, неожиданных действий героев, непредсказуемых коллизий, то есть всего того, на чём держится сегодняшний театр, конкурирующий с индустрией кино, телевидения, шоу-бизнеса, – самые статистически популярные пьесы, как в России, так и на Западе?!! Вы, Антон Павлович, сумели в этом смысле превзойти даже Шекспира.
Вы счастливый человек, Антон Павлович! Вы вычерпывали доброту из душ окружающих вас людей, не разделяя их на плохих и хороших, и заполняли этим содержимым тела придуманных вами героев, которые тоже в ваших пьесах отказывались делиться на плохих и хороших. Потому-то они и живы до сих пор. Потому что вы сто с небольшим лет назад уже определили для себя, что такое счастье.
А нам ещё искать и искать...
Вершинин. ...Давайте помечтаем... например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести-триста.
Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется всё та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «Ах, тяжко жить!» – и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.
Вершинин (подумав). Как вам сказать? Мне кажется, всё на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, наконец, тысячу лет, – дело не в сроке – настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для неё живём теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим её – и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье...
(А. Чехов «Три сестры»)
Сергей КАЩЕЕВ
Что там, под обложкой?

Книги – это «консервы», которые когда-то заготовил впрок для будущих поколений их автор. Внёс в содержимое фабулу основного ингредиента, добавил острых приправ интриги, ароматных трав подробностей эпохи, соль морали, уксус сатиры, перчик иронии. Как и консервы, приготовленные вроде бы по всем известной технологии и из одних и тех же ингредиентов, книги тоже получаются разные на вкус. Абсолютно одинаковый язык, стиль и сюжет продукции «консервных» заводов, выпускающих потоком детективы и фантастику, любовные истории и истории любви, бандитские романы и романы бандитов, отличаются от индивидуализма домашних заготовок пресностью и безвкусием. Но потребляются населением в гораздо больших количествах. Как гамбургеры или привокзальные пирожки. Съел и пошёл. Для некоторых разборчивых – с последующей изжогой.
Если разобраться, то в мировой литературе известно всего 16 сюжетных линий, которые можно узнать среди миллионов книг. Среди них наиболее известные: «история любви», «история карьеры», «история карьеры и падения», «расследование преступления», «история мести», «жизнеописание исторических событий через призму жизни придуманного героя» и т. д. Огурцы тоже бывают квашеные, маринованные, корнюшоны, резаные, цельные, в бочках, в пол-литровых баночках и т. д. Содержание вроде бы одно – вкус разный.
Книги не умеют себя читать. Внутри обложки тлеет жизнь, дожидаясь читателя. А вот когда её снимут с полки и откроют – содержимое начинает бродить на дрожжах сюжета и, как тесто, вырывается из своего объёма, заполняя всё видимое пространство. Наполняя до краёв и самого читателя. Весь его мир. Хотя бы на время чтения. Недочитанная книга – это резко прерванная жизнь её героев. Недожитая. Недосказанная. Прерванная, как самый важный телефонный разговор из-за отсутствия денег на счёте, как бешеный клёв на рыбалке, остановленный появлением рыбинспектора, как только что начавшийся вкуснейший обед – срочным вызовом на работу.
Для самих книг их собственное содержимое – большая тайна. Они могут догадываться о себе только по глазам читателя. По его реакции. Библиотечные книги могут ещё подумать, что их достоинство – это частое их открывание разными людьми. Но тогда, как и люди, книги могут ошибаться в себе самих. Потому что могут быть востребованными справочниками, пустым боевиком с красивой обложкой или любовным романом, написанным фантазирующей старой девой. А может быть почти нетронутым произведением Набокова или Платонова, сборником стихов Левитанского или Мандельштама.
Наверное, всё же, каждому хоть немного нужно знать, про что его книга.
Сергей КАЩЕЕВ
Я не очень понимаю, зачем я вспомнил эту историю. Просто мне грустно. Я уезжаю со своей малой родины. Навсегда…

…Как я покупал лошадь
Этот казус случился со мной, когда я работал в геологоразведке на Южном Урале. Месяц буришь землю с бригадой таких же бедолаг, месяц отдыхаешь. Лес, горы, до ближайшего жилья – 60 км. До базового геологического штаба – 40 км. По радиусу от неё пять буровых вышек. Одна из них наша.
Как-то так получилось, что уже на третий день нашей смены выяснилось, что прислали нам бракованные коронки для кернового бурения. Весь ящик оказался не для гранита, а вообще для почвы и глины. Связались по рации со штабом, говорят, выезжайте сами на УАЗике, все машины на объектах. Поехали втроём, всё равно бурить нечем, вышка встала. Приехали, загрузили сто килограмм алмазных коронок – и назад. УАЗик «крякнулся» на обратном пути. В 20 км от лагеря. Причём сломался он капитально. Водитель Коля даже капот открывать не стал. По звуку и треску определил скоропостижную смерть и снял фуражку.
Нести на себе железо было нереально. Рации тогда были только стационарные. Всё равно идти в лагерь, связываться со штабом, но дадут ли ещё оттуда машину – это ещё вопрос. А каждый день простоя – ноль рублей в зарплате.

На карте вдруг рассмотрели «отдельно стоящий домик» всего-то километрах в двух от сломавшегося УАЗика. Послали на разведку меня, как специалиста по работе с аборигенами. Уже на подходе к единственному домику заброшенной деревни увидел хорошие приметы: из трубы шёл дым, во дворе стояла добротная телега, в конюшне заржал конь. По двору ходил совершенно одинокий петух и, видимо, от одиночества бочком и незаметно пытался подкрасться к группе флиртующих с ним бдительных ворон.
Наконец вышел хозяин. Лицо чёрное от загара и мятое, задубелое, как кирзовый сапог. На ногах – обрезанные по самую пятку сапоги невероятного размера, драгунское трико времён войны 1812 года и засаленный пиджак с рыболовными крючками на отворотах воротника, оставшийся хозяину наверняка со своей свадьбы. Лицо выражало гордый интерес.
Разговорились. Начали, как следует, с погоды, обсудили безобразные дороги прилегающей местности, дальность магазина, виды на урожай грибов. Наконец я рассказал о ситуации, позёвывая, чтоб не очень-то выказывать интерес, кивнул на телегу и поинтересовался о стоимости аренды гужевого транспорта.
– А вес груза какой? – опасливо спросил дед.
Я ответил, что килограмм 50-60. Дед посочувствовал и, закатив глаза, углубился в математические вычисления.
– 20 рублей! – категорично объявил он и постарался сделать вид, что даже не интересуется моей реакцией.
Я, разумеется, выразил оглушительное недоумение нереальностью цены, и после торгов мы с ним сошлись на 17-ти.
Когда он вывел к дому своего коня, у меня вытянулось лицо. Лошадь была какой-то непропорциональной длины и худобы. В зубы можно было не смотреть, возраст угадывался с первого взгляда.
– Домчит, как на крыльях! – успокоил дедуля и попросил деньги вперёд. Сам он идти категорически отказался, и через каких-то пару часов непрерывных понуканий я промчался два километра до УАЗика. Загрузились, оставили автомобиль на дороге и опасливо пошли рядом с телегой.
– А чем его кормить-то будем? – озадачился водитель Коля. – Они ведь овёс едят! Где мы его возьмём?!
– У нас гречка есть! – предположил геолог Григорий, всю жизнь проработавший в городе в институте, перед пенсией решивший набрать полевого стажа.
– Трава вокруг зелёная! Они траву едят! – поразил я своих приятелей деревенскими знаниями.
«Дирижабль», как мы обозвали безымянного коня за его пропорции, перебирал ноги задумчиво и удивлённо. К вечеру, когда нам до базы оставалось ещё километров десять, наш верный конь остановился, упал и испустил дух. Натурально. После попыток сделать ему искусственное дыхание, массаж сердца, громкие крики в уши, стало ясно, что мы попали. После короткой нецензурной панихиды решили переночевать и утром разделиться. Мне было назначено идти к мошеннику-деду (я у него ещё и паспорт оставил), а Гриша с Колей двинут в наш лагерь.
Встали засветло, и уже вместе с восходом я был у деда. Тот, увидев меня, как мне показалось, с тайной надеждой спросил:
– Где конь?
– Умер твой верный одногодка! – мстительно успокоил его я.
– Загнали Борьку!!! – то ли обрадовался, то ли возмутился дед.
– Если б мы его «гнали», то довезли бы, может, груз до лагеря. А он тут рядом, возле брода сдох. И эти десять километров часа четыре плёлся! Давай, дед, паспорт. Телегу мы тебе притащим, когда машина с базы придёт.
– Я вам целого коня живого и здорового дал? Дал! Где он? Нету! Давай плати, как за живого!
– Дед! Если б он вчера вечером не сдох, тебе бы сегодня утром могилу пришлось бы копать своему длинномеру! Он у тебя уже заупокойные молитвы сам себе читал! А так мы его в лес оттащим, лисы и волки сожрут.
– Какой конь был! – запричитал хитрюга-дед.
Я деликатно промолчал.
– Будённовской породы! – осмелел нахал.
– Наверное, самого Будённого живьём видел, – не выдержал я.
Он у меня пятнадцать лет жил живой и здоровый, и ни разу не сдох! 300 рублей! – сказал как отрезал старик.
Я натурально упал на пятую точку.
– Да ты что, дед!!! На такие деньги я тебе арабского скакуна приведу! На эти деньги шесть новых велосипедов можно купить! На эти деньги натуральный дирижабль можно купить! – заголосил я.
После получаса переговоров сошлись на ста рублях, мою штормовку и ботинки в придачу.
Довольный дед пошуршал полученными от меня купюрами, и, поглядев, как я разуваюсь, предложил:
– А может, петуха моего купишь? – и кивнул на своего одинокого извращенца.
– А он что, тоже вот-вот должен шпоры отбросить? – предположил я.
– Не. Он у меня особенный. Всех кур до смерти затаптывает! – гордо заявил дед.
– Смотри, сам будь с ним осторожен! – посоветовал я деду, мысленно пожелав обратного, и босяком захромал по дороге, стараясь не наступать на сосновые шишки.
Сергей КАЩЕЕВ
Продаётся дом

Редкими наездами в посёлок, затерянный в горах, я не раз пыталась попасть в родной дом. Новые хозяева дальше двора заходить не позволяли, видимо, стеснялись беспорядка, а может просто не доверяли незнакомому человеку. Но даже эта пара минут и несколько шагов по двору моего детства обостряли чувства так, что дней десять я не могла отойти от нахлынувших воспоминаний. Всё та же деревянная лестница так же упирается в глухую стену дома… Нижняя ступенька – металлическая, об неё обычно мы чистили обувь, потому что тротуара и дороги в пору моего детства на нашей непролазной от грязи улице Пролетарской не было. А на верхних ступеньках лестницы, сжавшись в комок от утренней прохлады, я любила греться в первых лучах солнца. Утром в нашем Предгорье, даже летом, вплоть до обеда, воздух оставался прохладно колючим. Дверь на летней кухне, построенной отцом из турлука, та же. Да что дверь? Обычные листы картона, прибитые когда-то для утепления двери – те же! После покраски пола я оставила на картоне коричневые разводы, очищая кисть. «Наследила», – так выразилась недовольная моим художеством мама.
Давно уже нет в живых моих родителей, ушла из жизни сестра, с которой мы с малых лет хозяйничали по дому и двору. Родители были вечно заняты домашним хозяйством и огородами. До их возвращения с работы мы старались устранить последствия безудержных детских забав и выполнить все поручения по дому, что удавалось не всегда. На этот раз меня встретил обломок ручки от зонтика, запиравший снаружи слуховое окно. Чудом уцелел он с тех пор, когда мы пытались пилотировать с крыши дома под куполом зонта. Ни разу на моей памяти этот старинный чёрный зонт с ручкой из сандалового дерева не использовался домочадцами по прямому назначению. До сих пор мучаюсь вопросом о том, откуда столь изящная вещь появилась в нашей семье, и ретуширую по утрам шрам над правой бровью, оставшийся после «полёта» с крыши. Купол зонта отделился и воспарил, а я рухнула в куст сирени с ручкой-тростью.
Милых примет прошлого, открывавшихся мне всякий раз в редкие минуты свидания с двором и домом, хватало, чтобы восстановить в душе равновесие. «Пока стоит на земле дом моего детства, я не чувствую своего возраста. Здесь мое место силы», – убеждала я себя, возвращаясь обновлённой из однодневных редких поездок в родные края, как из продолжительного отпуска.
Наш постаревший, вросший в землю дом под железной крышей, обитый новыми хозяевами пластиковыми панелями, приходил ко мне в снах только в прежнем своём виде. С просторными, почти пустыми комнатами, по которым мы катались по кругу на велосипеде, с настежь распахнутым в старый фруктовый сад окном. Через него детьми мы частенько выпрыгивали, чтобы сократить путь до дощатого туалета или выбраться со двора на улицу незамеченными. С тех пор одна из створок окна так и осталась скособоченной. На давильном прессе, от которого остался теперь только ржавый металлический штырь, мы катали друг друга, как на карусели. Видно, крепко вогнали его в землю, раз новые хозяева до сих пор не могут извлечь это опасное препятствие.
Если снился дом, я знала, что сон – вещий. Содержание сна запомнить не удавалось, но послевкусие сохранялось. Поразительно, но в течение ближайшей пары дней я наяву испытывала, в точности до мельчайших нюансов, те же чувства, что и во сне. Как будто мой старый дом заранее подготавливал меня к событиям, в том числе и неприятным. Эти «подсказки» со временем стал учитывать и мой муж, не верящий в вещие сны.
Городская квартира, в которой много лет проживает моя семья, ни разу за мою долгую жизнь почему-то так мне и не приснилась. Будто это не очаг, а всего лишь объект недвижимости, о котором вспоминаешь, когда приходит время платить налог. Со старым же отчим домом пуповина с годами только крепчала. А ведь утром, после выпускного вечера, полвека назад, я уходила из него с твёрдым намерением никогда больше сюда не возвращаться. Родительскую семью нельзя было назвать дружной и счастливой. Но дом меня не отпускал.
Нынешним летом, позвонила подруга детства и между прочим сообщила: «Твою родину выставили на продажу». Хотя умом я давно понимала, что дом не мой, а чужой, меня охватила паника. Чтобы как-то отделаться от нахлынувшей тревоги, уговорила супруга съездить в ближайший выходной в Предгорье.
На калитке была прибита табличка с номером сотового телефона. Нынче не принято писать «Продается», достаточно номера для связи. Человек, запустивший меня в дом, оказался квартирантом. Судя по его репликам, скорая продажа дома была ему невыгодна. Жилец заявил, что подвал под домом непутёвый, а большая комната вообще непригодна для житья. С трудом сдержала себя, чтобы не обнаружить, что дом этот мне не чужой. О каждом его уголке я могла бы рассказать этому критику множество бесценных подробностей. Например, почему в самой большой комнате пол цементный. Да потому, что каждую осень вся она заполнялась корзинами с виноградом. По вечерам всей семьёй вместе с соседями, которые приходили на помощь, мы обрывали с виноградных гроздей «бубочки» на вино. Работа эта занимала месяца полтора, случалось, что под корзинами образовывались лужицы виноградного сусла, и на умопомрачительный запах «изабеллы» слеталось множество пчёл и ос. Однажды оса укусила меня за язык, и несколько дней я не ходила в школу, потому что толком не могла говорить. Даже теперь, спустя столько лет, окраска пола неровная: от светло-серой до темно-фиолетовой. В один из таких вечеров вместе с моей подругой, устав от однообразного занятия, мы сочинили поэму, героями которой стали жители нашей улицы.
Наша Лида так красива
У неё фигурка – сила
Носик длинный не беда
Словом, девка – хоть куда!
Рассказ о внучке, повторяемый ежедневно соседкой бабой Леной Григорянц, переправленный нами в незамысловатое четверостишье, по сей день остаётся в памяти моих сверстников, когда мы вспоминаем обитателей нашего кутка.
Не менее колоритный герой улицы и нашей поэмы – дядя Толя по кличке «Мустафа», который большую часть жизни провел в тюрьме.
Вот остановка «Стадион»
Двери настежь, вылазьте вон!
В автобусе том прикатил Мустафа,
А с ним его новая жена.
Красотка одета по-модному очень,
Гофре разошлась…
Но кофточка!
Впрочем, рассказывать дальше не станем,
Так как вы её видели сами…
Ни одна встреча с выпускниками нашей школы не обходится без цитирования строк из этой поэмы. Что называется, она ушла в народ. Несмотря на юмористический склад поэмы, все её герои были горды безмерно тем, что удостоились внимания авторов. Свои первые трудовые я заработала вместе с подругой в восьмидесятых, выступая с этой поэмой перед повзрослевшими одноклассниками «нашей Лиды». Три рубля за выход были для нас неслыханным богатством. На первый гонорар в четвёртом классе я купила себе вьетнамские кеды для уроков физкультуры, которые тогда только входили в моду.
«Именно в этом углу самой прохладной в доме комнаты с цементным полом полвека назад торчали наши белобрысые макушки из-за огромных корзин с виноградом, когда мы сочиняли поэму», – отметила я, попав наконец-то в сам дом под видом покупательницы. А спустя годы я с удивлением узнала, что Анатолий Демкин – «Мустафа» штурмовал с десантом Цезаря Куникова «Малую землю» в Новороссийске. До сих пор пытаюсь соединить в своём сознании эти два образа и корю себя за детское нелюбопытство.
– Сколько просят хозяева, – скрывая дрожь в голосе, спросила я у неряшливо одетого, давно не бритого парня, которого заметно тяготила роль посредника.
– Два с половиной миллиона.
«Цена явно завышенная. Понятно, что она условная, и торги, как говорится, уместны. Посёлок неперспективный, да и улица окраинная. До магазина и остановки «Стадион» идти далеко. Ни освещения уличного, ни подобия дороги на улице по-прежнему нет. Со времён моего детства здесь ничего не менялось. Но именно эта уходящая натура так влекла в это место, а теперь ты выискиваешь недостатки», – поймала я себя на противоречии.
Два с половиной миллиона рублей при желании мы с мужем могли бы найти, но зачем нам ветхий дом за двести километров? Открывшаяся возможность приобретения и очевидная бессмысленность этой покупки совершенно сбили меня с толку. Я поспешила за калитку не попрощавшись. Для вида сфотографировала на телефон объявление, понимая, что оно мне не пригодится. Заезжать к подруге расхотелось, отъезд из родного посёлка в этот раз напоминал побег.
«Двор, запущен, дом на ладан дышит, наших сил едва хватает раз в пять лет выбраться в эти края на могилки» – оправдывала я себя всю обратную дорогу в город. Но доводы здравого смысла, напротив, только усиливали ощущение свершающегося во мне вероотступничества. «В Уголовном Кодексе статья есть «оставление человека в беспомощном состоянии». «Могла, но не сделала», – восставала душа против разума. Дом воспринимался мной как существо живое, одушевлённое, испытывавшее страх перед неизвестностью. «Не тянитесь, к прошлому, не стоит. Всё иным покажется сейчас. Пусть хотя бы что-нибудь святое неизменным остаётся в нас», – повторяла я про себя строки, рождённые чужим печальным опытом, силясь заглушить чувство вины перед отчим домом. Приснится мне он ещё хоть когда-нибудь?
Галина ВИНОГРАДОВА
Давно не бывал я в Донбассе…

Он встретился с ней снова через многие и многие годы, почти целую жизнь спустя. Встретился неожиданно, нежданно-негаданно, в интернете, на сайте «Одноклассники». По фотографии там размещённой узнал её сразу, хотя трудно было поверить и представить, что это и есть она, его одноклассница Наташка Соколова. То ли седая, то ли такая же русовато-пепельная, какой и была в юности.
Поначалу эта нечаянная встреча с ней его не взволновала. Ведь столько времени прошло, более сорока лет. Столько произошло в его жизни, в стране, да и в мире. Да что там, прошла основная и большая часть жизни. И сам он, казалось, был уже совершенно другим.
Вот уже прошло более десяти лет, как он уволился из армии. Как офицер, полковник в пятьдесят лет ушёл в запас, а теперь уже – и в отставку. Иногда, конечно, вспоминал прожитое. Но оно было таким далёким и таким заслонённым новыми событиями, что он ловил себя на странной мысли, что всё это было как будто и не с ним, словно оно ему уже не принадлежало.
Столько встреч было за прошедшие годы, в том числе и с теми, с кем знался в юности. Но они ни к чему не обязывали, а потому проходили, не задевая его души и сознания. А тут всё было иначе. Проходило время, и он снова возвращался к этой нечаянной, вроде бы и вовсе случайной встрече с ней. В памяти всплывало то, что, казалось, уже никогда не вспомнится.
Они обменялись телефонами. И она тут же позвонила первой. Что его поразило, так это будничность их пока заочной встречи. Словно и не было этих многих лет, их разделявших.
– Привет! Ну что, узнал?
– Естественно, узнал.
Она, волнуясь, рассказала ему о себе. После школы уехала из родной кубанской станицы Н. поступать в пищевой техникум, в Донецк. Там, в Донбассе, и прошла, по сути, вся её жизнь. Там и теперь она жила одиноко и неприметно. Муж попался простой, покладистый и работящий, со временем построили свой дом. Как ей и мечталось – из белого кирпича, с летней кухней и другими постройками. Казалось, что теперь только и жить. Но не довелось. Во время срочной службы в армии муж получил какое-то каверзное ранение, которое и догнало его в пятьдесят лет. Дети – сын и дочь – выросли и разъехались. Так она осталась одна. Общалась разве только с немногими ровесницами да с соседями. И разводила цветы, чем увлекалась основательно. Так, для души. Неужели это и было то, о чём мечталось ей в суматошной юности, когда, казалось, что всё самое дорогое и драгоценное мелькает где-то впереди, и жизни этой не будет, и не может быть конца?..
А ему теперь вспоминалась их короткая, как тогда казалось, дружба. Они обратили внимание друг на друга уже перед самым выпуском из школы. А после выпускного вечера оказались вместе. Это был такой волнующий, чудесный и даже волшебный вечер, более неповторимый, когда каждому хотелось остаться с кем-то наедине, надолго, а может быть и на всю жизнь. Он вызвался проводить её по тёмным станичным улицам. Было ясно, что предстоит им бродить по ночным улицам станицы до утра, прощаясь с юностью. Не сговариваясь, пошли по улице, выходящей в степь.
Она была в белом с вырезом и короткими рукавами платье. По моде того времени – в коротком платье, обнажавшем её полные колени. Белые босоножки она сняла и шла, слегка помахивая ими. Сразу за станицей начиналось уже скошенное то ли пшеничное, то ли ячменное поле – тут и там с мерцающими в сумраке золотистыми копнами соломы. Под одной копной они присели не потому, что устали, а потому, что и далее было то же поле с копнами, и идти было некуда и незачем. Они прижались друг к другу с тем первоначальным трепетом, какой бывает только однажды. Он целовал её лицо и волосы, и она, казалось, была готова на всё. А он, волнуясь, чувствовал, что улетает в какую-то беспредельную даль. Но его удерживала какая-то неопределённость, от которой он не мог освободиться – так ведь не может быть всегда. А ему предстояло скоро уезжать из станицы. И кто знает, – может быть навсегда…
Они не слышали, как в станице пропели третьи петухи, как у ближайших хат в купах цветущей белой акации заворковали горлицы. Пробудились только от лязгающих металлических ударов где-то совсем рядом. Это хозяйка с ближайшего двора привела на длинной верёвке телёнка и забивала в землю шкворень, препиная его на тырле…
В станицу возвращались, когда уже совсем рассвело. Сизая полоска тумана змеилась вдоль крайних хат. Становилось зябко то ли от волнения, то ли от ночной прохлады. Шли, взявшись за руки. Из станицы навстречу им дохнуло душистым, сладковатым запахом цветущей белой акации.
Шли молча. И только у её дома она спросила:
– Когда ты уезжаешь?
– Через две недели, – глухо ответил он.
Спросила, хотя и знала о том, что он поступает в военное училище, и вскоре должен был уехать во Владикавказ сдавать вступительные экзамены. У калитки остановились. Он наклонился к ней. Она прикрыла глаза, видимо, полагая, что он её поцелует, а он погладил её по волосам, выбирая запутавшиеся в них еле различимые на их светлом фоне соломинки.
Эти две недели они, по сути, не расставались. Бродили по станице до глубокой ночи. А потом он ей сказал:
– Завтра рейсовым автобусом я еду в Краснодар, а оттуда – во Владикавказ.
– Я приду проводить тебя, – вызвалась она.
– Автобус ранний.
– Ничего, я проснусь.
Она пришла к автобусу. Это была их последняя встреча. Больше они не виделись. Они ничего друг другу не обещали, не давали никаких клятв. Только когда объявили посадку в автобус, он, поднявшись уже на ступеньки автобуса, обернулся и, шутя, погрозив ей пальцем, сказал:
– Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…
Он поступил в военное училище. Первое время они переписывались. Она высылала ему свои фотографии с короткими подписями «на долгую память», тем самым желая ему понравиться и давая знать, что она хочет быть с ним. Он тоже выслал ей фотографию в курсантской форме с официальной подписью «курсант Роман Бережной», тем самым давая ей знать, и как ему тогда казалось, что он уже не принадлежит себе.
Но их переписка как-то неожиданно и бесповоротно оборвалась. Его младшая сестра Света написала ему: «Не хочу быть причиной в ваших отношениях, и пойми меня правильно, но, как Наташка, так девушки своих парней не ждут…» Память оказалась совсем недолгой.
А потом были многие годы, переполненные службой и заботами. И вроде бы он забыл о ней навсегда. До этой нечаянной встречи в интернете… А теперь не мог решить для себя со всей определённостью, что в большей мере повлияло на то, что этот неведомый ему Донбасс, где он никогда не бывал, так прочно вошёл в его жизнь: то ли то, что там жила она, можно сказать, его первая любовь, его одноклассница, то ли то, что Донбасс вот уже несколько лет как был у всех на устах, где шла тихая, а теперь уже настоящая война.
И он всё больше и больше понимал, что Донбасс для него был не только городом, областью и республикой, таковым он не мог его представить, так как никогда его не видел. Донбасс становился для него совсем иной величиной общероссийского, общенародного значения. Там шла настоящая война за само существование России, за новую пробуждающуюся страну после её криминального погрома девяностых годов. Он уже различал, уже видел тех настоящих, мужественных людей, способных отстоять и возродить и Донбасс, и Россию. Даже казалось, что Донбасс теперь более русский, чем сама Россия, что оттуда начнётся восстановление и возрождение страны.
И это суровое название, имя – Донбасс – становилось для него таким благозвучным и певучим, которое хотелось повторять без конца – Донбасс, Донбасс… Вдруг вспомнилась, каким-то образом всплыла в памяти песня, слышанная ещё в юности. Теперь все его думы и о Донбассе, и о ней, его однокласснице, были как бы на фоне этой давней песни:
Давно не бывал я в Донбассе,
Тянуло в иные края,
Туда, где навеки осталась в запасе
Счастливая юность моя…
И вдруг в какой-то момент словно некая неведомая сила пронзила его, и он не мог не спросить самого себя: а почему он до сих пор там не побывал? В последние годы он работал в военном аналитическом центре. По долгу службы был во многих городах и регионах, а вот в Донбассе за все эти годы так и не довелось побывать. Уже сложилось целое народное движение, когда волонтёры, чуткие и честные люди, понимающие, что над всей нашей жизнью, над каждым из нас, уже нависла смертельная опасность, прилагают неимоверные усилия, чтобы оказать помощь фронту, воюющим регионам, а он как бы остался в стороне, на обочине, вне этого драгоценного движения. Ну да, пенсионер, но ведь не совсем же ещё старик, не из тех ещё, кто с гаснущим взором и тускнеющей памятью равнодушно наблюдает за происходящим вокруг. И он решил наконец-то поехать в Донбасс. Позвонил Наталье и сказал ей, что у него намечается оказия с волонтёрами, и он будет в Донецке. Дабы она не подумала о том, что это он только ради неё едет в опасный, воюющий регион.
Как только он окончательно решил, что ему надо, крайне необходимо ехать в Донецк, разволновался, как в молодости. Он уже думал, что его сердце позабыло эту трудную способность страдать, но оказалось, что нет. А может быть, на него действовала такая бурная весна, как-то вдруг неожиданно наступившая.
Он достал из шкафа свою уже давно забытую полевую камуфляжную форму ещё прежнего образца. Разыскал видавший виды рюкзак, уже выгоревший и из защитного цвета превратившийся в желтовато-серый. Туда, где идёт война, надо было собраться соответственно.
Удобнее всего было бы найти волонтёров-попутчиков и вместе с ними отправиться в путь. Может быть, в чём-то по возможности помочь им. И вообще это были надёжные люди. С такими его поездка, столь много для него значащая, уж точно была бы успешной.
А может быть, дело было вовсе не в этом, не только в ней, его однокласснице, которую он и вовсе было забыл, и не в этой буйной весне. А в его возрасте. Видимо, пришло время оглянуться на прожитое и пережитое. Так сказать, подвести итоги, ревниво и строго пересмотреть свои скудные пожитки. Так было ведь всегда, испокон веку, во всех поколениях. Ведь прожитое было и грозным, и трагическим. Там было немало действительно замечательных людей, его ровесников, в чьём личном благородстве и мужестве не было оснований сомневаться. И вот пришло время ответить прежде всего самому себе, а также детям и внукам своим, в каких грандиозных делах, довелось участвовать, что же такое небывалое сотворено нами, какую лепту внесли в общее движение жизни, в развитие страны и в просвещение людей?..

Тут и начинались мучительные сомнения, от которых никак не уйти и никуда не спрятаться. А что можно сказать? Получалась картина не участия в грандиозных свершениях, а жалкое самооправдание, ибо душа не может смириться с тем, что всё было напрасным. Ведь как ни крути, итог эпохи, в которую довелось жить, оказался печальным. Не стало той страны и в том её виде, какой она досталась от отцов, от родителей. Теперь ведь не скажешь, что виноваты «они», а не «мы», ибо каждый человек, приходящий в этот мир, ответственен за всё происходящее. Парадоксальное сложилось положение – каждый в отдельности вроде бы ни в чём не виновен, а результат печален…
Как помнилось, в памятные даты в школу всегда приглашали ветеранов, которые рассказывали об их участии в Великой войне. И они, дети, с трепетом смотрели на них, увенчанных орденами и медалями, как на героев и небожителей. Ведь за ними была Великая Победа! А что мог рассказать он? Да, воевал в Афгане, в других конфликтах… И он избегал таких встреч со школьниками, даже когда его приглашали.
И возникали трудные, неразрешимые вопросы: а так ли он жил, а могло ли быть всё иначе? А правильный ли он сделал выбор там, в юности? Было ли бы иначе, если бы он не расстался с Наташкой? И главное: дело не только в том, – так ли он жил, но как быть теперь, как жить дальше? Начать всё снова невозможно. Так не бывает. Но в таком возрасте люди знать этого не хотят. Как болящий ожидает здоровья, так и несчастный счастья – до конца.
А ещё он вынес из прожитого то, что многие люди, если не большинство из них, не могут, не умеют жить в своём настоящем, в своём времени. Они или убегают в невозвратное прошлое, или устремляются в неопределённое, никому пока не известное будущее. Лишь бы не остаться наедине со своим временем, со своей эпохой, какой бы она ни была. Видимо, жить в настоящем, в своём времени так же трудно, как и в своём возрасте. Для этого ведь надо уверовать в то, что каждый возраст прекрасен. А это даётся не каждому.
В конце концов, он пришёл к выводу, что ему надо обязательно съездить в Донецк для того, чтобы встретиться с ней, взглянуть на неё, поговорить с ней, и тогда, как ему казалось, всё само собой разрешится. Все мучившие его вопросы отпадут. Он увидит её, и станет ясно, правильно ли он прожил или нет. Словно эта такая запоздалая встреча с ней могла убедить его окончательно в том, что никакой иной жизни, кроме нынешней, настоящей, у него нет и не могло быть…
Попутчика-волонтёра нашёл быстро. Обычно по одному они не ездили. А тут его напарник по каким-то обстоятельствам ехать не смог. А потому водитель был даже рад тому, что в последний момент нашёлся новый напарник. Крепкий парень лет сорока с чёрной, воронёной бородой, чем напоминал чеченца, хотя, как потом выяснилось, был он коренным москвичом в поколениях. Видимо, из староверов Рогожской общины. Но спрашивать его об этом он не стал.
– Артём Власов, – коротко представился он. В тёмном, нового покроя камуфляже, ладно на нём сидевшем и, видимо, уже давно не снимаемом.
На своём тёмно-синем микроавтобусе он вёз в Донецк, в госпиталь, перевязочный материал, индивидуальные пакеты, прочие необходимые для раненых препараты.
Из Москвы выехали на рассвете, дабы весь путь уложился в светлое, дневное время. Артём оказался человеком не то что общительным, но даже беспокойным, каких теперь называют пассионарными. Он ни на минуту не умолкал: или о чём-то рассказывал, расспрашивал, или напевал. А может быть, он просто опасался задремать за рулём.
Солнце взошло, а за Серпуховом начало уже припекать. По обочинам тянулись изумрудные полосы первой травы. Деревья кутались в лёгкой дымке первой зелени. Он чувствовал, как в душе его пробуждается волнение. То ли от того, что уже давно не отрывался от дома, никуда не выезжал, то ли от предстоящей встречи, представлявшейся в его сознании в смутных картинах. Наталье он не звонил уже несколько дней. Хотелось появиться у неё неожиданно. Ему казалось, что это придаст их встрече некую загадочность и таинственность. Душа его замирала в уже давно забытом трепете, словно это просыпалась в нём запоздалая и уже невозможная молодость.
На водителя Артёма, видимо, тоже действовала и эта ранняя весна, распахнувшаяся во все концы света, и эта такая значимая для него дорога. И он наконец запел, с каждым словом всё более и более вдохновляясь:
Я в весеннем лесу пил берёзовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал
Что имел – потерял, что любил не сберёг.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
И носило меня как осенний листок.
Я менял города и менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахли цветы, не блестела луна.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей.
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?..
Артём замолчал, видимо, соотнося что-то из своей жизни с тем, о чём пелось в этой песне. А он ему сказал:
– Знаешь, Артём, а мне не нравится эта песня.
– Ну почему же, Роман Сергеевич? Разве в вашей жизни не было чего-то подобного? Разве в стогу не ночевали и не носило вас по всему свету?
– И в стогу ночевал, и по свету носило, а песня почему-то не нравится. Наверное, потому, что только с возрастом начинаешь понимать, что ни зачеркнуть, ни сначала начать ничего невозможно. В том-то и суть, в том и тайна всего – в этой его невозвратности. Кто не поймёт этого вовремя, того и будет носить, как поётся в твоей песне, как осенний листок.
Остановились только в Орле. Пообедали в придорожном кафе. А от Шахт до Снежного и к Донецку ехали уже молча. Каждый думал и молчал о чём-то о своём. О том, что вот совсем рядом идёт война, что случилась она и вовсе как-то неожиданно и как бы беспричинно. Словно понарошку. Казалось, что стоит только встряхнуться, и всё куда-то исчезнет, и эта странная война прекратится. И всё вернётся в прежнее, довоенное состояние. Да и война какая-то словно не настоящая. Настоящей в ней была только смерть многих людей да руины былой жизни, теперь казавшейся такой прекрасной…
Наконец Артём спросил:
– Вы надолго в Донецк, Роман Сергеевич?
– По обстановке, но думаю, что дня на два, не больше.
– Я тоже так, – сказал Артём. – Передам людям груз в госпиталь. Может быть, там надо будет чем-то помочь, отвезти-привезти. Отдохну и – домой, в обратный путь.
Условились, что будут на связи. Но к концу второго дня по приезде Артём будет ждать его на станции Чумаково. И уже расставаясь, Артём спросил:
– А вам, собственно, куда надо?
Роман Сергеевич на какое-то время застыл в раздумье, внимательно посмотрел на Артёма, а потом сказал загадочно:
– Знал бы я сам, куда мне надо, сказал бы…
Сразу Артём и не сообразил, о чём это сказал его попутчик. Но таинственность его слов заставили его размышлять над ними. Потом уже он убедился в том, что, видно, у человека действительно была важная нужда, какая-то большая причина и задача, внешне никак не выдаваемая, чтобы вот так вдруг, уже в возрасте, под семьдесят лет, одному отправиться в опасную дорогу.
Бережному надо было найти улицу Богодатную. Она по карте-схеме находилась где-то рядом. Когда Наталья сообщала ему свой адрес, он ещё удивился тому, что, оказывается, может быть улица и с таким названием. Даже переспросил её: «Может быть, Благодатная?». «Да нет, – уточнила она, – именно Богодатная. Это частный сектор города. Найти меня тебе не составит никакого труда…»
Он замечал по самому тону из разговоров по телефону, что Наталья тоже переживает что-то подобное. Это уже не была простая любезность, а нечто большее. Может быть, даже возлагает на него запоздалые надежды. Особенно после того, как он сообщил ей, что дочку его зовут Наташей. Дело в том, что ещё тогда, в юности, во время их короткой дружбы, он как-то сказал ей, что если у него будет дочка, он назовёт её её именем. Из этого ведь только и можно было сделать вывод, что все эти многие годы он не забывал её и думал о ней. И вот, наконец-то её надежда сбывалась…
Он остановился в раздумье, по смартфону ещё раз уточнил, куда следует идти, собираясь духом перед этой такой запоздалой, необычной и, казалось, уже совершенно невозможной встречей.
Он уже не подозревал в себе и не думал о том, что может так волноваться, что сердце его ещё может так замирать и трепетать. Всё словно складывалось по той песне, помнившейся ему с юности. Эта песня прямо-таки пророчески, на удивление точно рассказывала всю его жизнь:
И вот наконец я в Донбассе,
Вот беленький домик её…
Седая хозяйка на чистой террасе
Спокойно стирает бельё.
Стою я в сторонке безмолвно,
Душа замирает в груди.
Прости меня, Ната… Наталья Петровна,
Не знаю за что, но прости.
Прости за жестокую память.
О прежних косичках твоих.
За то, что мужчины бывают с годами
Моложе ровесниц своих.
Прости за те лунные ночи,
За то, что не в этом краю
Искал и нашёл я похожую очень
На давнюю юность твою…
Песня звучала в нём, никем более не слышимая, надрывая его сердце. Он уже не сомневался в том, что вот сейчас, через каких-то полчаса, так именно всё и произойдёт. Под звуки этой песни в душе своей он и нашёл наконец-то улицу Богодатную.

Обычная улица, скорее сельская, чем городская. С лавочками у ворот и калиток. Из-за заборов клубилась, выливаясь на улицу, цветущая сирень. Белой пеленой дома и хаты опутывал вишнёвый цвет. Под лёгким ветерком деревья смеялись и лепетали что-то молодой листвой.
Он стал искать нужный номер дома. Кажется, здесь и жила его одноклассница Наталья Петровна Соколова, давно уже – Базарова. Не слишком ли поздно он собрался в этот немыслимый путь с наивной попыткой вернуться в свою молодость или вернуть её?..
Вот и дом её. Но что это? Забор был повален, и вместо дома торчали полуразрушенные стены, лежали груды белого кирпича. Уцелели только ворота. Крашенные тёмно-коричневой краской, иссечённые осколками ворота, никуда более не ведущие, но охраняющие эти дорогие руины…
Он вошёл во двор. Там, где был палисадник, из-за груды серого битого шифера и белого кирпича испуганно выбирались на свет цветущие алые и розовые тюльпаны. А далее – каким-то чудом уцелевшая, в белой фате, невестилась цветущая вишня, вбравшаяся мов до шлюбу, но оказавшаяся теперь среди сиротливых руин как невеста, ставшая вдовой, ещё не успевшая снять фаты…
Вот и всё, что осталось от того, о чём ему в последнее время думалось и мечталось…
Не зная, как теперь быть, он вышел на улицу. Из соседнего двора вышла молодая женщина в цветастом халате. За руку она держала мальчика лет пяти. Она застыла у своих ворот, глядя на него, видно, понимая, что на руины случайно, так просто, из любопытства не приходят.
Он подошёл к этой женщине, и она, не ожидая его вопросов, сообщила:
– Обстрел был. Ракета попала прямо в дом. Наталья Петровна была в это время дома. Когда её нашли спасатели, она была ещё жива. Но до больницы не довезли. Похоронили мы её. Хорошая была у нас соседка… Помогала нам. Она ведь была одинокой. А в последнее время всё рассказывала мне, что ждёт какого-то дорогого гостя. Наш дом тоже посекло осколками.
Мальчик с любопытством смотрел на откуда-то взявшегося деда. В руке он держал прозрачный полиэтиленовый пакетик, в котором золотились, легко позванивая, автоматные гильзы… На вопрос деда, как зовут солдата, он смело ответил: «Саса».
– Это у него игрушки такие любимые, – сказала мать. – Папа наш на войне. Недавно приезжал, вот и привёз ему.
Не зная, что делать дальше, и осознавая всю непоправимость случившегося, Бережной снял из-за плеч рюкзак:
– Я тут гостинцы вёз, но опоздал… Возьмите, помяните мою Наталью Петровну… Что же тебе подарить на память, Саша? Мы ведь вряд ли когда-нибудь встретимся ещё. Ах да! – и он достал из кармана и протянул мальчику складной нож:
– Но это не игрушка, а настоящее оружие. Береги его.
Простившись с соседкой, даже не спросив, как зовут её, он пошёл назад, обратно по улице Богодатной, слегка припадая на давно ещё в Афгане раненую, но вдруг разболевшуюся ногу.
Водитель Артём уже ждал Бережного на станции Чумаково. Он издали замахал ему рукой, вышел из своего синего микроавтобуса и пошёл ему навстречу.
– Роман Сергеевич, а я, вас уже давно жду! Ну как, всё решили, со всем разобрались и управились?
– Да, Артём, всё решил и со всем управился, но только вот не знаю, так ли во всем разобрался.
– Ну тогда едем!
– Да нет, знаешь, – спокойно и твёрдо ответил Бережной, – я назад не поеду.
– То есть как? – удивился Артём. – Вы же говорили, что здесь, в Донецке, у вас нет никого из родни. И почему остаётесь, и надолго ли?
– Пока не знаю, – тихо и задумчиво ответил Бережной, – и потом вроде бы ни к чему добавил: знаешь, говорят, что пуля выбирает только виноватого… Останусь, во всяком случае, до Победы, а может быть и насовсем, навсегда…
Пётр ТКАЧЕНКО