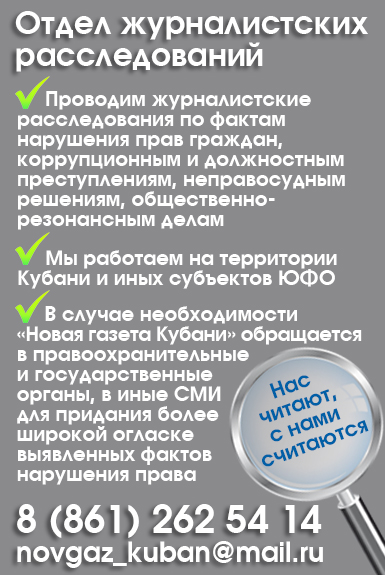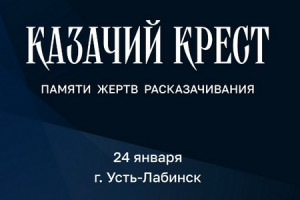Культурный проект «Родная речь»
549
М.О. Микешин занимал некое особое место в художественном мире. Он был художником, и скульптором стал как бы со стороны. Широкую известность ему принесло, конечно, создание памятника – «Тысячелетие России» для Новгорода. В 1859 году он принял участие в конкурсе и неожиданно для себя и, тем более для профессионалов, победил. Но такое положение скульптора создавало ему массу неудобств, неприятностей и переживаний, вплоть до чисто производственных проблем, когда, скажем, Императорская академия художеств не предоставляла ему мастерских для работ. Даже после смерти скульптора, после создания им последнего памятника для Екатеринодара, по общему мнению, шедевра скульптуры, вице-президент Академии художеств граф И. Толстой писал, что его работы «несомненно, представляют некоторый интерес, особенно ввиду той известности, которою пользовался академик Микешин, художник, хотя и увлекающийся, но обладающий своеобразным талантом». Словно каждый истинный художник обладает не своеобразным талантом… Этот снисходительно-пренебрежительный тон пред тем, что творческий путь скульптора уже завершён и его работы говорят сами за себя, поразителен. Конечно, тут сказывалась обыкновенная зависть. Конечно, досаждала ему во многом привычная чиновническая волокита. Да, было и то, и другое. Но ведь они были замешаны на мировоззренческих понятиях, определялись во многом тем, что мы называем духовно-эстетическими проблемами. Во всяком случае, вряд ли дело было тут в некоем вольнодумстве, которым грешил М.О. Микешин в молодости. Вольнодумство всё-таки предполагает нарушение традиции, в то время как М.О. Микешин оставался в творчестве своём традиционалистом в добром смысле этого слова. Он как бы пытался, проявляя духовный стоицизм, удержать значимость, величие и красоту человека тогда, когда новое время несло его принижение и умаление. Под знаком его освобождения, конечно…
Справедливо писал Валентин Гребенюк, что М.О. Микешин – «один из виднейших русских скульпторов второй половины ХIХ века и, пожалуй, единственный крупный монументалист, автор нескольких известных памятников, созданных в то время, когда скульптура, как искусство, переживала период относительного упадка в связи с развитием так называемого «критического» реализма в живописи. Самой своей природой, скульптура в особенности, мало приспособлена к выражению негативных явлений действительности… Монументальное искусство наоборот, как правило, призвано утверждать и прославлять то, что оно изображает. Наверное, поэтому творческий путь М.О. Микешина и в особенности его посмертная слава, были столь трудными и переменчивыми; при жизни его упорно не признавали царские чиновники от искусства. Он никак не мог отделаться от репутации «левого» художника за революционные увлечения своей юности и, прежде всего, за дружбу с «крамольным» поэтом Т.Г. Шевченко, а после революции его считали чуть ли не апологетом царизма, так как в своих памятниках он изображал русских царей и не мог не делать этого потому, что исполнял оригинальные заказы. Попутно сложилось мнение, что М.О. Микешину, дескать, вообще далеко до мастеров скульптуры прошлых лет, т.е. эпохи классицизма или даже Возрождения, хотя Теофиль Готье назвал однажды Микешина «русским Микеланджело…» («Кубань», февраль, 1992 г.).
Совершенно очевидно, что такая переменчивость славы скульптора была обусловлена вовсе не приверженностью его тому или иному политическому движению, но тем, что он оставался художником тогда, когда художественность, как цельное восприятие мира, размывалась «прогрессивными» поветриями, а в силу преобладающей темы своего творчества, он оставался верен русскому национальному понимаю государственности в то время, когда она незримо подтачивалась…
И, конечно же, узнав о заветном желании Кубанского казачьего войска отметить свой столетний юбилей установлением в Екатеринодаре памятника Екатерине II, М.О. Микешин не мог не откликнуться на него со всем жаром своей души и творчески активной личности. Казалось, ничего не предвещало особых затруднений с созданием памятника. Но сложилось всё иначе.
Более поздние исследователи полагали, что задержка с созданием памятника произошла в связи с болезнью и смертью наказного атамана Кубанского казачьего войска Г.А. Леонова. В какой-то мере это, может быть, и так. Но ведь «задержки» с установлением памятника продолжались пятнадцать (!) лет… Да, конечно, сооружение памятника дело вообще не быстрое. Создание памятника Казаку на Тамани тоже тянулось довольно долго. С установлением же памятника в Екатеринодаре были обстоятельства, которые никак не дают себя расценивать только как чиновничью нерасторопность. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что «задержка» с этим памятником была иного характера. Причина задержки прямо не декларировалась, но она, так или иначе, угадывается. И особенно различается теперь, когда прошло время.
И только в конце декабря 1892 года М.О. Микешин приступает к работе над памятником. Наконец-то предложение о сооружении памятника поступило в Главное управление казачьих войск. Летом 1893 года он вылепил первый эскиз модели.
Весной 1893 года областное правление дало разрешение на сооружение памятника, выделив сто пятьдесят тысяч рублей золотом. Идея памятника, воплощённая в высокохудожественных формах, 23 марта 1893 года была всеми одобрена и удостоилась Высочайшего утверждения Государём Императором. Дело приобретало уже обязательный, общегосударственный характер. Казалось, что теперь ему уже ничто не могло помешать.
Петр Ткаченко
Продолжение следует
Свежее из рубрики