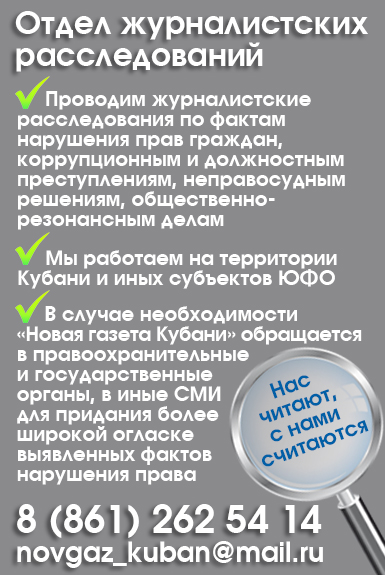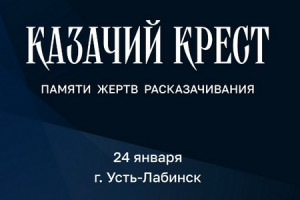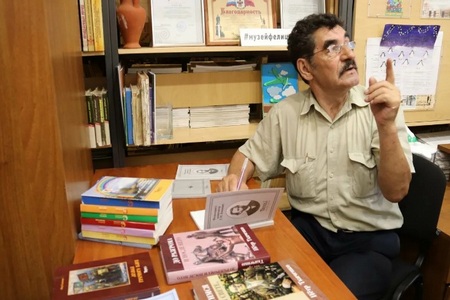
Культурный проект «Родная речь»
979
История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5
Подозреваю, что причиной и поводом для таких разночтений первоначальной страницы истории Кубанского казачьего войска, как и исчисления его истории в последующем стал тот факт, что земля была дарована Императрицей Екатериной II на вечные времена именно Черноморскому войску, в последующем Кубанскому. Но за сто лет жития на берегах Кубани состав населения области значительно изменился. Надо было как-то по-новому организовывать жизнь в столь обширном и стратегически важном для России крае. Но это вовсе не требовало и никак не предполагало отрицания дарования земли именно войску. Наоборот – быть благодарным войску за это. Однако, проводимая политика, историческая наука, общественное сознание, как понятно, формулируемые образованной частью общества, пошли именно по этому конфликтному пути.
Не менее важную роль в таком положении сыграло и то, что малороссы, в основном составлявшие Черноморское казачье войско, хотя и были родственным народом, но значительно отличались от давних поселенцев на Кавказе Старой линии, впоследствии Кавказского линейного казачьего войска (1832 г.), составлявшегося во многой мере из донских казаков и где преобладал русский элемент. Это чувствовалось на протяжении всей последующей истории. Даже уже на исходе ХIХ века в черноморцах видели «угрозу стабильности», что выявлял историк О.В. Матвеев в исследовании «Казаки глазами жандармов (по политическим обзорам Кубанской области 1880-х годов)»: «Анализ оперативной информации позволил жандармам выделить развитие самосознания в казачьей среде, прежде всего, в станицах бывшего Черноморского казачьего войска. Угрозу стабильности жандармский офицер увидел в преувеличении казачеством бывших черноморских станиц своей роли в завоевании Западного Кавказа, а также в подчеркивании принадлежности к малороссам. Ротмистр Лосев отмечал в 1890 г. : «Казачье панство – старые офицеры из черноморских казаков – с некоторого времени вдруг вспомнили своё знаменитое происхождение от запорожцев, стали на визитных карточках писать «Павко» вместо Павел, «Грицко» вместо Григорий, с простыми казаками говорить на малорусском наречии и, справляясь с правдой, уверять их, что честь покорения Кавказа принадлежит им, а не сотням тысяч воинов из всех мест Империи… Простое казачество, давно забывшее буйную историю славных предков-запорожцев, начинает мнить себя чем-то отдельным от своей кормилицы остальной России и переполняться хмелем далеко не заслуженного величия». («Российское казачество», Краснодар, «Традиция», 2012 г.). Отметим, что это «казачье панство», впадавшее в обыкновенный сепаратизм, родилось уже не в одном поколении на Кубани, словно забывшее о том, что земля была дарована за верную службу и воинские подвиги именно Черноморского казачьего войска, а не за «буйную историю славных предков-запорожцев»…
Взятие Азова
Мы не подвергаем сомнению само установление старшинства в казачьих войсках, но рассматриваем его именно в Кубанском казачьем войске, вдруг существенно изменившем его истинную историю. И поскольку история Кубанского казачьего войска оказалась не просто связанной с давними азовскими походами Петра I, но определённой ими, мы просто обязаны хотя бы в самых общих чертах представить то, как эти походы понимались изначально историками предшествующих времён.
Донские казаки издавна намеревались взять Азов, этот ключ реки Дона к Азовскому и Чёрному морям. Они, конечно, пробивались протоками к морям, но Азов оставался в этих их походах непреодолимым препятствием: «Казаки, видя такие турецкие предосторожности, учреждения и поступки с ними жестокие, хотя не переставали своими наездами, пренебрегая все их укрепления и заставы, начали помышлять о важнейшем противу того деле. Они вознамерились неотменно всё то уничтожить и опровергнуть, а ни чем иным, как отнять у них самой ключ реки Дона и истребить Азов, и тем себе отворить свободный путь в Азовское море, чтобы впредь в приемлемых своих намерениях ничто не препятствовало» («История или повествование о донских казаках Александра Ригельмана, 1778 года», М., 1846 г.).
Примечательно, что историк Алексей Попов в своей истории о Донском войске, описывал эту грандиозную эпопею взятия Азова в главе, которую так и называл: «Взятие Азова одним войском Донским». Тем самым подчёркивал важное обстоятельство, что взятие Азова происходило без участия верховной московской власти, что это было делом исключительно Донского войска: «Войско Донское, желая избавиться неприятельских турецких частых на них покушений и свободнее на Азовском и Чёрном морях действовать, в 1637 году отправило из Черкаска знатной отряд под Азов с тем, чтобы его взять». («История о Донском войске, сочинённая директором училищ в войске Донском, коллежским советником и кавалером Алексеем Поповым 1812 года в Новочеркасске», в Харькове в Университетской типографии 1814 года).
Об участии хопёрцев в этом грандиозном предприятии историки умалчивали, справедливо считая их частью донского казачества. Но зато А. Ригельман довольно подробно описывает, что взятие Азова было делом донских и запорожских казаков. Часть запорожцев, не желая более мириться с суровым гнётом поляков, решили искать себе счастья в Персии. И отправились туда в количестве четырёх тысяч человек с женами и детьми через землю войска Донского: «Когда поляки найсуровейшим образом поступили с черкасами своими, то есть, с запорожскими казаками… принуждены сего для паки искать себе прибежище в других странах, так что вдруг 4000 человек из храбрейших казаков заключили счастие свое искать в военных действиях и, собравшись с жёнами и с детьми, вознамерили себя представить Персии, которая тогда с турками имела войну. Таким образом перешли они в марте месяце к Дону. Донские казаки, состоящие в 3000 человек, встретились с ними и приняли их весьма приятно; …притом осведомились о их намерении и походе, представили им опасность похода, чрез толь многие народы и сумнение свое, что найдут ли они у персиян то, чего желают, говоря им: «Вы хотите предаться лютости басурманской и сделаться более несчастливыми, нежели благополучными. Может быть, они, примирясь, отдадут ещё вас в руки турецкие. Останьтесь, братия, лучше у нас; мы произведём вам плату, и имеем довольно запасу для ваших семей. На что вам так далеко искать того, чего не знаете, сыщете ль. Вот Азов: будем друг другу верны! Когда возьмём этот город, то будем иметь свободный проход в Азовское и Чёрное море, где в один поход можем столько взять добычи, сколько вы во все кровопролитное сражение у персиян никогда не получите». Запорожцы, посоветовав между собою, и разсудя, что они тут и без дальной езды конечно верную прибыль иметь могут, согласились соединиться с ними». 24 апреля 1637 года донские и запорожские казаки осадили Азов: «После сего на другой неделе, призвавши Бога на помощь, пошли под Азов рекою суднами и берегом сухопутно, и осадили оной 24-го числа». Турки, находившиеся в Азове, «такому предприятию только смеялись». Но «казаки начали тотчас в землю врываться, продолжали день и ночь свою работу».
В уникальном историческом и литературном памятнике «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков», посвящённому самочинному взятию Азова казаками и его героической обороне, говорится о донских и волжских казаках. В речи толмачей, парламентариев басурманских сказано: «Яко львы свирепе в пустынях ведомы, рыкаете казачество донское и волжское…». Оказывается, турки хорошо знали своих извечных противников. Ведь истинными старожилами на Кавказе были именно волжские казаки. Но вольному казачеству было сложно удержаться на Волге и часть их ушла с Ермаком в Сибирь, другая – на Кавказ, на Терек. Было это задолго до переселения на Кавказ Волжского войска (полка).
Оказывала ли московская власть помощь во взятии Азова? Разумеется, оказывала, но в целях дипломатических, не придавая огласке и даже отрицая это. В отношении казаков, она всегда проводила тонкую политику. Если соседние державы жаловались на казаков, из Москвы им сообщали, что казаки не находятся в их подчинении, и вообще это война не России с Портою, а Порты с войском Донским. Так и при взятии казаками Азова в 1637 году, когда турецкий верховный Визирь представлял Москве «великую роспись жалоб», говоря об Азове, что якобы «одни только россияне причиною тому были, что город в казацкие руки достался», «на сие российские послы отвечали, что с великим удивлением о странном и к ним совсем не принадлежащем деле принуждены слышать». Более того, уверяли Визиря, что Государь не только не оказывал помощь казакам, но наоборот старался воспрепятствовать им во взятии Азова: «Его Царское величество дерзостным казакам конечно никакой подпоры не делал, но паче ещё старался тому воспрепятствовать, чего ради и послал своих посланников в Азов, Богдана Луковича и Афанасия Борлова, но по обратном их и бесплодном приезде, ещё туда послан был Михайла Заиков, кой со всеми при нём имеющими людьми на дороге найден убит… А иным образом, когда б Его Величество так крепко своему слову и руки не держался, то не токмо тогда, но и ещё бы ныне, мог казакам в Азов на помощь толь сильно придти, чтобы Порта Оттоманская всею её морскою и сухопутною силою не могла оным городом овладеть. Но доныне ещё ни малейшей помощи им не даёт». (А. Ригельман).
Об этом писал и А. Попов: «Российский двор чрез своих послов засвидетельствовал, что он в сей войне Порты с войском Донским, яко Российскому Государю неподвластным, никакого участия не имеет». Однако, московская власть помогала казакам во взятии Азова. Во всяком случае, когда у казаков при осаде города сделался недостаток в порохе, свинце и припасах разных, они их получали: «Но сделался, наконец, у казаков для той осады великий недостаток в деньгах, порохе, свинце и в запасах разных, из чего востужились, что ни начатого их дела окончить, ни запорожцев содержать стало нечем; токмо сверх чаяния козаки были обрадованы, когда прибыл к ним, в том же апреле месяце, войсковой их атаман, Иван Катаржной с Москвы, и с ним несколько сот верховых донских казаков, притом же прислано было, с дворянином Степаном Чириковым, Царского денежного жалованья, порох и свинец, довольное число».(А. Ригельман).
Итак, 24 апреля 1637 года донские и запорожские казаки осадили Азов. Среди них оказался некто Немчин родом, именем Иван Арадов, знающий подкопные дела, которому велели вести подкоп под самый город, что он и сделал за четыре недели: «Июля в 18 число, в ночи четвёртого часа, казаки, зажегши подкоп города подорвали, и великую часть стен, со всеми бывшими на той части людьми, с снарядом и прочим, во внутрь, и за городом разбросало». Это была удивительная, излюбленная тактика донских казаков брать крепости без всякой осадной артиллерии, делая подкопы, в которые закатывались бочки с порохом, а потом подрывались. Более того, обороняя взятую крепость, они делали подкопы на подступах к ней, не давая значительно превосходящему противнику подойти к городу. Тактика, требовавшая неимоверного труда, но всегда успешная. Настолько, что на печати войска Донского был изображён казак, восседающий на бочке с порохом, как своей спасительнице…
Взявши город, казаки разграбили его, но «сделали тотчас и надлежащее учреждение к содержанию онаго в своей власти, исправили его починкою и привели в оборонительное состояние». Они возобновили в городе древнюю церковь во имя Иоанна Предтечи. И другой храм воздвигли во имя Николая Чудотворца.
Турки, разумеется, не смирились с потерей Азова и предприняли его ужасный штурм: «Потом июня 24-го числа окружили город и с ужасною силою во многих местах наступили… Но казаки подвели так хорошо везде подкопы, что турки нигде без опасения стать и шанцами укрепиться не могли». (А. Ригельман).
Турки, поизрасходовав порох, вынуждены были десять недель стоять без всяких действий. Такая стойкость казаков, их не столь уж многочисленного гарнизона, поразила многих так, что «первое известие о оставлении бесполезной Азовской осады показалось Турецкому, Российскому и Польскому дворам более баснею, нежели истинною повестию, ибо оной город в то время далече не таков крепок был, каков в 1696 году Его Царским величеством Петром Алексеевичем взят». (А. Ригельман).
Но потом турки стали чинить приготовления, чтобы с большой силой предпринять осаду Азова и возвратить город себе. Узнав об этом, казаки решили передать город под власть Российского Государя. Но им в этом было отказано: «Если можно, Его Царского Величества к помощи склонить, обещая себя и с городом в руки Его Величества отдать, и при том предлагая великую пользу, которую Российское государство от сего города иметь может. Но в том им, однако ж, отказано…» (А. Ригельман). Государь «не согласился на представления Донского войска в отправлении ему помощи и в принятии от него Азова» (А. Попов). И тогда «Войско Донское знавши о чрезвычайных приготовлениях к непременному возвращению сего города и не надеясь на помощь даже и Российского двора, приказало своему отряду со всеми потребностями из Азова выбраться, а при появлении неприятеля все башни и укрепления подорвать и городские строения сожечь» (А. Попов). «Казаки, не получа к удержанию Азова вспоможение, оставля оный подорвали и возвратились на Дон» (А. Ригельман). После жесточайшей четырёхмесячной его обороны. Они владели Азовом, стойко обороняя его по 1642 год, то есть, по сути пять лет.
Блестящий публицист и историк генерал И.Д. Попко писал об этом беспрецедентном подвиге казаков: «Совершилось на Дону событие, покрывшее вечной славою удаль вольного казачества: донские казаки, соединившись с запорожскими, без инженеров и осадной артиллерии, овладели сильной турецкой крепостью Азовом и несколько лет отстаивали её против стотысячных армий могущественной Порты Оттоманской. Но, когда руководимая благоразумием Москва не пожелала принять этого завоевания (хотя от Кахетии и Карталинии и не отказывалась), то победителям добровольно покинувшим турецкую крепость, не дешево пришлось платиться за свою удаль, оправдавшую русское присловье: смелость города берёт.
Петр Ткаченко
Свежее из рубрики