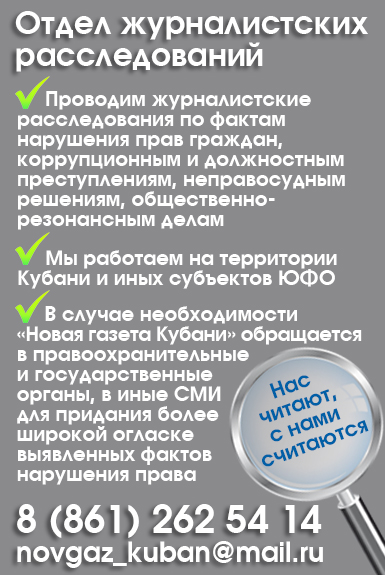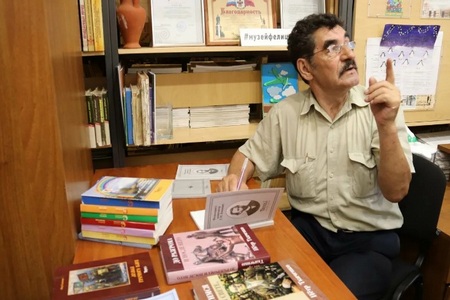
Культурный проект «Родная речь»
77
История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8
Сага о Хопёрском полку
Историки, обосновывая старшинство в Кубанском войске по Хопёрскому полку, рассматривают его историю до переселения на Кавказ и историю хопёрцев, точнее было бы сказать, новохопёрцев, уже на Кавказе. Хотя докавказская история хопёрцев к определению истории Кубанского казачьего войска никакого отношения не имеет. И, тем не менее, в аргументации историков, пожалуй, в равной мере присутствуют как докавказская, так и кавказская история хопёрцев.
Что касается докавказской жизни хопёрцев, то исследователи, писавшие о ней, повторюсь, проявляли, как справедливо отмечал В.А. Колесников, «слабую доказательность их старшинства именно с 1696 года». Об их пребывании на Северо-Западном Кавказе тоже нельзя сказать, что там они занимали некое «особое место», и что им принадлежала «исключительная роль» в освоении края. Да, можно сказать, что они «старожилы» этих мест. Но не единственные, а наравне с другими подразделениями, полками и даже казачьими войсками. И прежде всего Волгжским (Волгским) войском.
Неизбежно встаёт вопрос: «Так что мы берём за основу для выделения хопёрцев вообще, а потом и Хопёрского полка среди других войск, полков и подразделений – их докавказскую историю или же их старожильничество уже на Кавказе? Ответ очевиден, – конечно, за такую основу надо брать их кавказское житие. Но историки продолжали писать об их докавказской истории, порой теряя к ней интерес как не содержащей предмета для исследований. Более того, именно по докавказской их истории определяли старшинство в Кубанском войске, хотя об участии хопёрцев в походах Петра I на Азов и их подвигах там, история умалчивает. Но тогда нельзя не задаться вопросом: как быть с действительно грандиозным подвигом донских и запорожских казаков, где были, видимо, и хопёрцы, задолго до походов Петра I при Азовском осадном сидении 1637-1642 годов? Их действительный подвиг в связи со старшинством по Хопёрскому полку, получается, выпадает из истории. И всего лишь потому, что это были не Петровские походы, а самочинные донских и запорожских казаков, что, как понятно, величия их подвига умалять не может. По исторической справедливости их подвиг не может быть выброшен из истории.
Освоение Северного Кавказа было делом государственным, осуществляемым силами всей Империи, где каждому подразделению и полку отводилась своя роль и задача, считать которую некой заглавной не было никаких оснований. К тому же заселение края не было только и исключительно казачьим. Как писал Ф.А. Щербина, «крестьянская колонизация края велась более успешно, чем казачья». Во всяком случае, участие в ней армейских полков было не менее значительным, чем собственно казачьих. О заселении Северного Кавказа, как общегосударственном деле писал так же и И.Д. Попко, никак не выделяя, при этом хопёрцев, и не видя в них некой особой роли: «По дальнейшему протяжению линии поселились слободско-украинские казаки, переведённые с Хопра в одно время с волгскими и составившие Хопёрский полк, который в круг нашего описания не входит».
Но сначала – всё-таки об истории Хопёрского полка, коль именно он оказался в центре определения истории Кубанского казачьего войска, без достаточно веских на то оснований. Полковой историк есаул В.Г. Толстов отмечал, что «первые весьма неопределённые известия о казаках на реке Хопре относятся к началу ХVII столетия, к первым годам правления Михаила Фёдоровича, когда в Москве узнали, что на Хопре мятежные казаки с атаманом Заруцким «воруют и прямят Маринке и сыну ея». Речь шла о польской авантюристке Марине Мнишек, связанной со Лжедмитрием и последующей антимосковской политикой. А первые официальные источники о хопёрских казаках относятся к 1669 году, когда Стенька Разин принёс повинную и засел за житьё в построенном им Кагальницком городке. Ну и уж совсем хорошо узнали в Москве хопёрцев, о том, что «состав населения их отличался всегда неспокойным и мятежным характером» во время войны со шведами, когда осенью 1707 года на Дону вспыхнул Булавинский бунт, имевший трагические последствия для хопёрских казаков. Безусловно, бунт был спровоцирован царским указом о возвращении из донских казачьих городков беглых, которые приняты в число казаков после 1695 года. Поводом же к такому царскому указу стали жалобы на то, что податей взымать не с кого и в армию стало призывать некого, так как казаки разбегаются. Пётр Алексеевич, по своему обыкновению, и здесь разрешил всё скоро и радикально, не особенно задумываясь о последствиях своего решения.
Как известно, в конце 1707 года на Дон был послан князь Юрий Долгорукий с пехотным полком в две тысячи человек при пятидесяти двух офицерах. Булавин ушёл на Хопёр, где без особых затруднений поднял мятеж в казачьих городках по Хопру, Бузулуку, Донцу и Медведице. Немаловажную роль в бунте сыграло и то, что в это время пятнадцать тысяч лучших казаков находились на «баталиях шведских», а дома оставались, скажем так, менее стойкие от внешних влияний люди.
Двадцать офицеров и до тысячи солдат, прибывших на Дон, погибли от рук бунтовщиков. Был убит и князь Юрий Долгорукий. В марте 1708 года Булавин снова появился на Хопре в Пристанском городке. К нему пристали все двадцать пять городков с 3676 казаками. Затем Булавин взял Черкасы, где был избран мятежниками в войсковые атаманы.
Пётр I двинул на Дон для подавления мятежа до двадцати тысяч регулярных войск под начальством князя Василия Долгорукого, брата убиенного мятежниками Юрия. Царь распорядился «все городки от Пристанского до Бузулука разорить»: «Указом 14 мая 1711 года он приказал городки верховых с Хопра за воровство, за принятие Булавина к себе и за то, что ходили против государевых войск, и жителей свести в низовые станицы, чтобы впредь на то смотря, так воров и бунтовщиков и шпионов принимать было не повадно. В июле 1712 года Пристанский, Беляевский и Григорьевский хопёрские городки, после выселения из них жителей, были разорены и принадлежащие им земли присоединены к Воронежской провинции» (Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1910, 1913).
Более семи тысяч казаков было казнено и побито. По указу царя на месте Пристанского городка позже была построена Новохопёрская крепость с земляными валами и внешним рвом. Азовский генерал-губернатор Апраксин в ведении которого находилась Воронежская губерния, объявил о вызове к Новохопёрску вольных черкас, посадских людей и вообще казаков и начал их приём с 1717 года. В Новохопёрский гарнизон записалось 219 охотников из донских казаков, которые стали зваться новохопёрскими казаками. Это была Хопёрская команда, которая шестьдесят лет спустя преобразована в Хопёрский полк.
После столь жестокого царского наказания хопёрский край оставался малолюдным. По переписи уже 1771 года в Новохопёрске было всего 247 казаков команды и отставных. И в четырёх слободах проживало ещё 1215 человек мужского пола, некоторые из которых наряжались на охрану крепости, а остальные никакой службы не несли. В связи с переписью и не зная её причины, новохопёрцы заволновались, полагая, что всех, кто не служит, могут зачислить в подушной оклад или отдать в солдаты. И тогда начались хлопоты по созданию Хопёрского казачьего полка.
Сначала думали действовать через коменданта Новохопёрской крепости полковника Подлецкого, но казаки не доверяли ему, не любили его и подозревали, что он не даст делу ход. И тогда они, сговорившись, выбрали из среды своей казака слободы Пыховки Петра Подцвирова и доверенных лиц. Поздней осенью 1772 года эта делегация прибыла в Петербург и подала в Военную коллегию прошение на Высочайшее имя. Новохопёрцы просили учредить пятисотенный казачий полк, а также, в подушной оклад их не класть и возвратить исстари принадлежавшие им земли и разные угодья. Избранные жаловались также на Подлецкого, что он обременяет их неуказанною службой, употребляет на казённые и частные работы бесплатно и поступает с ними несправедливо.
Подлецкий попытался было отдать Подцвирова под суд, якобы за самовольную отлучку от команды, но казаки отстояли его. А Подлецкий вынужден был оставить свою должность, так как высшее начальство не признало Подцвирова виновным. 6 октября 1774 года Военная коллегия ходатайствовала о сформировании из новохопёрских казаков пятисотенного полка. По ордеру графа Г.А. Потёмкина от 24 сентября 1775 года за № 1524 командиром Хопёрского полка был назначен армии премьер-майор и войска Донского полковник Устинов, который и приступил к его формированию.
Надо сказать, что несколько ранее, в июле 1774 года президент Военной коллегии генерал-аншеф Григорий Александрович Потёмкин был назначен Новороссийским, Астраханским и Азовским генерал-губернатором и начальником всей лёгкой кавалерии, в том числе Моздокского, Хоперского (ещё не существующего), Чугуевского и Тобольского казачьих полков и Донского, Волжского, Астраханского, Оренбургского, Яицкого казачьих войск. Таким образом, всё дело обустройства и обороны наших южных рубежей сосредоточилось в его деятельных руках. И поскольку до этого наша граница на Кавказе тянулась по Тереку от Каспийского моря до устья реки Малки, на всём протяжении заселённая станицами кизлярских, гребенских, терских и моздокских казаков с укреплёнными пунктами Кизляром и Моздоком, теперь, когда к России отошли берега Азовского моря, князь Г.А. Потёмкин замыслил продолжить линию от Моздока к Дону, то есть, создать Азово-Моздокскую укреплённую линию, поселив там хопёрских и волжских казаков. Но не только казаками мыслилось укрепление этой линии. На Кавказ был вызван генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Он принял командование Кавказским корпусом. В зиму 1777 года и в 1778 году при помощи трёх тысяч рабочих с Дона линия была укреплена редутами и фельдшанцами от Азова до Тамани, а оттуда вверх по Кубани до нынешней станицы Кавказской.
Г.А. Потёмкин сделал доклад Императрице относительно заселения хопёрцами и волжскими казаками Азово-Моздокской линии. Государыня утвердила его доклад, начертав на нём собственноручно 24 апреля 1777 года: «Быть по сему». Хопёрскому полку предстояло переселение на Кавказ, где он поступал в распоряжение генерал-майора Якоби, астраханского губернатора: «Летом 1778 года на новую линию с Хопра прибыла первая партия казачьих семейств со всем имуществом и распределилась на житье в оконченных постройкою станицах при Ставропольской и Северной крепостях… Наконец, летом 1780 года с Хопра перешли на новую линию все остававшиеся там казаки, женщины и малолетки, и в феврале 1781 года весь Хопёрский полк окончательно водворился и устроился на Азово-Моздокской линии в своих станицах при Северной, Ставропольской и Донской крепостях в каждой по 140 семейств» (В.Г. Толстов). Так началась кавказская жизнь хопёрцев, кстати, не менее буйная, чем была на Хопре, что историк полка описал довольно подробно.
Опять-таки, не могу не соотнести титанический труд наших великих предшественников по обустройству Новороссии, присоединению Крыма, освоению Кавказа, укреплению наших южных рубежей с тем, как мы сегодня понимаем и расцениваем их подвиг. Того же князя А.А. Потёмкина, который и был всем этим занят, – от замыслов до воплощения. Александр Разумихин в историческом эссе «Судьбе было угодно» («Наш современник», № 6, 2025 г.) пишет о князе : «Хотя все титулы, звания и даже деяния можно было бы свести к одной всеобъемлющей формуле: фаворит и даже морганатический супруг Екатерины II». Автор «постельного» исторического эссе, видимо, полагая, что он уличает князя в протекции ему со стороны Императрицы, уничижительно пишет о нём, как он благодаря этому, за десять лет от подпоручика дорос до подполковника: «А дальше пошло-поехало. Буквально через десять лет подпоручик уже подполковник». Но десять лет, а не «всего десять» – это нормальное чинопроизводство без всякой протекции. Но, разумеется, при ревностной службе. Ах да, потом Екатерина II пожаловала ему колоссальные земельные владения в Крыму, именным указом пожаловала титул Таврического, возвела в генерал-фельдмаршалы. «И ведь было за что, даже забыв про его фаворитство», – пишет автор эссе. Но фаворитство его не забывает, оставляя в качестве «всеобъемлющей формулы» даже в оценке «деяний» его.
Ну сыграл решающую роль в присоединении Крыма; ну основал города Екатеринослав, Херсон, Севастополь, Николаев; ну заложил основы и начал строительство Кавказской кордонной линии. Но ведь всё равно фаворит… Невольно задаёшься вопросом: как могли наши выдающиеся предшественники сочетать и «любовные похождения», и великие дела? У толкователей же их жизни на первом плане – «любовные похождения», а дела так себе, потом, как мало что значащее. А есть ли «дела», у тех, кто сегодня тотально на виду, благодаря лукавству средств массовой информации, то чаще – одни «похождения» или мошенничество всех видов. С такими ли исключительно «постельными» представлениями о жизни человеческой судить о великих людях, плодами деятельности которых мы сегодня пользуемся?..
Откликаясь на историю полка В.Г. Толстова, П. Юдин писал, что «Хопёрцы не составляли самостоятельной единицы, не были ни Войском, ни полком, а всецело входили в состав Войска Донского, как и прочие казаки Бузулукские, Медведицкие, Урюпинские и т.д., именовавшиеся по тем урочищам, где они имели свои постоянные становища». Они стали полком в 1775 году и сразу же началось их водворение на Кавказ. Собственно, для этого полк по замыслу Г.А. Потемкина, и создавался. Но тут оказалось, что хопёрцы, столь настойчиво добивавшиеся создания пятисотенного казачьего полка, следовать на Кавказ не особенно хотели. В связи с этим П. Юдин писал: «Описывая переселения казаков на Кавказ, автор не коснулся очень важных и интересных эпизодов – возникновения среди хопёрцев волнения, побегов некоторых из них, наказания и крутые расправы с ними их первого командира полка Устинова, этого изверга рода человеческого и кровопийцы казачьего, которого, однако, Г. Толстов рекомендует, как заботливого начальника. Нет сомнения, что ему эти сведения не были известны, так как он пользовался документами, извлечёнными Дмитренкой из Московского архива иностранных дел, тогда как указываемые мною материалы хранятся в Астраханском архиве».
Всё это к тому, что докавказская жизнь хопёрцев не отличалась какими-то воинскими подвигами, в том числе и в Петровских походах на Азов. И уж тем более, нельзя её назвать служением престолу и Отечеству. Не назовешь же их, по сути, поголовное участие в Булавинском бунте таким высокопарным служением. С 1777 года возможность такого служения на Кавказе, вновь созданному Хопёрскому полку, предоставлялась. Наряду с другими полками, переселявшихся туда и создаваемых там имперской властью.
Как уже видели, установление и настойчиво навязываемое старшинство в Кубанском казачьем войске по Хопёрскому полку действительно ставило историков в двусмысленное положение. Излагая историю Кубанского войска, они не могли, вместе с тем, не пускаться в давнюю историю хопёрцев, ещё до создания Хопёрского полка, никакой преемственностью с кубанцами не связанной, так как к тому времени официально было провозглашено 200-летие Кубанского казачьего войска, которому исполнялось 100 лет. Не избежал этого и такой известный и основательный историк как П.П. Короленко. Но, в конце концов, он развенчивает миф о старшинстве хопёрцев и подчёркивает заслуги и соответственно и большие претензии на первенство в Кубанском войске черноморцев: «Главный вывод, к которому приходит П.П. Короленко, это отсутствие преемственности основателей Новохопёрской крепости с прежними (до 1708 г.) поселенцами Хопра, поскольку те, кто стал причисляться к ним в 1717 г. и в последующие годы, являли собой выходцев из соседней Тамбовшины, черкасов и посадских людей» (В.А. Колесников). Но в таком случае 1696 год здесь вообще не при чём, как не имеющий никакого отношения к кубанцам. Историк в нём возобладал над иными соображениями и внешними влияниями, что удавалось далеко не многим исследователям как в прошлом, так и теперь.
Петр Ткаченко