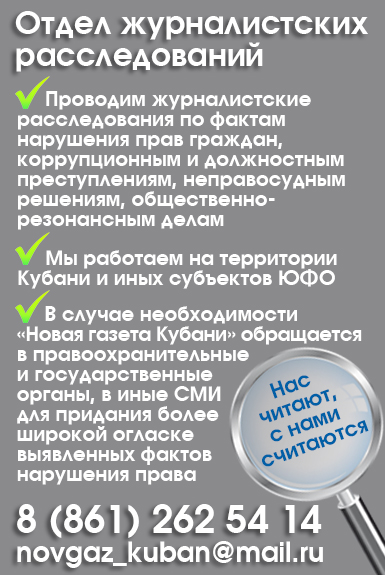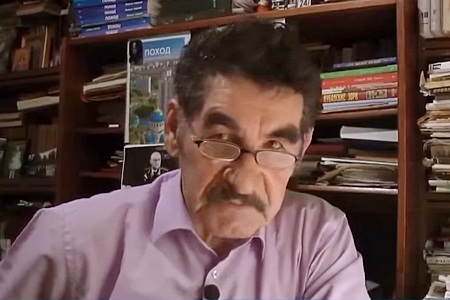
Культурный проект «Родная речь»
705
История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7
Тут же на этом казачьем фестивале кубанский диалект называли балачкой, а не балакачкой, как он в действительности называется. Но балачка это украинское слово, обозначающее слух, сплетню. Кубанцы же выработали своё название диалекта – балакачка. И когда организаторам задавали вопрос о том, что есть же словари кубанского диалекта, кстати, там же, на фестивале распространявшиеся, они отвечали: мы об этом знаем, но не все с этим согласны. Разумеется, с этим не согласны невменяемые украинофилы, которых на Кубани, видимо, немало. Но в таком случае это – Казачий фестиваль или антиказачий, если судить не по его красочной форме, и масштабу привлечения его участников, а по сути пропагандируемых на нём идей, понятий и представлений? Представлений, далёких и от истории, и от традиционной народной культуры.
Не могу сказать, что это особенность только этого фестиваля. Это – общая беда, некое недоброе поветрие, уже давно преобладающее в нашем обществе: приоритет формы, лицедейства, имитации, шумихи и успеха, которые не идут впрок, над содержанием и смыслами… Но в таком случае возвращение к традиционным ценностям невозможно… Внешний блеск и нищета содержания, историческая неправда не могут возвратить нас к традиционным ценностям.
В связи с этим если – возникает вопрос, то такого порядка: это делается по незнанию или умышленно? Если по незнанию, то такие необразованные люди не должны заниматься этим. А если умышленно, то тут возникает совсем иная мера ответственности, равная той, какая предъявляется теперь иноагентам… Так же, кстати, как и издателям явно коллаборантской литературы, выдавая её за патриотизм казачества.
И только почти шестьдесят лет спустя после Азовского сидения 1637 – 1642 годов, в 1695–1696 годах, царь Пётр I предпринимает свои походы на Азов: армией и всем войском Донским: «По наступлении весны 1695 года одна армия изо ста тысяч человек пошла под предводительством генерала Шереметева по Днепру… другая из тридцати одной тысячи и сухопутно, и водою всего войска Донского под командою боярина Алексея Семёновича Шеина в присутствии Государя 4 июля осадила Азов…» (А. Попов).
Но взять Азов в тот год не удалось. Осада была отложена на 1696 год. В начале весны всё войско на этот раз состояло из 124193 человек, кроме 3997 матросов. Опять-таки, без какого-либо особого выделения хопёрцев, считавшихся донскими казаками, которые таковыми в действительности и были. По прибытии сухопутной армии, атака на Азов началась 16 мая. И только 17 июня город был окружён со всех сторон.
По повелению Государя 29 июня главнокомандующий А.С. Шеин послал коменданту Азова увещевательное письмо о сдаче Азова с выпуском войск и жителей, куда хотят, с оружием и пожитками. Комендант Азова, не находя ниоткуда себе помощи, приказал выставить знак к переговорам: «Турки в 6 часу дня чрез посылку от себя, город россиянам к сдаче объявили, который с отпуском всего гарнизона, 19 июля отдан… Находившихся там 200 человек турков оборвали казаки, и отправили их в степь в серых кафтанах с мешками, в которые дано было им столько хлеба, чтобы степь перейти, а сами с жёнами и с детьми в оную вошли. Азовский же гарнизон с жёнами и с детьми отпущен был на 18 стругах, под препровождением двух российских галер, до реки Кагальника» (А. Ригельман).
О том же писал и А. Попов, существенно уточняя обстоятельства взятия Азова войсками Петра I: «По выпуске 20 числа турецкого гарнизона 3700, граждан 3900, и жён и детей 2000 на 18 бударах рекою Доном до Кагальника; турецкий комендант, оставшийся в Азове для его сдачи встретил в воротах Монарха с главнокомандующим, чиновниками и войском и став на колени, поднёс на серебряном блюде ключ от города». Как писал полковой историк В.Г. Толстов, «19-го июля турки, в числе более 3-х тысяч, покинули Азов, и русские полки вступили в город».
Ну а потом Пётр I, как и подобает «прогрессивному» монарху, придал этому событию, как сказали бы сегодня, соответствующее информационное обеспечение, как грандиозной военной победы: «Его Величество, царь Пётр Алексеевич, для объявления всему государству своему о счастливой победе над Азовом и о взятии онаго, так же и о храбрых подвигах, при том оказанных малороссийскими и донскими казаками с их начальниками, писал во все места и к Московскому Патриарху Адриану, и тем их прославя, обнародовал». (А. Ригельман). И заметим, опять-таки говорится о подвигах малороссийских и донских казаков и их начальников, но ничего не говорится о казаках хопёрских… Конечно и хопёрцы принимали участие в Азовских походах, тем более, что их городки находились на прямом пути к Азову, но какой-то значительной роли в них играть они не могли, так как ко времени этих походов, то есть «к 1695 году, на Хопре существовали уже несколько казачьих городков и станиц, хотя с незначительным на первых порах народонаселением» (В.Г. Толстов).
Но и это взятие Азова войсками Петра I оказалось не окончательным. Его пришлось вернуть туркам по Прутскому договору: «После передачи туркам Азова, по Прутскому договору, наша южная окраина вновь стала открытою для вторжения в наши пределы кубанских и крымских татар, набеги на Дон, в особенности с 1713 года, сделались более частыми» (В.Г. Толстов). И только в 1774 году по Куйчук-Кайнарджинскому мирному трактату с Турцией Азов и азовское побережье отошли к России, что позволило князю Г.А. Потёмкину приступить к созданию Азово-Моздокской линии – единой непрерывной цепи укреплений, защищающей наши южные рубежи.
Этот малый экскурс в историю в нашем повествовании об истории Кубанского казачьего войска совершенно необходим, так как позволяет уточнять его истинную историю, а также пресечь сторонние попытки хопёрской историографией подменять историографию собственно Кубанского казачьего войска, по сути, попытку кубанцев сделать хопёрцами, что само по себе и странно, и ненаучно, так как недоказуемо никакими историческими фактами.
Петр ТКАЧЕНКО
Продолжение следует