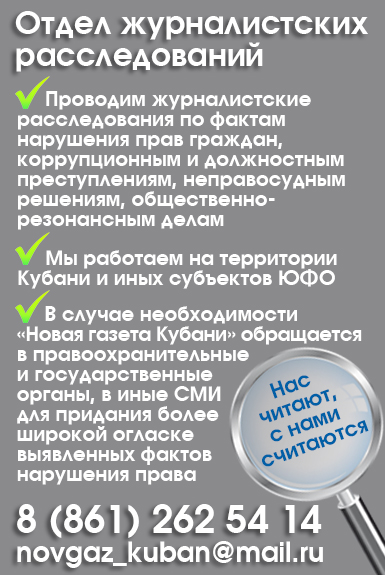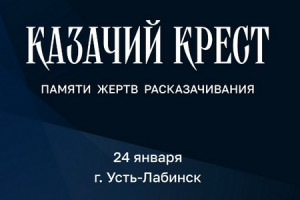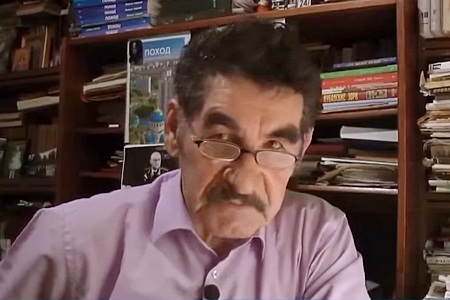
Культурный проект «Родная речь»
719
История с историей кубанского казачества
Начало – Часть 1, Часть2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6
По предписанию от Порты, крымский хан начал сильно теснить донских казаков. Не раз и прежде грозил он согнать их с Дона, а теперь со всей силой налёг на исполнение своей угрозы, из опасения, чтобы важная азовская твердыня, ключ к морю и Крыму, опять не попала в их руки. Осенью 1645 года крымские, азовские, кубанские татары, и темрюкские черкасы (жаны) подступили к Черкасскому городку, передовому и главному оплоту донских казаков… Царь Алексей Михайлович, по прошению донских казаков, послал к ним на выручку дворянина Ждана Кондырева» («Терские казаки с стародавних времён», С-Петербург, 1880).
Это грандиозное событие – взятие донскими и запорожскими казаками самочинно Азова и столь его длительная героическая оборона прочно вошли в народное самосознание, отразившись в историческом и литературном памятнике «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». Цари и вельможи забыли об этом грандиозном подвиге, заслоняя его своими подвигами, но народ крепко о нём помнил и помнит.
На этой «Повести…», на этом историческом и литературном памятнике следует хотя бы вкратце остановиться, так как это уникальное свидетельство времени, о многом говорящее душе и сердцу русского человека. Ведь в нём представлено то, как непросто собиралась Россия в великую державу, как народная стихия соотносилась с верховной властью. С одной стороны, власть, вроде бы, не признавала казаков на окраинах своими подданными, но тем не менее, помогала им. С другой стороны, казачество, несмотря на это, считало себя царскими подданными. А потому на слова турецких толмачей (парламентёров) о том, что от Московского царства им не будет «помощи и выручки» отвечали: мы и без вас «ведаем, какие мы в государстве Московском на Руси люди дорогие, и к чему мы там надобны. Черед мы свой сами ведаем». И несмотря ни на что, патетически говорили о царстве Московском: «Государство великое и пространное Московское многолюдное сияет оно посреди всех государств и орд басурманских и эллинских и персидских яко солнце».
В «Повести об азовском осадном сидении донских казаков», пожалуй, впервые определено с такой ясностью место казачества в Российском государстве, объективное, а не декларативное. В ней не только описана жестокая четырёхмесячная турецкая осада Азова, не только военно-стратегическое значение взятия и защиты этого города, но духовный смысл беспрецедентного подвига казаков. Оборону Азова автор рассматривает как борьбу за веру христианскую и за царство Московское.
Повесть представляет собой «роспись», донесение царю Михаилу Фёдоровичу о четырёхмесячной осаде Азова турками в 1641 году, который казаки захватили в 1637 году без ведома царя, с надеждой на то, что он примет город в державу свою: «Просим милости, сидельцы азовские и которые на Дону в городках своих живут, холопей своих, чтобы пожаловал и чтобы велел у нас принять с рук наших ту свою государеву вотчину».
Неимоверной силой подступили турки к Азову, в 256000 человек. В то время как в городе было всего 7367 защитника. 24 приступа выдержали казаки, делая подкопы и уничтожая наступающих. 96 тысяч турок побито было под стенами Азова. И турки вынуждены были снять осаду и отступить от города: «И от такова их к себе зла и ухищренного промыслу, от всяких лютых нужд, и от духу смрадного трупилова отягчали мы все и изнемогли болезнями лютыми осадными. А все в мале дружине уж остались, переменитца некем… А которые остались мы, холопи государевы, и от осады тои, то все переранены, нет у нас человека целого ни единого, кой бы не пролил крови своея в Азове сидючи, за имя Божие и за веру христианскую». Взятие и удержание Азова автор повести рассматривает в общей борьбе за веру христианскую. А потому и вкладывает в уста казаков ответ турецким толмачам, напоминая им о Царьграде. Взятие Азова, по сути, – ответ на взятие турками Царьграда и поругание веры христианской: «А все то мы применяемся к Иерусалиму и Царьграду, лучится нам так взять у вас Царьград. То царство было христианское… Как предки ваши, басурманы, учинили над Царемградом – взяли его взятьем, убили в нём государя, царя храброго Константина благоверного, побили христиан в нем многие тысячи тьмы, обагрили кровию нашею христианскою все пороги церковныя, до конца искоренили всю веру христианскую. Так бы нам над вами учинить нынече с обрасца вашего. Взять бы его Цареград, взятьем из рук ваших». Официальные донесения, с такой степенью эмоциональности и образности, конечно, не писались и не пишутся. Текст его говорит о высокой образованности автора, о знании им древнерусских воинских повестей и фольклора. И стоит лишь удивляться тому, что им был войсковой подьячий, то есть начальник войсковой канцелярии, в прошлом – беглый холоп князя Н.И. Одоевского…
Но царь «пожаловал турского Ибрагима султана царя, велел донским атаманам и казакам Азов град покинуть». Примечательно, что автор представляет это как повеление царя, хотя распоряжение взорвать и оставить Азов азовские сидельцы получили из Черкас, с Дону… А все, кто остался от азовского сидения, – повествует автор, – все изранены и уже старцы увечные, ни к какому бою и промыслу неспособные, а потому и дали обещание постричься в монастыре, приняв образ монашеский: «За него, Государя, станем Бога молить до веку и за его государское благородие. Его то государскою обороною оборонил нас Бог, верою, от таких турецких сил, а не нашим то молодецким мужеством и промыслом… Поднимем мы, грешные: икону Предтечеву да и пойдем с ним, светом, где он нам велит». Есть воля царская, но есть и воля Божия, которая была для них превыше всего. Как видно из «Повести…», автор её потрясён не только героической обороной Азова, но и отказом царя принять из рук казаков эту вотчину свою. По всей видимости, это и стало главной причиной написания этой повести обращённой уже не только к царю, но и к потомкам.
Турецкие толмачи говорили уничижительно азовцам: «Не впрямь ещё вы на Руси богатыри святорусские». И предлагали им льстиво перейти на службу к султану. Стоит только покаяться и султан простит «все ваши казачьи грубости прежние и нынешнее взятие Азова»: Тогда, мол, вы и станете богатырями святорусскими: «Учинит вам, казакам он, государь, в Царьграде у себя покой великий…станет-то ваша казачья слава вечная во все края от востока до запада… станут вас называть во веки все орды басурманские… святорусские богатыри», что не устрашились вы такими малыми людьми против страшных непобедимых сил царя турецкого». На это казаки отвечали: «Мы люди Божии, холопи государя Московского, а се нарицаемся по крещению христианами, как можем служить царю неверному, оставя пресвятой свет свой здешний и будущий? Во тьму идти не хочется». На Царьград у казаков были иные виды – взять его как место поругания веры христианской. Они действительно остались богатырями святорусскими.
Азовские герои гордо и уверенно говорили: «Потечет наша слава молодецкая во веки по всему свету». Потекла ли? Неимоверный подвиг был заслонён азовскими походами Петра I. А установление старшинства по Петровским походам на Азов и вовсе вычеркнуло из истории героическое взятие и оборону Азова задолго до этих царских походов… Помнит ли кто об этом подвиге теперь?
Хотя, как могут помнить наши современники, если теперь и народное самосознание, не говоря уже об истории, находится под постоянной угрозой радикальных искажений. Разумеется, под лозунгом возвращения к традиционным ценностям. И не только извне, но и изнутри нашего общества. Не могу не привести пример из нынешней жизни, связанный с той давней историей. В июне 2025 года в Усть-Лабинске прошёл очередной Всероссийский форум – фестиваль «Быть казаком». Мероприятие масштабное. И хорошо, что проводятся такие форумы. Но если на них главное внимание уделяется форме и игнорируется их содержание, то это будет уже не о народных традициях и не о казачестве, хотя внешне, вроде бы, о них. В самом деле, странно было участникам фестиваля услышать от учёного секретаря Старочеркасского музея унизительное и издевательское объяснение печати Войска Донского, на которой изображён казак на пороховой бочке. Учёный секретарь, не отягчённая познаниями, вполне серьёзно уверяла потомков казаков, что казак сидит на бочке с вином, поскольку, надо полагать, он – пьяница и гуляка. То есть, уверяла потомков казаков в том, какими никчёмными и недотёпистыми были их предки… Но до такой степени искажать свою историю и унижать народ никому не позволительно. И ладно, если бы это делал несведущий обыватель. Но ведь – человек, вроде бы, «учёный». Но если у нас такие «учёные» – это беда, и для общества, и для народа…
То, что это пороховая бочка, а не винная, хорошо было известно не только нашим далёким предкам, но и в последующие времена, вплоть до сегодняшнего дня, что отразилось в присловье «Жить, как на пороховой бочке», «Жизнь на пороховой бочке». То есть, жить в постоянной опасности. Откуда в нашей нынешней речи эта «пороховая бочка»? С тех времён, когда такими пороховыми бочками, не имея осадной артиллерии, казаки подрывали неприятельские крепости, делая подкопы под них.
Как известно, войсковую серебряную печать с надписью «Печать Войска Донского» Пётр I пожаловал донским казакам вместе с грамотой за верную службу в 1704 году. На печати был изображён казак, обнажённый по пояс, сидящий на бочке. В правой руке у него ружьё (фузея), в левой – рог, расширенной частью вниз, перед ним нечто на бочке, в чём А. Ригельман усмотрел чарку («на бочке перед ним стояла чарка»). Разумеется, Император, жаловавший войско, имел ввиду вовсе не бочку с вином, позорящую казака, что усмотрели уже поздние толкователи. Царь же, тем самым, подчеркивал оригинальную и эффективную подрывную тактику казаков. Ведь печать, как и герб, есть символ, выражающий самое главное, характеризующее историческую жизнь и деятельность народа.
В левой руке у казака не рог, тем более перевёрнутый, а натруска, из которой насыпался измельчённый порох в запальную трубку, в которой усмотрели чарку. Натруска вставлялась в запальник и выполняла роль бикфордова шнура, давая возможность казаку, поджигавшему её, успеть выбраться из подкопа наружу. Кроме того, казаки использовали подкопную тактику с пороховыми бочками для защиты своих городков, когда подземные ходы делались далеко в степь и подрывались при приближении неприятеля.
Этот прекрасный образ казака-героя, выработавшего такую тактику борьбы, воплотил в своей работе «Казак на пороховой бочке. (Печать Войска Донского)» один из самых талантливых ныне скульпторов Константин Чернявский (2018 г.). Основательно изучив исторические источники, он обнаружил, что прообраз такой печати был у донских казаков уже в 1552 году при осаде Казани, в которой они участвовали… Пётр I же только следовал давней традиции. Казак обнажённый не потому, что «пропил» одежду, а потому, что совершать адский труд в подкопах иначе было невозможно. А бочка – не с металлическими обручами, что могло высечь искру от столкновения о камень, а со жгутами. Всё было продумано у казаков.
Петр ТКАЧЕНКО
Продолжение следует
Свежее из рубрики